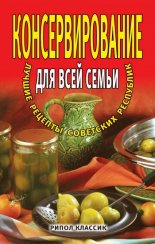Корабли идут на бастионы Яхонтова Марианна

11
Изба деревенского старосты была с утра полна народом.
Староста приходился сватом адмиральскому камердинеру и считал за честь угостить знаменитого родственника.
Старый слуга Ушакова Федор сидел в красном углу под образами. Бритое лицо его выражало приличное случаю достоинство и важность. На нем был новый кафтан с медными пуговицами, зеленый адмиральский камзол и шелковый, тоже адмиральский, шейный платок. Ел Федор медленно, как бы нехотя, явно делая этим одолжение хозяину. Говорил он только с самим старостой и наиболее почетными гостями. Женщин, в том числе и хозяйку, он совсем не замечал, словно по избе ходили и прислуживали ему незримые духи.
Большинство посетителей стояли в почтительном отдалении и жадно созерцали невиданное зрелище.
Староста, небольшой юркий старичок, с хитрыми подслеповатыми глазками, осторожно хлопал Федора по колену и повторял:
– Ты, Федор Никитич, человек правильный…
Федор со снисходительным пренебрежением оглядывал слушателей и шевелил густыми сивыми бровями. Он давно привык считать себя человеком самого последнего ранга и, чтоб порой как-нибудь повысить этот ранг, говорил адмиралу грубости или напивался пьяным и тогда предавался такому буйству, что отовсюду сбегались зеваки смотреть на него. Теперь же, снова попав в деревню, он вдруг почувствовал, что есть ранги куда ниже его и что здесь он не только первый человек, а, пожалуй, еще и герой. Несмотря на презрение к миру и людям, Федор любил почет, и жадное внимание крестьян возбудило в нем нечто похожее на вдохновение.
– Чего вы видели? – спрашивал он, начиная, как всегда, с поучения. – Чего вы можете понимать?
Все молчали, не решаясь похвастаться своим пониманием.
– Хата да поле, – продолжал Федор. – Поел, поработал, опять поел да вахлаков народил. Вот и все дела ваши.
– Это – что говорить, – вздохнул бородатый крестьянин, похожий на цыгана.
– Видали вы море-океан? – спросил Федор и обвел всех испытующим взглядом.
– Где нам, Федор Никитич! – ласково и сокрушенно отвечал за всех староста. – Свет-то для нас, ровно поскотина, огорожен. Дальше прясла ничего не видели. В своем городе, в Темникове, и то только по базарным дням бываем.
Федор строго оглядел слушателей.
– Так, суетность у вас: вокруг себя все. А там политика, дела военные, до многих государств касаемые.
Федор никогда не думал, что слова могут доставлять такое острое удовольствие. А сейчас, произнося слова «государство» и «политика», слова большие и захватывающие, он чувствовал, как вкусно и горячо становится во рту.
– Какая же такая политика, Федор Никитич? – осторожно спросил староста.
– Очень, братец мой, хорошая. Сам человек ничего не делает, только другим указывает: иди, мол, туда или сюда и хоть помри, а исполни. И все исполняют.
– И вы так приказывали? – спросил крестьянин, похожий на цыгана, и что-то дрогнуло в его густой бороде и усах.
Федор хоть и смутно, но уловил в его тоне оппозицию и, пожалуй, даже усмешку.
– И я приказывал, – отвечал он высокомерно, – Я двадцать… двадцать одно сражение произошел.
– Многонько! – сказал моложавый старик, одетый в полушубок и подпоясанный ярким поясом.
Он хоть принадлежал к гостям почетным, так как сидел на лавке, свободно развалясь и вытянув ноги, но, видимо, намеревался поддержать оппозицию.
Но это не смутило Федора.
– Некоторые люди за печкой сидят, другие кровь проливают, – отвечал он, адресуясь прямо к моложавому старику. – Война идет не день и не месяц, а годами исчисляется. Так тут и не двадцать, а сорок сражений бывает. А на море-океане всего хуже. Тут каждый день смерть. Ежели от огня уцелеешь, в воде потонешь. А погода такая бывает, что корабль так с боку на бок и валится, вещи со столов все летят, а люди, как шары в ящике, катаются. И все нутро им выворачивает.
В избе стало тихо, и даже хозяйка, вынувшая из печки рыбник, так и осталась стоять с деревянной тарелкой в руках.
– Ветра там четыре, – продолжал очень довольный таким вниманием Федор, – спереди – галфин, справа – фордевин, слева – бейдевин, а сзади так вовсе бакштаг. И как сразу все задуют, так весь океан, ровно котел, закипит, и волна тогда выше колокольни и идет на тебя, как гора.
Все гости, не исключая оппозиции, глядели Федору в рот, видимо пораженные нарисованной им страшной картиной. А Федор пил кружку за кружкой, и мрачная его фантазия разыгрывалась все сильней.
Корабли в пламени, гул такой, что лопаются уши, на палубах – горы трупов, кровь течет за борт. Воздух стонет от жалости и скорби. А турки, взывая к Магомету, молят о пощаде. Только Федор, не зная страха, учит бесстрашно других.
– У всех душа мрет. А я ничего, привык… – охрипшим от вдохновения голосом говорил Федор, разматывая шейный платок.
– А барин что? – вдруг спросил «цыган».
– В самом деле, Федор Никитич, – поддержал моложавый старик. – Ведь, сказывают, это барин наш всех турков побил.
Федор удивленно посмотрел на старика. Он так увлекся, что ему казалось, будто в страшных событиях, нарисованных им, не было других участников, кроме него самого.
– Барин? – повторил Федор. – Барин – он тоже сражался… ничего… изрядно…
Федор упустил нить своих мыслей. Он почесал подбородок, выпил еще кружку пива и хотел было начать снова. Но взглянул нечаянно на дверь. Там среди клубов морозного пара, врывавшегося из сеней, стоял адмирал.
Лицо Федора сначала побелело, потом налилось кровью. Он не мог отдать на посмеяние свое торжество, может быть, то единственное мгновение, когда люди верили, что он большой человек. Грубая, бессмысленная дерзость готова была сорваться с языка Федора, как только Ушаков уличит его во лжи.
Но адмирал сказал весело и дружелюбно:
– Федор Никитич у нас герой. Во всех сражениях участвовал. Не каждому человеку так много видать довелось.
Люди вскочили с лавок. Староста кинулся к барину.
Его жена и дочь, одергивая сарафаны, побежали за ним, как утки за селезнем. Лишь Федор остался на месте.
Крестьяне кланялись, наотмашь закидывая назад густо заросшие затылки. Староста целовал адмирала в плечо, а женщины плакали, вытирая лица концами платков и фартуков.
Адмирала повели к столу. Староста шел, пятясь задом, кланялся и приговаривал ласковой скороговоркой:
– Не побрезгуйте, батюшка, откушайте.
Женщины метались, впопыхах искали чистое полотенце. После долгой беготни жена старосты, вся пунцовая, шумно дыша, поднесла Ушакову чарку водки и закуску.
Адмирал хотел быть веселым, но в эту полутемную крестьянскую избу вошла вместе с ним и та унылая тоска, которая сопровождала его всю дорогу и в которой тесно переплелись и опасения за Непенина, и арест Новикова, и толпы голодающих на станциях и в пути. Ушаков много видел на своем веку, но изба старосты все же поразила его своей духотой, теснотой и глядевшей отовсюду бедностью. А ведь староста был состоятельным человеком в деревне. Как же тогда жили другие?
Огромная неуклюжая печь занимала, как и в барском доме, едва ли не третью часть всего помещения. Топили ее, как обычно, по-черному и стены вверху были покрыты блестящей, уже не пачкавшей руки копотью. Тусклый свет падал из оконца, затянутого бычьим пузырем. На холодном земляном полу ползали полуголые ребятишки, Испуганный общей суматохой теленок засеменил в темноту, где торчала солома, а из-под печки выглянули и тотчас спрятались тощие куры с лиловыми головами. Недалеко от печи висела люлька, похожая на галочье гнездо. Из нее, из-под кучи тряпья, тонкий голосок тянул непрерывное: а-а-а!
Неурожай не коснулся Темниковского уезда, и Ушаков надеялся, что крестьяне, с которых он не брал даже оброка, живут лучше других. А оказалось, что действительность не имела ничего общего с оптимистическими предположениями адмирала.
– Давно не видались, – говорил он. – Состарились все, никого не узнаю.
Он стал угадывать в бородатых мужиках своих прежних сверстников, с которыми когда-то бегал ловить рыбу и ставить силки.
– Постой, постой, – говорил он, вытирая платком губы, – ты, что ли, Михей?
Невысокий плотный крестьянин с кривым глазом сконфузился от общего внимания и от того, что барин ошибся.
– Никак нет, ваше превосходительство, Михей помер давно. Он был с роду кривой, а я лет пять как глаз в лесу попортил, сучьем выкололо.
Взгляд Ушакова затуманился.
– Как далеко все ушло! Как далеко! – покачивая головой и переводя глаза с одного лица на другое, бормотал адмирал и вдруг радостно воскликнул: – Теперь не ошибусь! Цыган! Савка! Савва!
– Он самый, батюшка, он самый! – отвечали все разом.
А Савва мял шапку и кланялся.
– Ведь мы с тобой на старых воротах по речке плавали, – рассмеялся Ушаков.
– Это точно, – ответил Савва.
То, что барин вспомнил пору мальчишества, видимо, доставило всем большое удовольствие. Многие бородачи стали наперебой подсказывать различные случаи из прошлого, в которых Ушаков участвовал подростком.
Адмирал мельком оглянулся на Федора. Тот стоя тянул из кружки. Он один ничего не вспоминал.
– Ну, а как ты живешь? – спросил Ушаков Савву.
– Хорошо, – отвечал Савва.
Он искренне так думал, потому что были люди, которые жили хуже. Случилось как-то ему сломать руку. Для рабочего человека это было настоящим бедствием. Но Савва вспомнил, что его сосед однажды упал с крыши, когда менял на ней сгнившую солому, и сломал обе руки. Разумеется, лишиться на время одной руки гораздо лучше, чем двух, и Савва почел себя счастливым. Его житейская вера и заключалась в том, что каково бы ни было его положение, могло быть хуже, а потому надо быть довольным тем, что есть.
Однако, когда он сказал, что живет хорошо, староста только покачал головой, а румяный старик в полушубке сказал:
– У него рыбка да рябки берут красные деньки.
Как человек серьезный, старик полагал, что такое никчемное занятие, как ловля рыбы и охота, вредит хозяйству, порой даже и вовсе его разоряет. А Савва имел к этим занятиям неодолимую страсть, поэтому не только старик, а и другие хорошие хозяева относились к Савве с некоторым пренебрежением.
Старик в полушубке степенно расправил бороду. От него так и веяло здоровьем, морозом и затаенной, осторожной тишиной. Человек этот, видимо, ничего не говорил зря, людей видел насквозь, но принимал порой какой-то благодушно-пряничный вид эдакого доброго и недалекого деда, у которого нет другого дела, как нянчиться с внуками и рассказывать им сказки. Но его голубые холодноватые и, несмотря на годы, ясные глаза не оставляли сомнения в том, что сказкам этот человек не верит и не тешит ими ни себя, ни других. Он, как потом узнал Ушаков, даже не очень «прилежал» к церкви, считая всех духовных особ тунеядцами и лентяями. Он и составил себе убеждение, что все зло на свете происходит от неволи, которая тяготеет над простыми людьми, и от лени, равно присущей всем сословиям. Свою большую семью он день и ночь «морил» на работе, имея в виду одну цель: когда-нибудь откупиться на свободу вместе с сыновьями, невестками и внуками.
Адмирал своих крестьян не притеснял, и жить было можно, но человек не вечен, особенно хороший, и имение должно было перейти после его смерти к его брату Ивану Ушакову, которого старик считал сквалыгой, и тогда житье пойдет каторжное. Поэтому старик торопился прикладывать копейку к копейке, гривенник к гривеннику. И воля и руки у него были железные, и никто, кроме старшего сына, не знал, где хранит он скопленные деньги.
– А скажите, батюшка, ваше превосходительство, как насчет войны? Будет ли, нет в нынешнем году? – спросил он деловым и в то же время наивным тоном пряничного деда.
– Точно сказать не могу, – ответил адмирал. – Но французы очень того желают и всячески натравливают на нас султана. Думаю, что этот год пройдет спокойно.
– Так, батюшка…
И в уме старика, вероятно, зашевелились привычные хозяйственные соображения.
– А как вы, батюшка Федор Федорович, турок били? – спросил староста. – Мы о том не раз слышали.
Староста очень любил слушать о войнах и всяких важных событиях, и когда говорил с людьми, ему равными, то высказывал замечания «согласно своему рассудку». А свой рассудок он считал не последним.
«Как я им объясню? – подумал Ушаков. – Ведь это не канониры и не служители. Они и моря никогда не видали».
Но он оглянулся на теснившихся у двери ребятишек и весело крикнул:
– А ну-ка, ребята, кто из вас самый резвый бегун… сбегай ко мне да принеси бумагу, перо и чернила! Живо!
Стайка ребят мигом вылетела из избы.
– А шведы-то нынче как? – продолжал любопытствовать старик в цветном кушаке. – Притихли?
– Притихли, – сказал адмирал. – Не только замирились с нами, но и союз заключили на случай нападения общего врага.
О каком враге шла речь, он объяснять не стал, так как считал вредным разговаривать с крестьянами о французских «якобинцах», свергнувших своего короля. Его очень интересовало, слышали его крестьяне что-нибудь о французской смуте или нет, но лучше было оставить это неясным, чем тревожить их умы такими опасными по теперешним временам вопросами.
Когда ребятишки с шумом ворвались в избу и торжественно вручили адмиралу бумагу и чернила, большой крепкий стол, за которым могли разместиться разом двенадцать душ, заскрипел и застонал от навалившихся на него людей.
Привычной рукой Ушаков уже рисовал на бумаге крупные фигуры, изображавшие корабли.
– Вот это наши, а это вот турецкие корабли, – объяснил он. – Это вот песчаная коса Тендра. Корабль с флажком – наш главный корабль, флагманом называется. Тут мы с Федором во время сражения были. А это вот корабль турецкого адмирала.
И Ушаков рассказал слушателям о сражении у Тендры и Гаджибея, о том, как очутился один русский корабль среди турецких и как командир его обманул турок, как бежали и садились на мель турецкие корабли и как взлетел на воздух главный турецкий корабль «Капудания».
Несмотря на то, что адмирал говорил очень просто и не рассказывал ни о горах трупов, ни о реках огня, ни о разверзшейся морской бездне, его слушали с напряженным вниманием.
Задавать вопросы осмелился сначала только староста. Он нерешительно ткнул пальцем в турецкий адмиральский корабль и сказал:
– Значит, дали ему жару? А?
– Дали, Савелий Иванович, – ответил адмирал. – В этом была и задача, чтобы прежде всего главный турецкий корабль уничтожить.
После этого осмелел и моложавый старик. Крепкий палец его тоже задвигался по бумаге.
– Ловко это, батюшка, придумал ты главных начальников у турок бить! Чтобы соображения и порядку у них не стало. Значит, тогда все они и побежали.
– Верно, дедушка, говоришь. Без соображения и порядку сражения вести нельзя.
За стариком осмелели другие: смотрели в план сражения, начерченный Ушаковым, интересовались подробностями. Всем хотелось знать, где сражался тот или иной русский корабль и какой урон нанес неприятелю.
Более энергичные слушатели оттеснили Савву от стола. Он поднялся на носки, вытянулся и жадно глядел в бумагу.
– Очаков-город, где он тут?
При этом веки его задрожали, а темные пальцы стали быстро теребить костылек, заменявший пуговицу на его кафтане.
– Очаков – вот он, – сказал адмирал, рисуя на карте неровный кружок. – Зачем тебе именно Очаков, Савва?
– У него там сын от ран помер, – сообщил кто-то. – В гренадерах служил.
А староста, как бы поясняя, добавил:
– Тоже свою сторону защищал его-то Григорий. Ладный такой парень был.
Адмирал пристально посмотрел на Савву, все еще тянувшегося к бумаге, чтобы дотронуться до кружка, обозначавшего Очаков.
– Дай бог всякому умереть такой почетной смертью! – сказал Ушаков.
И за спиной у него тотчас же послышался многоголосый дружный говор:
– За свою сторону помереть не страшно.
– Ежели солдата убьют в сражении или ему от ран помереть придется, душа его прямо в рай идет, – убежденно сказал старик в полушубке. В это он твердо верил и считал, что его отец, тоже солдат, погибший во время похода Миниха, причтен к лику мучеников.
И беседа о турках, о войнах и о значении Черноморского флота для русского государства стала еще оживленней.
Когда Ушаков в сопровождении Федора и Саввы вышел из избы старосты, был вечер. На небе зажглась первая, еще одинокая, зеленая звезда.
Деревня утопала в сугробах. Кое-где в маленьких подслеповатых оконцах желтели огоньки лучин. А вокруг на многие версты стыли белые снежные косогоры, бежали во все стороны поля, да темнели вдали узкие полоски леса.
Какой-то невнятной, невысказанной печалью веяло от знакомой родной картины. И адмирал, словно подбадривая себя, старался тверже шагать по тропинке, протоптанной среди сугробов к барскому дому.
Странным казалось ему, что именно здесь, среди бедных полузанесенных изб, у простых людей, он находил настоящий искренний интерес к тому делу, которому посвятил себя. Люди эти жили тяжелой трудовой жизнью, не оставлявшей для них ни одного праздного часа, но они все-таки думали не только о шлеях, как делал это его родной брат, и не только о своих выгодах и благополучии, как те вельможи, которых он видел в Петербурге.
Стало скучно от одной только мысли, что сейчас он придет домой, к брату, увидит его беспокойные, бегающие глаза и услышит нудный, жалующий голос.
Эх, скудеет, видно, все-таки русское дворянство, на котором лежат главные заботы о делах Российского государства. Но, слава богу, велика русская земля и нет числа в ней людям, пекущимся о благополучии и славе отечества.
Адмирал остановился посреди улицы и спросил Савву:
– А ты помнишь, как мы с тобой да с прежним старостой ходили на медведя?
– Как не помнить, – улыбнулся Савва. – Я и теперь хожу. Недавно берлогу высмотрел. Надо быть, медведь матерый.
– Так и я пойду с тобою, – решил адмирал, радуясь неожиданной возможности сократить срок свидания с братом.
Уехать теперь же было неудобно, в то же время он не мог представить себе, что придется изо дня в день выслушивать жалобы и попреки брата Ивана. Да и возможность побывать на охоте так увлекла его, что, если бы не позднее время, он отправился бы в лес сейчас же, не заходя домой.
– Пойдем, Федор, поутру на косолапого, – не без хитрецы в голосе предложил старому слуге адмирал. – Покажешь, сколь отважен стал после двадцати морских баталий.
И весело засмеялся, глядя на обескураженного Федора.
12
Прошло более двух месяцев с тех пор, как Ушаков покинул Петербург. В Екатеринославе снег уже стаял, и начинала зеленеть степь. Похоже было, что за Днепром стлался зеленый дым. В воздухе чувствовалась влага, и дороги еще не пылили.
Оставив денщика и Федора на станции стеречь поклажу, Ушаков отправился обедать в трактир. Там хозяин обещал ему такого гуся, какого вряд ли едала сама царица. Гусь, очевидно, еще плавал в большой луже, подходившей к заднему крыльцу трактира, так как ждать его пришлось очень долго. Чтоб время не казалось его превосходительству слишком длинным, хозяин почтительно предложил себя в собеседники. По четкому, несмотря на возраст, шагу и по привычке прямо держать плечи Ушаков угадал в нем бывшего солдата.
Трактирщик подтвердил, что был унтер-офицером и участвовал в первой турецкой войне. После боя при Кагуле он приобрел кое-что в брошенном бежавшими турками лагере, скопил деньжонок и, отслужив, поселился здесь. Это, по его словам, было ошибкой, но он уже считал себя слишком старым, чтоб начинать жизнь заново на другом месте.
– Почему ты считаешь это ошибкой? – спросил адмирал.
– Светлейший князь городу сему несметные богатства предрекал, а сами изволите видеть, что и за город такое место считать нельзя. Когда звали нас тут селиться, царство небесное сулили. Вот отсюдова его и видно.
Бывший унтер-офицер, усмехнувшись, указал на широкую улицу, затопленную жидкой грязью. Кругом расстилалась степь, покрытая зеленым пухом, как ягненок первой шерстью. Но куда ни хватал глаз, она была пустынной, и только ястреба парили в небе, высматривая добычу.
В полуверсте от Днепра, там, где, наподобие крепостного вала, поднималась гора, теснились белые домики. Их насчитывалось десятка три, и почти все они были крыты соломой. Две церкви с красными колокольнями, похожими на высоких баб в сарафанах, стояли на голом скате. Лишь на горе виднелись большие каменные строения.
– Спервоначалу город на той стороне был, – объяснял хозяин. – Основали его после турецкой войны и селиться звали. Не разочли только, что весной все мы словно Ной в ковчеге. Река на десяток верст кругом все заливает. Сам начальник околь своего дома бывало в корыте плавал.
Старый унтер-офицер хоть и говорил спокойно и тихо, но под его длинными седыми усами то и дело мелькала злая и презрительная усмешка. Он, как видно, имел большой опыт, убедивший его в том, что глупости начальников никакого предела не положено. И пусть бы они дурили, как им в голову придет, да люди, которые от них зависят, расплачиваются собственными карманами.
– По причине такого неудобства, что река заливает, город оставлен без внимания, и начальство все в Кременчуг перевелось. Потом опять передумали и велели нам сюда, на этот берег, переселиться, – заметил хозяин и почесал в затылке с явным неодобрением.
– Но ведь там заливало город, а здесь берег выше, – сказал адмирал, сам не понимая, почему его раздражало все, что говорил этот обрюзглый и сварливый человек. Ушаков знал историю города, и старый унтер-офицер ничего нового к этой истории не прибавил. Возможно, что адмиралу не нравился тон его речи, а потому были неприятны и его жирные плечи, и потное лицо, и холодно-жесткий взгляд, взгляд человека, который уже не намерен обманываться никакими обещаниями.
– Это точно, что не заливает здесь, – усмехнулся хозяин, – да только дом на закорках не перенесешь, все заведенье тоже. За перевоз надо деньги платить.
– Да ведь казна деньги платила, – снова возразил Ушаков, едва сдерживаясь, чтоб не сказать резкого слова.
– Казна, ваше превосходительство, платить обещала. Только вот уже пять лет прошло, как никто гроша не видал, да и еще столько пройдет. Сулили, это точно.
Говорил он без малейшего опасения, видимо решив, что его гость хоть и адмирал, но, как видно, не из знатных, так как не было с ним ни карет, ни челяди, а старый мундир, надетый в дорогу, в двух местах был не очень искусно заштопан.
– А что там за строения на горе? – спросил адмирал, чтоб покончить с неприятным разговором.
– А это дворец, ваше превосходительство. Государыня две ночи в нем ночевать изволили, – самым простодушным тоном сказал трактирщик, но в голосе его слышалась откровенная насмешка. – А это вон дом губернаторский, сады при нем аглицкие.
– Разве губернатор здесь живет?
– Никак нет. Дом так стоит.
– Ну, так ли он стоит, этак ли, а обедать пора. Скоро ли у тебя?
– А сейчас, ваше превосходительство.
Не выразив ни удивления, ни неудовольствия на крутой поворот беседы, хозяин вышел из комнаты. Адмирал проводил его неприязненным взглядом и тут же решил, что этот человек, несомненно, обирал всех, кто имел с ним дело, недаром он столько заломил за гуся. Нет, ничего, видно, не осталось в этом грязном толстосуме от бравого солдата.
После обеда адмирал отослал почти целиком оставшегося гуся на станцию своему Федору и денщику, а сам пошел осматривать город, о котором рассказывали так много дурного.
Широкая немощеная улица вела к каменным строениям на горе. Домики были разбросаны, словно их сдуло с горы ветром. Только лавки и амбары выстроились в строгом порядке, рядами, друг против друга. Лавки были темны, свет в них проникал через открытые двери. На помосте со ступенями, шедшем вдоль каждого ряда, играли ребятишки и суетливо деловой походкой сновали куры.
На пороге одной из лавок сидел плотный молодой лавочник, положив голову на колени румяной белокурой женщине. Женщина с озабоченным и серьезным лицом, придерживая зубами кончик развязавшегося платка, искала у мужа в голове.
Недалеко от них отдыхал слепой нищий, с бандурой за спиной. Он ел хлеб, короткими рывками отламывая, куски, и тогда струны бандуры звенели, словно спросонья. Мальчик-поводырь спал на земле у ног нищего.
Пока адмирал шел вдоль рядов, он не встретил ни одного покупателя. Потом потянулись плетни и выбеленные домики дворян и купцов, отличавшиеся друг от друга только размером. Многие из них были окружены небольшими садами с вишнями и яблонями. Почти все пространство вокруг города занимали бахчи, сейчас еще черные и безлюдные. Скучны были широкие немощеные улицы, скучен весь городок, явившийся на свет по мановению властной руки Потемкина и уже забытый теми, кто вызвал его к жизни.
Сокращая расстояние, Ушаков поднялся на гору не по улице, а прямиком по молодому лопуху и чуть высунувшейся из земли крапиве, которую яростно пожирали поросята.
Вскоре адмирал очутился перед двухэтажным зданием дворца настолько легкой и гармоничной архитектуры, что казалось, материал, из которого оно было сооружено, потерял свою реальную тяжесть. Дворец выступал вперед полукругом. Его карниз, изображавший бой богов с титанами, поддерживали простые, дорического ордера, колонны. От колоннады шли белые ступени. Высокие двери были открыты настежь, и, что сразу поразило адмирала, сквозь них блеснула яркая гладь Днепра, словно дом был прозрачным.
Он действительно был таким. В окнах его не осталось ни стекол, ни рам. Солнечный свет свободно гулял по залам. Крыша светилась, словно ночью звездное небо, столько в ней было дыр. И все время гремело и скрипело вверху оторванное железо. На полу лежали куски отвалившейся штукатурки, на одной из которых была видна гипсовая рука, державшая конец вьющейся гипсовой гирлянды.
Ушаков переходил из одного зала в другой. Под ногами его хрустела известка, а над головой с тревожным криком метались ласточки. В одной из комнат еще висела люстра, вся покрытая птичьим пометом, в другой лежало сено и старый котелок с прогоревшим дном. Здесь, как видно, даже разводили огонь, потому что лежали угли и почернела стена.
Адмирал вышел на террасу. Между плитами белого камня пробивалась трава. Стуча быстрыми копытцами и роняя орешки, шарахнулись овцы. Огромный сад с каштанами, персиковыми и абрикосовыми деревьями давно засох, порос бурьяном. Среди этого разрушения прекрасным было одно: спокойный широкий Днепр в своем бесконечном степном ложе. С берега его струился дымок, и в просторе чистого синего неба носились ястреба.
Адмирал сел на ступени террасы. Овцы быстро жевали траву и смотрели на него серо-зелеными, похожими на пуговицы глазами. А когда им надоело смотреть, они ушли, перекликаясь резкими дребезжащими голосами, напоминавшими старческий смех.
Ушаков еще раз взглянул на прекрасное здание дворца, как видно, созданное большим художником на одну только неделю, а может быть, даже на день, ибо Потемкин мог себе позволить роскошь, выкинуть на ветер труд сотен и тысяч людей, миллионы рублей.
Адмирал почему-то вспомнил, как потемкинский флот впервые вышел в море. Тяжелые корабли из сырого дерева, их расшатавшиеся в бурю борты, лопающиеся фордуны, рвущийся такелаж и приказ светлейшего атаковать, «хотя всем пропасть». И Ушаков и все, кто был тогда с ним, не боялись пропасть, но почему же все-таки о них так мало думали? Почему так дешевы люди на Руси? И как изменить все это? Как сделать, чтобы поднялась цена человеку? Как сделать, чтоб его труд не растранжиривался так бессмысленно, как затрачен он на этот дворец?
Днепр потемнел, побежала рябь по его глади. В саду закачались опутанные рваной паутиной яблони и засохшие персиковые деревья.
Совсем близко послышался звук задетой струны, неожиданный и странный среди безлюдья.
Адмирал прислушался. Звон повторился совсем близко. Из-под горы вышел бандурист со своим поводырем. На коричневом лице мальчика блестели серые испуганные глаза. Он что-то быстро пробормотал слепцу. Старик поправил гайтан на запекшейся, как картофель, шее и остановился с видом безразличной покорности.
Мальчик почесал грудь, раздумывая, уйти или подождать, пока удалится неожиданный посетитель.
Адмирал понял, что это и есть обитатели дворца, боящиеся при нем войти в свое жилище.
– Проходите, проходите, я сейчас уйду, – сказал адмирал.
Он опустил руку в карман, и мальчик улыбнулся доверчивой и вместе лукавой улыбкой, какой когда-то улыбнулась Ушакову маленькая Алимэ. И вдруг нестерпимо острое чувство тоски о том, что это мгновение ушло в какую-то непомерную даль, кольнуло душу Ушакова. Даль эта почему-то измерялась не прошедшими годами, а была похожа на синее небо, везде одинаково пустое и непроницаемое для глаз. Что это было? Прежде адмирал никогда с такой остротой не жалел прошлого.
Он протянул мальчику несколько медных монет. Тот опять что-то шепнул старику, и они сели на нижнюю ступеньку.
Адмиралу не хотелось говорить, но как-то неудобно было не спросить старика о его жизни.
Слепой словно только этого и ждал. Он, видимо, сам любил рассказывать и говорил так плавно и гладко о прошлом, как говорят старики всегда об одном и том же и всегда в одних и тех же выражениях. Он даже посмеивался над собой, и шутки его, повторяясь десятки раз, не надоедали ему. А мальчик развлекался тем, что, лежа на животе, кидал в ласточек камешками и каждый раз, давая промах, искоса взглядывал на адмирала.
Оказалось, что старик был из экономических крестьян Владимирской губернии. Когда монастырские земли перешли к казне, надел его оказался меньше, чем было положено на душу.
– Уж как там считали, один Господь ведает, – говорил старик, сокрушенно качая головой. – Что будешь делать? Считали все люди ученые, ну и высчитали так, что хоть сей, хоть так поглядывай.
Он приостановился, желая дать адмиралу время посмеяться.
– Тут как раз пошел разговор, что зовут людей селиться на Украину. Земли сколько хочешь, и хозяев нет.
А как старик ушел на Украину, он предпочитал не рассказывать. На Украине, точно, земли было много, но для людей, что пришли туда почти с пустыми руками и с одной лошадью, предстояли годы бесконечного и томительного труда. Вставали затемно и затемно ложились. Двое – сын и дочь – умерли. Те, кто выжил, дождались лучшего.
– Начальник, который землей оделял, тогда был строгий. Присказки всякие любил. Так и тут говорит: «Хошь бери, хошь нет. А по мне, дают – бери, а бьют – беги». Во все ноги, – добавил старик уже от себя и снова подождал, чтоб адмирал оценил шутку. – У меня руки были умные до рукомесла, что погляжу, все сделаю, – продолжал старик. – И дом состроить, и телегу изладить или, скажем, кожи выделать, и другое что – все умел.
У него уже было полное хозяйство, когда пришли солдаты и велели выселяться к Днепру, где строились новые города и деревни на пути следования императрицы.
– Тут уж все прахом пошло. Не мог подняться, стар стал. Сыновья потом в Крым подались, кто куда. А я тут еще глаз повредил. Дрова колол – щепка попала. Сколько колол – ничего, а тут беда такая! И не знаю, как случилось. Говорят люди, темная вода. А кто его знает? Другим-то глазом хоть и худо, а вижу… Только людям не сказываю, как бы не обиделись. Смолоду-то веселым был, для забавы на бандуре играл, а теперь вот так и кормлюсь.
– Мальчик-то внук тебе?
– Дочери меньшой сын. Тут болезнь прилипчивая ходила и дочь и зятя в одночасье прибрала. Помирать-то бы мне, – вздохнул бандурист, – да, видимо, нагрешил много, земля не берет.
И он подмигнул адмиралу странно веселым, но уже мутневшим глазом. Если б старик плакал, жаловался, рассказ его не произвел бы такого впечатления, как теперь с этой болтливой веселостью. Может быть, веселость эта защищала его от уныния, может быть, он надеялся ею выманить лишний пятак.
– В крыльцах[1] тягость ношу, – сказал он. – Словно котомку на спине таскаю.
И старик зевнул, крестя рот и прикрывая его темной, словно выпачканной в золе ладонью.
Адмирал связывал узлом две крепкие и тонкие травинки.
В делах светлейшего князя Потемкина далеко не все было прекрасным. Чудовищным был этот город, построенный по единому капризу, ради двух ночей, проведенных в нем «матушкой Екатериной». Когда прошли эти ночи, он был забыт. А как пышен был город, когда его наносили на карту. А за ним десятки деревень с арками и цветами, куда сгоняли людей, чтоб деревни казались живыми. Десятки тысяч статистов в опере, сыгранной один раз! Из окон карет, с золоченых императорских барок новоприобретенный край казался богатым и цветущим, как Эдем[2]. Князь подготовил этот обман, а императрица приняла его, так как поверить, что народ счастлив, очень легко, трудно на самом деле сделать его счастливым.
Ушаков встал. Днепр чуть набегал на чистый холодящий песок. Рябь на реке струилась, как в розовое сито. Паутина, похожая на куски рваной кисеи, висела на ветвях мертвых яблонь. И полуразрушенный дворец, казалось, дремал той же дремой, как и сидевший на его ступенях нищий старик бандурист.
13
Первое известие, которым встретил Ушакова Севастополь, оказалось нерадостным. Командир фрегата, шедшего из Херсона, капитан Куликов принял случайные огни за свет маяка. В бурную, с ливнем и ветром, штормовую ночь фрегат приткнулся к банке. К великой радости Куликова, повреждений было обнаружено мало. Их исправили, и фрегат благополучно достиг Севастополя.
Капитан уже готов был возблагодарить судьбу, но едва фрегат занял место на рейде, как в трюме была замечена течь. Трюм очистили с правой стороны, осмотрели борт и ничего опасного не нашли. Нужно было исследовать подводную часть. Фрегат отвели к пристани, накренили на левый борт и начали заделывать трещины в обшивке, около кормы. Обшивку вскоре залатали, но вода продолжала прибывать. Тогда Куликов приказал отдать гини, чтоб поставить фрегат прямо. Увы, время для этого было упущено, и, отягощенный непосильным грузом, фрегат сел на грунт возле самой пристани. Вода покрыла левый борт до юферсов.
Докладывая о постигшем его несчастье адмиралу, Куликов водил пальцем по морской раковине, стоявшей на письменном столе. Капитан имел пристрастие к щегольству, особенно к галунам и золотому шитью. Поэтому на его собственной шляпе и кафтане галуны были шире, чем полагалось. За этим строго не следили, и Ушаков ограничивался тем, что называл кафтан капитана поповской ризой. Адмирала больше раздражал бриллиантовый перстень и суровая нитка под ним на безымянном пальце капитана. Нитка предназначалась для того, чтобы излечить Куликова от ячменя. Ячмень этот появился на левом глазу как раз в тот день, когда фрегат сел на дно. Он окончательно убедил капитана в том, что ему не везет в жизни.
Куликов всегда думал, что людские усилия, в сущности, ничего не значат. Если человеку везет, то и усилий никаких не надо, а если не везет, то никакое служебное рвение все равно не поможет. Ему страстно хотелось ухватить это таинственное везение, скользкое и верткое, подобно налиму. Но так как предполагалось, что оно дается ни за что и отнимается без всякой причины, то оставалось только ждать и надеяться. Теперь же капитан испытывал ту сосущую тоску, какая свойственна подчиненному, ожидающему выговора, а может быть, и чего-нибудь худшего.
По нескольким словам, произнесенным адмиралом, Куликов понял, что капитан над портом Доможиров побывал уже здесь. По-видимому, он доложил Ушакову о несчастном происшествии со всеми подробностями, так что скрыть что-нибудь уже не было никакой возможности.
Глаза у адмирала были злые и светлые, а коричневые веки делали их еще светлей.
– Вы понимаете, сударь, что конфузия с фрегатом позорна? – сказал Ушаков, дослушав объяснения капитана.
– Гини, ваше превосходительство, были недоброго качества.
– Скажите лучше, что качества командира заставляют желать лучшего.
– Это дело вашего превосходительства так судить, – сказал Куликов с обидой.
– Да, мое, сударь. Я виню вас не за повреждение судна во время шторма, а за то, что вы утопили его у пристани.
– Несчастья, преследующие меня всю мою жизнь…
– Несчастья преследуют всегда тех, кто мало думает о своем деле. Сколько дней употребили вы, чтоб исправить положение фрегата?
Служебная тоска капитана Куликова дошла до своего апогея.
– Две недели, ваше превосходительство, – произнес он. – Меры, принятые мною…
– Две недели? Вы и в бою столь же рачительны?
– Времена военные и времена мирные… – с некоторой развязностью начал Куликов, вспомнив о своем покровителе адмирале Мордвинове.