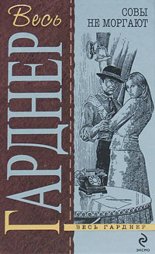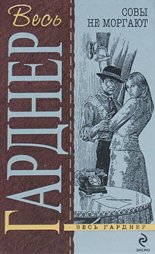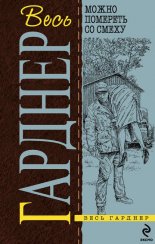Сердце Пармы Иванов Алексей
Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы.
Матфей 5:14
Часть 1
Глава 1
Мертвая Парма
Зеленое золото Вагирйомы тускло отблескивало сквозь прорези в кожаном шатре, расшитом понизу багрово-красными ленточками. Шатер стоял на помосте, укрепленном на спинах двух оленей, что устало шагали за конем хонтуя. Позади остался длинный путь от родного Пелыма, путь извилистый и непростой: через многие хонты своей земли, через священное озеро Турват, на жертвенники у Ялпынга, по отрогам Отортена и на полдень по Каменной ворге до самых Басегов. Хаканы встречали караван, меняли быков, помогали тянуть лодки вверх по рекам, тащили через перевалы и прощались, отправляя вместе с хонтуем по два-три воина от своих селений. К тому времени как Вагирйому довезли до Чусвы, у Асыки уже собрался сильный отряд в семь десятков манси. Оставив плоты у последнего павыла перед устьем Туявита-Сылвы, хонтуй повел караван лесами напрямик к Мертвой Парме.
Вековой ельник заслонил небо растопыренными космами, и только вдали, перед Пармой, вспыхивали слепящие пятна заката среди разошедшихся вершин. На тропе, заросшей орляком, загроможденной обомшелым валежником, было холодно и сумрачно. Сумрачно было и на душе у князя. Прежде чем везти сюда Вагирйому, он объехал свои владения, и теперь с ним лучшие манси, сын Юмшан и сыновья хаканов, с ним пурихумы-жертвы и благословение Ялпынга. Но нет в его отряде людей северной Югры, нету ернов и саранов, нету нагаев, башкортов, казани, сибиров, печоры… Некогда их ждать. Омоль уже вбил свой кол.
Древней тропой от Сылвы на Мертвую Парму давно, видно, никто не пользовался. Папоротник, буреломы… Заплыли белой смолой вырезанные на еловых стволах сопры. Затянуло корой вбитые в деревья тамги, что указывают путь. Может, и лесные духи уже покинули парму? Шаман дремлет на спине оленя, держась за подпиленные рога и покачивая шест, на котором тихо звякает бубенчик, отгоняющий духов в тайгу.
Но вот конь под хонтуем вздрогнул, мотнул головой и фыркнул. Зверь раньше человека учует куля, который, почти невидимый, увяжется за путником. Успокаивая, Асыка ласково потрепал коня между ушами. Хороший конек. Нята – Олененок. Два года назад он спас князю жизнь, когда на переправе через вздувшуюся Бур-Хойлу его сбило с ног…
Шаман встрепенулся и затряс колокольчиком, качая рогами мохнатой шапки. Караван выходил к Брошенному Городищу. С болотистой опушки открывался вид на Мертвую Парму. Огромная, похожая на медведя гора заросла могучими деревьями, но все они умерли, стояли сухие, голые, без коры, без хвои, без листьев. От заката лес-покойник пожелтел, как мамонтова кость. Брошенное Городище темнело у подножия горы, одним краем затонув в болоте. Сквозь чахлое, кривое редколесье князь разглядывал его, на ходу отмахиваясь от комаров еловой лапкой.
Валы заросли дремучей и серой от паутины малиной, из которой торчали кривые зубцы частокола. Постройки обрушились. Из сырых ям высовывались сгнившие, осклизлые бревна. Тонкие березки, словно птичья стая, разлетелись по Городищу. Заплесневев по шею, идолы-охранители косо чернели среди белых стволов. Бесстыже ярко горели мухоморы, и пучки поганок дрожали на трухлявых пнях.
Легкий озноб обметал виски князя, заставив вздрогнуть монеты на шапке. Дурное место. Так и чудится желтый, немигающий взгляд куля откуда-нибудь из болота. Ночами духам нравится приходить в покинутые людьми селения и играть там в свою любимую игру – в людей. Они сидят в ямах, как в домах, ходят в гости, роют землю, таскают бревна, но потом забывают смысл игры и дико скачут по обвалившимся частоколам, вылезают в окна, прыгают с крыши на крышу, висят гроздьями на ветвях и оголившихся стропилах… Князь сплюнул в сторону Городища и положил ладонь на тамгу, нашитую на грудь кожаной рубахи.
Караван не спеша двигался вдоль склона Мертвой Пармы. «“Гляден” – так называют ее русы», – думал князь. Понизу гору охватывала ветхая изгородь, клонящаяся то наружу, то внутрь. Трава зелено-белесыми языками забиралась вверх, но чахла, сменяясь прелой хвоей и мхом. Скелеты деревьев неподвижно топорщили изломанные ветви над этой странной, застрявшей на отмели времени горой.
Обогнув плечо Пармы, караван миновал ворота со столбами-идолами, чьи остановившиеся глаза налились кровью камского заката. Невдалеке стрельнула искрой темная полоса речушки. Асыка, обогнав шамана, первым вывел Няту к травянистому берегу. Правее, на песчаном обрывчике, стояли балбаны родов – и совсем старые, побелевшие, треснувшие вдоль волокон, и новые, еще желтеющие свежей древесиной. Зверолицые, птицеголовые, рогатые, с человечьими личинами, глубоко врезанными в деревянную грудь… Воины каравана спешивались, заходили по колено в воду, умывались. Звеня удилами, шумно пили кони и олени.
Дождавшись, когда Нята напьется, князь тронул его и тихо поехал вдоль берега вниз по течению. Проплыло по правую руку устье Юрчима, и с пригорка открылся весь Шаманский город. Он стоял посреди широкой вырубки, ощетинившись частоколами и шестами, и над ним огненным крылом Торума взметнулся закат.
По утоптанной земле Священной дороги хонтуй медленно приближался к высоким валам с гребнем тына, к сторожевым вышкам на длинных и тонких ногах. По обе стороны дороги из кустов торчали черные головы истуканов. Могучие Перы-защитники высились над стенами, свирепо и невидяще впялившись в путников выжженными дырами глаз. За частоколом виднелись острые углы односкатных пермяцких керку. Над ними густо и враскось взлетали ввысь шесты с колокольчиками, фигурками духов, пучками лент, лисьими и волчьими хвостами, птичьими колодинками. Навстречу хонтую из раскрытых ворот с лаем покатилась орава разномастных косматых псов, запрыгавших вокруг Няты. Сквозь собачий брех в городе слышалось отдаленное позвякиванье молотков и шорох зернотерки.
Князь остановил коня у моста, переброшенного через ров. Трещали кузнечики, орали вдалеке лягушки, отфыркивался Нята. В проеме ворот появился человек. Он тоже остановился и молчал. Князь не произнес ни слова, разглядывая шамана и поджидая свой отряд. До темноты пришельцам нужно соблюдать молчание, чтобы духи, немые для обычных людей, могли хорошенько вызнать их, а ночью, когда для них наступит время говорить, дали ответ.
Отряд постепенно собирался за спиной князя. Собаки метались под ногами лошадей и оленей, клацали зубами у самых ног всадников, но их никто не гнал ни окриком, ни плетью, ни палкой. Асыка ждал, щурясь на закат и рассматривая город.
Не таким уж и неприступным выглядел он вблизи. Валы начали оплывать. В щелях частокола видны были подпорки, изнутри приставленные к бревнам. Давно не чищенный ров заполняла черная вода, затянутая ряской, над которой дрожали комары. Сторожевые вышки обветшали и рухнули бы под тяжестью двух-трех лучников, а лестницы, ведущие на боевые площадки, недосчитывались ступеней. Только черепа на кольях – оленьи, медвежьи, человечьи – выглядели устрашающе. На страх и полагались шаманы, оберегая свой город. Но тот враг, который придет, не испугается ни черепов, ни идолов, ни богов. Он устрашится лишь того, что сейчас принес сюда в своей груди князь Асыка.
Город шаманов умел многое. Он восходил к богам и нисходил к ящерам, изгонял демонов и призывал духов, он знал, как направить умершего к Полуночному морю и как вернуть его обратно, он считал звезды, предугадывал будущее и помнил прошлое, он умел лечить людей и добывать металл, сочинять песни и вырезать идолов, он ссорил и мирил народы. Но шаманы не умели двух самых простых вещей в этой жизни – кормить себя и бороться с судьбой. Он, князь Асыка, пришел сказать, что сделает это за них, если они поверят ему, поймут его и передадут его волю Вагирйоме.
Последний воин нагнал поджидающий караван, и князь движением колен направил Няту по мосту. Человек в воротах отступил в сторону, пропуская князя, и пошагал вслед за ним рядом с шатром Вагирйомы, звоном бубенчика на шесте отгоняя тени зла от ее зеленого золота.
Глава 2
Хумляльт
Верховный шаман – пам – проснулся словно от толчка. Значит, где-то на другом краю Вышкара в это время проснулся князь Асыка. Тонкие нити уже связали пама с хаканом, хотя они еще и не видели друг друга. Пам тяжело поднялся на своем низком лежаке и прикрыл ладонями глаза, останавливая бешеное мельтешение миров, сквозь которые навстречу пробудившемуся разуму неслась издалека его душа. Опершись на посох, пам встал, нашарил на столе бронзовую рукоятку огнива, высек искру на трут из бересты и, поддувая, запалил о него острый конец лучинки, пропитанной горючей смолой. «Пусть хакан видит свет в моем окне и приходит сюда», – подумал пам, опуская лучинку в горшок на плоском блюде, залитом водой.
Посохом открыв дверь, пам вышел из своего керку во двор. Над землей, над Вышкаром, дико лучилась полночь. Луна висела над Мертвой Пармой, превращая белый сухостой в колючие кристаллы хрусталя, которыми гора обросла, как изморозью. Где-то в страшной дали, опустив голову, созвездие Сохатого пило чусвинскую воду, а над Камой распахала вечную тьму Звездная Ворга. Пам подошел к низкой ограде двора и остановился, подперев посохом грудь. Легкий камский ветер забросил на лицо длинные белые волосы шамана, оплел запястья прядями бороды.
Вышкар спал, только у ворот тлел костер караульных да на кузнечном дворе в щелях домничной землянки то вспыхивал, то гас багровый отсвет и вздыхали мехи. Воины хакана тоже спали в отведенных им гостевых керку. Дом, где поместили князя и троих княжат, находился рядом с загоном. Пам увидел, как, задумчиво поправив полог на проеме входа, высокий человек направился к изгороди. «Нята, Нята!» – шепотом позвал он. Разбуженные кони глухо переступали копытами. Между жердей высунулась голова Няты, и Асыка протянул коню на ладони угощенье.
Напрямик, сквозь лопухи и мерцающие во тьме заросли крапивы, мимо пустых домов и собачьих шалашей князь зашагал на пригорок, ко двору пама. Шаман в лунном свете молча разглядывал лицо хакана – узкое, скуластое, как маска, безжизненное, резко очерченное линией сивых волос, натуго стянутых в две косы.
– Входи, – сказал пам остановившемуся у калитки князю.
Пам знал, что про него говорят, будто он видит людей насквозь. Это было правдой. Пам видел души человека – две, три, пять, у кого сколько есть. Душа-ворон живет с предками. Душа-филин с духами. Душа-сокол с богами. Душа-лебедь – там, выше богов, где движутся судьбы. А последняя душа, живущая с людьми, у всех разная – у кого утка, у кого воробей, у кого ястреб. В хакане Асыке пам не увидел ни одной души. Он был глух и целен, как камень.
Хакан остановился на пороге и провел пальцем по фигурным пластинам замка на двери, а затем, прищурившись, оглядел жилище пама. Старый шаманский керку был сложен из огромных, уже замшелых бревен с врезанными в них тамгами. Под самыми стропилами в узком волоковом окне синели звезды. Пам заменил догоравшую лучину в горшке. Огонек осветил кровлю из берестяных полос, на которой зашевелились причудливые косматые тени от пучков трав, висевших на стропилах. Стол был завален кусочками кожи, обрезками кости, черепками. На чувале, в котором догорали угли, громоздился древний, позеленевший котел со щербатиной на краю и обломанным ухом. На деревянном гвозде висела траченная молью одежда шамана, расшитая амулетами и бахромой. В изголовье низкого лежака под шкурой, служившей покрывалом, желтел медвежий череп. Покосившиеся полки были заставлены драгоценными булгарскими, персидскими, арабскими блюдами, туесками и горшочками с зельями. Один угол керку занимала груда коробов, в другом друг на друга были навалены резные чурки-иттармы, в которых жили души былых шаманов Мертвой Пармы, предшественников пама. В земляной пол были втоптаны угли, обрезки кожи и отщепы костей, перья птиц, уже ответившие на вопросы пама и больше не нужные. Над входом топырились огромные лосиные рога.
– Чего тебе надо, хакан? – спросил пам, деревянной кочергой шевеля головни в чувале.
– Я хочу увидеть Канскую Тамгу.
– У меня ее нет. Она там, где и должна быть, – на иттарме последнего кана.
– Проводи меня туда, старик.
– Ты увидишь ее завтра, во время жертвоприношения.
Хакан помолчал, наблюдая, как шаман бронзовой ложкой на длинном черенке вылавливает из котла угольки.
– Я хочу увидеть ее сейчас. Проводи меня. Я тебя прошу.
Пам подумал и опустил ложку в котел.
Они медленно шагали по Священной дороге. Трещали кузнечики, во рву у Вышкара пели лягушки, в реке изредка всплескивала рыба. Неприкаянные духи бродили по лесу, шумели ветвями, вздыхали, перешептывались. Только Мертвая Парма горбилась, как глыба подземной тишины. Однако для пама она не была горой мрака и безмолвия. Для старого шамана она была словно бы мускул огромного сердца земли, которое обнажилось из-под почвы и медленно бьется вместе с высоким ходом судеб, что, как тучи, плывут над памом и князем, над Мертвой Пармой, над народами, богами и звездами.
– Скажи мне, хакан, ведь посвящение молодых князей – это только повод привезти Вагирйому туда, где находится Канская Тамга, так?
– Так, – согласился Асыка. – Я хочу получить Канскую Тамгу.
– Но ведь с тобой нет ни хакана, ни хонтуев от Югры. И наш князь в Йемдыне служит русам за пьяную воду, как собака за кость. И о намерении твоем не знают другие народы Саранпала и Мансипала. И те, кто считает себя нашими хозяевами, не давали на это своего разрешения. И даже твой собственный народ не знает, зачем ты поехал к Мертвой Парме…
– У меня нет хозяев, чтобы я выпрашивал позволенья, – жестко ответил Асыка. – А мой народ и другие народы пойдут за мной, когда у меня будет Тамга.
– Откуда ты знаешь? Ты умеешь читать будущее?
– Я знаю, пам. Для этого знания мне не нужно гадать по перьям, не нужно следить за полетом священных птиц, не нужно выпускать кишки жертвенным козам. Я знаю, пам. И поэтому я хочу, чтобы ты отдал мне Канскую Тамгу без сомнений.
«Хумляльт», – понял пам. Князь Асыка – хумляльт. Человек, идущий навстречу. Человек призванный, человек одержимый. Князь Асыка, убивший отца, живущий без старости, изгнавший жену-ламию, – хумляльт. Он не вершит судьбами народов и земли, ибо судьбы эти вершатся сами собой по законам, которым подчиняются даже боги. Но если судьбу народа уподобить обвалу, камнепаду, то князь будет в нем самым большим камнем, что катится впереди всех, расшибает преграды и торит путь, по которому вслед за ним несутся прочие валуны. Не зря пам увидел князя глухим, как скала. У хумляльта нет ни одной души.
– Канская Тамга дается только общим решением людей наших гор…
– Неправда. Ты сам это знаешь, старик. Кан Кудым получил ее от своего увтыра. Кан Реда получил Тамгу от тех, кто потом, изгнав соплеменников, назвал себя «вису». Кан Атыла взял ее себе сам. Еще нужно вспоминать, старик?
Шаман долго молчал, сокрушенно качая головой.
– Но тебе не удержать ее, хакан, – наконец сказал он.
– Почему?
– Я помню историю про сына хакана Кероса. Он ведь поменял свою тамгу русскому мальчику на серебряный крест…
Асыка недобро усмехнулся.
– А когда Керос хотел за это лишить сына родства, сын убил отца и в двенадцать лет сам стал хаканом, завладев его тамгой, – закончил историю князь. – Но это было давно, старик. Я думал, что у тех событий на Мамыльском пороге осталось только три свидетеля – я сам, русич Калын и моя жена Айчейль, ламия…
– Свидетелем тому был не я, а мой брат. Он уже состарился и умер, хотя был младше меня. Смотри, хакан, какой я дряхлый – ноги меня не слушаются, глаза слепнут, волосы поседели… А ведь я тебя моложе. Почему же ты не стареешь? Ты и вправду бессмертен, хакан, как все хумляльты и ламии?
– Ты ведь лучше меня знаешь порядок вещей в мире, старик. Бессмертен любой, кто не доделал своего дела.
Глава 3
Канская тамга
Два высоких идола – богатыри Играмшор и Шавельшор – держали тяжелую балку ворот, ведущих в пределы Мертвой Пармы. За воротами стеной стоял погибший лес. Наверное, такие же леса растут на проклятых островах Пети-Ур в ледяном полуночном океане, по которым в вечной тьме, стеная, скитаются души предателей. Пам чувствовал, что в этих высохших и окаменевших стволах нет ничего и никого – ни духов, ни кулей, ни демонов. Разве что злая мансийская ведьма Таньварпеква заглядывала сюда, но сразу же мчалась дальше на своем седом волке-людоеде Рохе. «„Холатур” – так манси называют Мертвую Парму», – вспомнил шаман.
– Зачем тебе Канская Тамга, князь? – спросил он, первым шагая по чернеющей во мху тропинке.
– Настало время войны.
– Ты хочешь изгнать русов? Чем они тебе мешают?
– Ты и сам знаешь ответ, старик.
Шаман концом посоха сдвинул с пути белую ветку с семью скрюченными пальцами.
– Рус русу рознь, – сказал он. – Новгородцы – да, это волки, рвущие живое мясо. Но московиты идут к нам с миром. Они строят здесь свои селения, растят своих детей и, как мы, терпят притеснения от своего кана. Но ведь русский кан не жаден. Казани мы платим харадж в три танги с лука, а ясак русов вчетверо меньше – всего два соболя. Даже самый захудалый охотник сможет за год добыть двух соболей, чтобы откупиться от кана русов.
– Почему на своей земле мы должны откупаться от чужеземцев?
– Лучше откупиться соболями, чем кровью.
Тонкие и высокие ели с редкими сучьями и голыми вершинами торчали по склону густо, как копья хонта, воткнутые в погребальный курган его хонтуя. В неровной россыпи звезд над Мертвой Пармой зияли дыры, словно некоторые звезды сорвались и упали вниз, будто спелые кедровые шишки. Если Поясовые горы – и вправду великан Кам, уснувший после своего подвига, то Мертвая Парма – это его колчан. Весенние ливни и осенние бури ломали умершие деревья, но те не падали, а зацеплялись за собратьев и так и висели в высоте.
Это остановившееся движение еще больше омертвляло и без того страшный лес. Кое-где среди стволов торчали вертикально вкопанные лестницы, чтобы боги могли спуститься по ним на землю к людям. Но паму казалось, что эти лестницы выдвинули из недр подземные человечки-сиртя: видно, жить в оцепеневшей горе им стало так жутко, что они бежали из глубин на небо.
Пам свернул на боковую тропинку в обход горы, где росла священная ель – единственное живое дерево на Мертвой Парме.
– Русы-новгородцы – давние наши враги, – сказал Асыка. – А давние враги – это почти друзья. Как и всем прочим, им нужны были наши богатства. За эти богатства они честно платили кровью и уходили. Но московитам, кроме наших сокровищ, нужна еще и вся наша земля. Они шлют сюда своих пахарей с женами и детьми, чтобы те своим трудом и кровью пустили в нашу землю свои корни. Если они сумеют это сделать, выкорчевать их отсюда станет невозможно, потому что земля наша каменная, и их корни обовьются вокруг камней.
– Что ж, – возразил пам, – если они так хотят, то пусть платят кровью, пускают корни и живут. Наши предки поступали так же.
– Нет, ты меня не понимаешь, старик, – с досадой сказал князь. – Можно мириться с набегами врагов, но нельзя мириться с их богами. Враги приносят к нам свои мечи, а московиты принесут нам своего бога. Мечи мы сможем отбить, а с богами человеку никогда не справиться. Если мы покоримся богу московитов, то у нас уже не будет ни родных имен, ни песен, ни памяти – ничего.
Шаман глубоко задумался. Еловые остроги постепенно сменялись остовами берез, кедров, сосен, лиственниц – тропа выводила к древней части святилища на том склоне, под которым затонуло в болоте брошенное городище. Появились прогалины, на которых лежали полуистлевшие идолы легендарного народа Велмот-Вор, ушедшего с земли больше тысячи лет назад. Этот народ поклонялся богам хаканов и хонтуев – страшным звероподобным чудищам с почерневшими от жертвенной крови клювами, рылами, когтями, пастями.
– Почему ты считаешь, что бог московитов погубит наши народы? – с трудом перешагивая через идола, спросил пам.
– Ты лучше разбираешься в делах богов… Скажи мне сам: какие они, боги?
– Боги?.. – Останавливаясь передохнуть, пам взглянул на огромную голую луну, на Звездную Воргу, распахавшую небо. – Мне трудно ответить так, чтобы тебе, воину, это стало понятно… Для каждого нашего народа есть священные уста, с которых к нам долетают слова вечности. Мертвая Парма у нас, у пермов. Пуррамонитур у зырян. Ялпынг у вас, у манси. Лонготьюган у хантов. Хэбидя-Пэдара у ненцев… Для всех нас священна Солнечная Дева – Заринь, Мядпухоця, Вут-Ими, Егибоба, а по-вашему Сорни-Най. Ее устами говорит Вагирйома. Но, ожидая ответа из этих уст, мы спрашиваем не гору, не предка, не бога, не идола. Мы спрашиваем что-то большее, которое одновременно и гора, и предок, и бог, и идол… Все, что есть, – это одно и то же, все это – одна цепь, а мы видим только ее звенья. Связь между звеньями этой цепи ваши шаманы называют «ляххал» – «весть». Судьба – это весть земли, боги – вести судьбы, люди – вести богов, земля – весть людей… Ты спрашиваешь меня так, словно возможно дать окончательный, последний ответ или, наоборот, словно бы есть первая, изначальная точка, от которой мы могли бы верно отмерять правду в нашей жизни…
– Не очень ясно, хотя я понимаю тебя, старик, – кивнул хакан. – Но если ты сравниваешь мир с цепью, скованной в кольцо, то я скажу вот что. Заменив своего бога на чужого, мы разрываем эту цепь, и мир рушится.
Они подошли к высокому идолу Торума. Прародитель был изображен сидящим, а на его коленях покоилась чаша с монетами, перемешанными с землей. Хакан отцепил с налобного кольца дирхем и тоже бросил его в чашу. По обеим сторонам Торума сурово возвышались покосившиеся от времени балбаны сульдэ с сучьями-крыльями и лосиными рогами. У их ног, до дыр проклеванные грачами, белели черепа медведей. Пам, кряхтя, наклонился и поправил священную выкладку. Пусть дух Великого медведя Оша не оскорбляется небрежением к головам его детей.
– Почему мир должен разрушиться, если здесь поселится русский бог, пусть даже он и вытеснит наших богов? – спросил пам, печально глядя на растрескавшийся лик Торума. – Хакан, ты не суеверный охотник, который видит лишь вёрс, вуншерих и вакулей. Ты знаешь: пусть сменится облик, имя, обряд, – дух останется прежним. Ничего с миром не случится. Уж не вообразил ли ты себя Мяндашем, спасающим Солнце от Йомы?
Они снова зашагали по тропинке, которая должна была привести к кладбищу канов. За спиной Торума тихо позванивала на ветру целая роща мертвых берез, увешанных бронзовыми и медными фигурками, обвязанных ленточками беременных женщин. Этот звон звучал в темноте окостеневшего леса очень грустно.
– Бог русов – не наш бог, – сказал Асыка. – Наши боги рождены нашей судьбой, нашей землей. А их бог рожден даже не их землей, а самой-самой дальней, где-то на краю мира, где садится солнце и почва от его жара бесплодна, суха и горяча, как жаровня. Что делать этому богу у нас, среди снегов, пармы, холодных ветров?
– Мало ли кто где рожден, – усмехнулся шаман. – Мы с тобой вышли из чрева матери, а Ен из яйца – ну и что?
– Наши боги – это боги судьбы и трех миров. А бог русов – это бог человека, и одного только человека. Для него ничего нет – ни земли, ни народа, ни предков. Я слушал русских шаманов. Их бог – изгой, бродяга, он бросил свою мать.
– А ты убил отца.
Князь зарычал сквозь зубы, но шаман даже не оглянулся. Молча они шагали по тропе дальше. Торчали из земли колья с надетыми черепами. Вырезанные прямо в деревьях балбаны пялились в звездное небо. Валялись во мху трухлявые иттармы, поваленные ветром древние истуканы. Деревья топорщились черенками жертвенных стрел и рукоятями ножей, с которых свисали веревочки, некогда державшие кошельки с подношениями.
– Среди наших гор люди и боги одинаково идут дорогами судьбы! – громко и яростно сказал Асыка. – Нас ведет воля нашей земли, и нас судят предки! Ни люди, ни боги не могут свернуть со своего пути, помедлить на нем или пойти по нему вспять! Поэтому мы живем в вечности и земля наша нерушима!
– Это верно, но это слова хумляльта, – негромко произнес пам.
– А русы сами выбирают дорогу и идут по ней куда хотят и как хотят! – не слыша пама, продолжал хакан. – Они говорят, что волос с их головы не падает без воли их бога! Но ведь ты, пам, знаешь, что голоса богов не звучат в ушах каждого, иначе и нам, и русам не нужны были бы шаманы вроде тебя. Значит, русы сами объединяют себя и своего бога и всегда несут его в себе таким, каковы они сами! Это не вера, пам, а безверие! Это не воля земли, а желание человека! Русы не принесут нам другого бога, как думаешь ты, – они просто уничтожат всех богов, и будет пустота! Они бренны, и все, что они сотворят, рано или поздно погибнет, и земля их погибнет тоже! Я не хочу, чтобы наша земля стала их землей и погибла вместе с ними! Почему же ты спокоен? Русов надо гнать, пока еще не поздно, надо убить их жен и детей, стереть их города, изжить даже память о них! Ты говоришь: пусть приходят, если не помешают. Но каждый их кол, вбитый в нашу землю, – это кол Омоля! Вспомни: когда Ен и Омоль делили землю, Омоль выпросил себе кусочек шириной в один шаг, чтобы хватило только вбить кол. Но из дыры от него вылезли все духи зла, которые и сейчас льют реки крови!
Шаман резко остановился и, выбросив руку, указал князю под гору. Там, внизу, топорщился густой и плотный колок мертвых елей, обнесенный высоким тыном.
– Видишь это, хакан? – спросил пам. – Два века назад на нашей земле насмерть бились люди вису и люди угру, пока великий кан Реда не изгнал угру прочь. Он уже и сам не знал, из-за чего началась эта война, что не поделили на этой огромной земле два маленьких народа. Когда он победил, он плакал от горя! Босой, он прошел от Мертвой Пармы до Хэбидя-Пэдары. Он целый год молчал и молился у Зарини, у Сорни-Най, чье дитя ты привез к нам вчера. А потом он взял войну, положил ее в горшок и горшок оставил в этой роще. И рощу обнесли частоколом, чтобы война оттуда не убежала, и поставили охранителей, и никто с тех пор не входил в эту рощу, а если с дерева за частокол падала хоть ветка, хоть шишка, хоть еловая иголка, то шаманы подбирали их и бросали за колья обратно. Ты же, хакан, просишь Канскую Тамгу, чтобы выпустить войну на волю. Не русы со своим богом, каким бы он ни был, а ты, слепой хумляльт, пробьешь колом Омоля первую дыру, из которой хлынет нескончаемый поток крови!
Старый шаман, задохнувшись, схватился за сердце и словно обвис на своем посохе. Хакан стоял рядом, стискивал в кулаке свою тамгу и упрямо глядел в сторону, на Звездную Воргу.
– Ты слишком стар, пам, – презрительно сказал он. – Твое сердце одряхлело. Ты не мужчина. Ты боишься крови.
– Бессмысленной крови должен бояться даже мужчина, – пробормотал шаман.
Он медленно распрямился и поковылял вниз по тропе. Шаман и князь шли мимо проклятой рощи, мимо жертвенных ям и болванов с золотыми блюдами вместо лиц, мимо огромных клубков из искривленных и переплетенных воедино еловых стволов на могилах шаманов – древние умели гнуть не только кости, но и целые деревья, свивая их в змеиные узлы. Наконец за изгибом склона блеснула под луной речка, и пам вывел хакана к кладбищу канов. Чамьи – погребальные домики на высоких столбах – обозначали захоронения самых великих вождей Каменных гор. Кое-какие могилы были пусты – не все каны обрели покой на родной земле. Но чамьи хранили их иттармы как залог того, что души канов вернулись в отеческие горы.
– Вот чамья последнего кана Судога, который двести с лишним лет назад разметал монгольские тумены в устье Чусвы, в битве при Чулмандоре, – сказал пам. – Канская Тамга на его иттарме. Ты можешь взять ее, Асыка. Но помни, что я тебе ее не давал.
Хакан молча поднял валявшуюся неподалеку лестницу и приставил ее ко входу в чамью. Поднявшись на несколько ступеней, он откинул кожаный полог и по пояс всунулся в амбарчик. Через несколько мгновений он уже выбрался обратно, бережно держа в руках большую, облаченную в соболью ягу деревянную куклу-иттарму. С шеи иттармы на цепочке свисала позеленевшая от времени, обломанная по краям священная Канская Тамга.
– Может быть, нашим народам судьбою как раз и уготовано покинуть своих богов?.. – почти умоляюще спросил шаман, все еще надеясь остановить хумляльта. – Можно отречься от всего, но ведь это не изменит ход вещей в мире, ибо вещи эти превыше любого человека и целого народа…
– Замолчи, – велел хакан.
Луна над Мертвой Пармой ярко освещала жесткое лицо князя, с иттармой в руках стоявшего над шаманом на лестнице. Князь долго глядел в лицо чурку-Судогу, словно хотел что-то понять.
А потом спокойным и уверенным движением хакан Асыка положил иттарму на порог амбарчика, снял с нее Тамгу и снял тамгу со своей шеи. Держа обе тамги на ладонях, будто взвешивая, какая из них тяжелее, он поднял лицо к небу. Звездная Ворга Каменным Поясом пересекала небосвод. И хакан Асыка, словно в воду родника, окунул голову в кольцо цепочки древней Канской Тамги.
Глава 4
Станица
Демьян Ухват спал на карауле. Он ушкуйничал уже три десятка лет, и чутье на опасность не подводило его даже во сне.
Русская станица на Гляденовской горе пряталась в проклятой роще, где кан Реда оставил горшок с войной. Калина говорил, что не стоит тревожить здесь лиха, но Ухват плевал на все его страхи. Пермяки сюда не сунутся – вот что главное.
В станице было девять человек: пятеро новгородцев во главе с Ухватом, три ратника из чердынской полусотни Полюда и проводник – неясный человек Васька Калина. Весной епископ Питирим от какого-то своего соглядатая прознал, что в конце лета вогулы привезут на Гляден Малую Золотую Бабу и будут при ней короновать – или чего они там делают? – своих княжичей. Золотая Баба – добыча сказочная. Но ратников за ней ни епископ, ни Полюд, ни князь Ермолай послать не могли. Попадется княжья станица в когти вогулам, так ничем потом кашу не расхлебать будет. Ну, а ушкуйники – люди вольные. Коли влипнут, так князь здесь ни при чем. Дескать, я – не я, и лапа не моя. К тому же в лихом промысле новгородцы половчее будут, чем Полюдовы витязи, распухшие от чердынских пельменей. Но чтобы ушкуйники с хабаром мимо князя, епископа и сотника восвояси не утекли, владыка и навязал им этих троих Иванов – дядю Ваню, Ванюху Окуня да Ивашку Меньшого. А в проводники – храмодела Калину. Неизвестно, как там Калина церквы ставит, но в дремучем чудском чародействе понимает не хуже шамана, разве что сам не камлает.
После Петрова дня станица вышла из Чердыни, а вчера ночью, спрятав насаду в кустах, прокралась мимо городища к Глядену и спряталась в проклятой роще.
Широко раскинув ноги в татарских ичигах, Ухват ничком лежал среди гнилых сучьев у самого частокола. Солнце перевалило за полдень и пекло его прямо в лысину. Расклеив мутные глаза, Ухват заворочался, вытащил из-за пазухи колпак и нахлобучил на голову. В это время где-то внизу, у ворот на Мертвую Парму, забренькали шаманские бубенцы. Ухват приник глазом к щелке между кольями.
Ему хорошо была видна здоровенная проплешина на склоне Глядена. Здесь стояла толстая, как колокольня, священная ель. Ободранная понизу, расколотая пополам обугленной трещиной, сверху ель все равно еще зеленела редкой хвоей. Вся голая поляна вокруг была изрыта жертвенными ямами, откуда торчали пережженные кости, была утыкана большими и малыми, новыми и старыми истуканами, сплошь обвешанными разными побрякушками и бусами. На каменных плитах-жертвенниках возле истуканов что-то поблескивало, а на блюда и горшки в ручищах, на коленях и подле ног идолов Ухват хитро щурился, накручивая бороду на палец.
Под звон колокольцев из ворот повалили пермяки. Впереди шли шаманы с бубнами и дарами; потом дюжие воины с косицами вели троих измученных пленников; дальше в одиночку шагал князь, за ним – три княжича; наконец, волосатые, дикого вида люди в красной одежде и в берестяных личинах тащили на носилках маленький шатер. «Идолица – там», – сразу понял Ухват.
Шаманы остановились возле трех новых истуканов, рядом с которыми свежей, сырой землей темнели недавно выкопанные ямы. Ухват изогнулся, чтобы удобнее было разглядывать, чего там пермяки станут вытворять. Шаманы долго завывали, плясали кругами, то почти распластываясь по земле, то подпрыгивая, звенели бубнами, жгли какую-то дрянь на палках. Потом выпустили целую тучу голубей и на четвереньках, с поклонами поползли к истуканам, толкая перед собой по земле блюда и горшки. Воины поставили пленников ногами в ямы, заткнули рты кляпами и привязали к идолам. Те, что были выряжены в красные сермяги, бережно сняли с носилок тяжелый шатер и перетащили в дупло, выжженное молнией в священной ели. «Хоть бы полсть-то откинули, собаки, – азартно подумал Ухват. – Посмотреть на Бабу-то… Много ли в ней золота или так, на три наперстка…»
Наконец толпа потянулась обратно. Ухват перевел взгляд на оставленных пленников – старика, парня и девку. «Больно схожи старик с парнем, – подумал он. – Небось отец, сын и невестка. Значит, вогулы где-то по пути починок разорили… На заклание, чай, людишек приготовили… Жаль души християнские, ну да ничего не поделать. Коли отвязать их да отпустить, то и самим без хабара нужно уматывать, а днем далеко не уйдешь…»
Сняв колпак, Ухват перекрестился, потом перевернулся на спину и облегченно вытянулся, прикрыв глаза.
Из дремоты его вывели далекие голоса, шаги и звон бубенцов. На дороге, приближаясь, опять бухали бубны. «Идут бесов тешить», – понял Ухват, снова переворачиваясь на брюхо. Сзади хрустнул сучок, и он злобно оглянулся. На шум толпы к частоколу поглазеть ползли и ратники, и свои ватажники.
– Цыц! – шепотом рявкнул Ухват. – Куда поперли, дуроломы? Башку на вогульский кол посадить охота?
– Дак любопытно, чего брынчит-то, Дема, – вытаращив наивные глаза, прошептал Семка, самый младший из ватаги.
– Зубы твои сейчас забренчат, возгря, – тихо ругнулся Ухват. – Ну-ка пошли все прочь!
Недовольно сопя, станичники отползли обратно. Только двое – давний напарник Ухвата Ероха Смыка и Васька Калина – беззвучно скользнули меж валежника к щелям в частоколе. Ухват покосился на Калину. Тот разглядывал пермяков, гурьбой поднимавшихся по склону, кумирню с пленниками. Обветренная, багровая скула Калины смялась складкой злого оскала. Калина тоже обернулся на Ухвата.
– Давно их тут поставили? – спросил он.
Ухват усмехнулся и кивнул.
– Иуда, – сказал Калина.
– Да уж не Моисей, ивреев из Египта выводить, – хмыкнул Ухват. – Я с хабара по ним в Успенье на Волотовом поле на серебряную ризу дам.
– По себе дай, – отворачиваясь, ответил Калина.
Ухват не ответил, снова приникнув к щелке между кольев. Пермяков на мольбище собралось человек сто. Они были в темных, лохматых одеждах из шкур, непривычных русскому глазу, а потому походили на зверей, вставших на задние лапы, или на оборотней, уже превращающихся в людей, но еще не до конца превратившихся, а может, и на диких духов своих буреломных лесов и болотных бучил. Выстроившись неровными рядами, пермяки положили руки друг другу на плечи и медленно, вперевалку раскачивались под звон бубнов, тупой гул деревянных барабанов и заунывный вой медного варгана, который держал в зубах шаман, опустившийся на колени и ссутулившийся. Ухват почувствовал, что и в его душе что-то стронулось от этого мерного, общего движения, от ударов и воя. Плечи поневоле повело, и Ухват перекрестился.
Камлание началось. Вертелись, кривлялись, прыгали шаманы, одетые медведями и лосями. Взвились костры, в которые бросали горсти драгоценной соли, взрывавшейся синими снопами искр. Воины что-то дружно распевали, вдруг разражаясь дикими криками и вскидывая над головами копья. В дыму костров шестами гоняли очумелых голубей. Многоголосицу пенья словно раздирали на куски пронзительные, скребущие по сердцу вопли многоствольных дудок-чипсанов. В забулькавшие котлы полетели корешки трав и листья, мухоморы и кора. Одуряющий дух пополз от кумирни вниз по склону, и Ухват, натянув ворот армяка на усы, чихнул. Воины черпали из котлов глиняными кружками пойло, пили его и разбивали кружки о ноги идолов. Один из шаманов раскидал по земле бронзовые гадательные фигурки и хлестал по ним плетью, глядя, какая перевернется, а какая нет. Другой шаман из брюха огромной белуги, проткнутой через глаза золотой палочкой, выматывал длинные петли кишок, читая грядущее. Рядом кололи коз, рубили головы птице, рвали мясо, пили свежую кровь, жрали печень. Пьяные, растрепанные, перемазанные кровью, жиром, грязью люди бесновались и падали, потеряв силы. Дым и чад обволокли поляну возле священной ели.
Багряное солнце донышком коснулось синих закамских лесов. Лучи его напрямик понеслись вдоль просеки-дороги от ворот к вершине Глядена и ударили в священную ель. Тотчас целый рой завывающих вогульских стрел со свистульками в остриях взлетел в густо потемневшее небо. Полог, укрывавший Золотую Бабу, словно сам собою пополз вверх. Ухват втиснулся лбом между кольев.
В черном, обугленном дупле тускло засветился золотой истукан. Маленький, грубо и плоско выделанный из болванки зеленоватого золота, он глядел из полумрака горящими кровавыми искрами самоцветных глаз. Бесстрастное круглое лицо, плоские, отвисшие груди, скрюченные ручки, обхватившие выпуклый живот, на котором насечкой был изображен младенец в утробе… Словно бы сама суровая, каменная, непримиримая земля глазами Вагирйомы уставилась на ушкуйника. Ухват зажмурился, кляня себя сквозь зубы, закрыл лицо ладонью, но и в темноте под веками тлели две капли крови.
Ухват вновь придвинулся к щели только тогда, когда страшного истукана убрали в глубину дупла. Теперь в самом большом костре торчал идол. Вогулы с короткими мечами в руках все быстрее и быстрее кружились вокруг костра. И вдруг мечи засверкали один за другим, срубая щепки с идола в костре. Идол на глазах корчился, худел, усыхал и вскоре превратился в кривой обрубок, по которому белками скакало пламя.
А потом толпа вдруг разом переместилась к трем ямам, где, привязанные к истуканам, стояли пленники. Три подростка-княжича шагнули вперед с ножами. Вогульский князь – высокий, бледный, с жестким и властным лицом – поднял над собой за цепочки три медные тамги. Воины закричали. Угоревшие в дыму пленники очнулись, подняли головы, дико переводя взгляды с княжичей на князя. И тогда, размахивая ножами, княжичи завизжали и бросились на них, кто вперед. Взмыкнул старик, подавившись кляпом, страшно захрипела баба, затрещали ремни на руках молодого мужика. За свою жизнь Ухват и многое повидал, и многое сотворил, но и он отвернулся, когда в окровавленных ладонях вогульских княжичей, роняя алые капли, задергались живые человеческие сердца.
Пермяки оставались на мольбище еще долго и после наступления темноты. Наконец последние шаманы, подобрав утварь, побрели вниз с горы. Яркая и прозрачная ночь сияла над Гляденом. Далеко за Камой поднялись Стожары. Свежего чекана луна чудским блюдом звенела в небе. В ямах на кумирне дотлевали угли; остывающий белый дымок стлался по земле у подножия истуканов, торчавших лицами к звездам, которые своим мертвенным зеленым светом резче выделили их грубые черты. Верховный шаман, один-одинешенек, остался сидеть у священной ели, опустив голову и время от времени чуть встряхивая серебряный бубен.
– Когда этот уйдет? – спросил Ухват Калину.
– Это ихний пам. Он всю ночь будет сидеть, богов слушать, – пояснил Калина. – Он нам не помешает. Сейчас он ничего не видит и не слышит. Его только солнце в разумение вернет. Пока он здесь, сюда никто не сунется.
Ухват недоверчиво хмыкнул и бесшумно поднялся. Ударом ноги он повалил пару кольев перед собой и, перешагивая их, пробормотал:
– Посмотрим…
В одиночку, не таясь, он поднимался по освещенному луной склону горы к старику. Пам не оборачивался, сгорбившись и держа обеими руками бубен. Из дупла напротив него светили два болотных огня. Ухват откинул полу армяка, нашаривая что-то на поясе.
– Стой! – крикнул Калина, перепрыгивая частокол.
Ухват, зажав старику рот ладонью, ловко вогнал нож под лопатку и, надавив на черенок, дослал до рукояти. Отдернув руку, он легко подтолкнул шамана вперед, и тот повалился лицом вниз. Калина, подойдя, молча смотрел на него.
– Теперь со своими богами вволю наговорится, – сказал Ухват.
– Зверюга ты, а не человек, – ответил Калина, поглядев ушкуйнику в глаза.
Ухват медленно вытер нож о рубаху на груди Калины, сунул его за голенище ичига и сухо произнес:
– Ты нас вел, свое дело делал, я тебя не учил. И ты меня мое дело делать не учи.
Он нагнулся и вынул из рук шамана серебряный бубен. По склону Глядена уже торопливо поднимались станичники. Впереди всех, работая локтями и зевая, бежал Семка. Ухват скинул на землю армяк, чувствуя, как плечи и грудь упруго наливаются силой.
Чердынские ратники поначалу растерялись, увидев, каким вдруг сноровистым и властным, уверенным в себе стал Ухват. Ушкуйники деловито рассыпались по мольбищу, быстро и умело набивая мешки хабаром.
– Эй, служивые, просейте-ка землю, – издалека негромко велел ратникам Ухват, кивнув на блюда и чаши, что стояли на коленях и возле ног многих идолов. В посуде была насыпана земля вперемешку с монетами.
Ушкуйники выколупывали из древесины драгоценные тамги, собирали посуду, срезали с ветвей серебряные и золотые амулеты, раскидывали золу и угли в очагах на кумирнях. Дюжий Ероха Смыка, кряхтя, переворачивал жертвенные камни, а Семка ловко выгребал из-под них все, что схоронили там шаманы. Взобравшись на бычий загривок Гаврилы Михайлова, юркий Пишка, беглый монах-расстрига из Устюжского Троицкого монастыря, сдирал с болванов персидские блюда, приколоченные вместо лиц. Ратники, вытряхивая содержимое чаш на кафтаны, выбирали деньги и ссыпали их в кошели. Только Калина сидел на валуне и ни в чем не принимал участия.
– Слышь, храмодел, – окликнул его Ухват. – Ты говорил, будто ихний бог-олень земли касаться не может, так ему под копыта серебряные тарелки кладут… Где они?
– Там, – мотнул головой Калина.
– Семка, проверь, – распорядился Ухват и пошагал к священной ели.
Уже без всякого трепета он сунул руки в дупло и выволок Золотую Бабу. С трудом тряхнув ею, он сказал:
– С пуд-то будет… А может, и поболе. Я думал, она цельная, а она полая… Везде начет. – Он усмехнулся, оборачиваясь к Калине. – У нас в запрошлом году Федор Стратилат сгорел, так поп взял образ Симеона Столпника себе: говорит, оклад поправлю, жаром оплавило. Поправил, черт брюхатый, красивше прежнего вернул. Только брал-то литой, а вернул чеканный. Чего уж тут с нехристей спрашивать?
Калина не ответил. Ухват вытащил из дупла шатер для истукана и встряхнул его, расправляя.
– Перлы, никак? Берем. Отпорем, как бог даст час.
Он завернул Бабу в шатер, выбросив изогнутые кости каркаса, и первым двинулся прочь с мольбища.
– Шабаш, станичники! – крикнул он. – Хабар в зубы и уходим!
Станица ссыпалась с Глядена к берегу речонки. По реке Ухват и хотел добраться до насады, спрятанной на Каме. Через парму к насаде не пройти – долго, да еще ночь, да буревалы, да болота. И по дороге мимо шаманского городища не проскользнуть – собаки учуют. Проплыть речкой было единственным способом исчезнуть отсюда. Слава богу, пермякам и в голову не пришло перегородить речонку запрудой. «Дремучие людишки, на кукиш молятся, от жабы совета ждут, – ухмылялся про себя Ухват. – Ворота на засове, а забор псы подмыли…»
Ушкуйники и ратники ременными арканами начали выворачивать из земли идолов, целой рощей столпившихся на берегу. Калина молча стоял в стороне.
– Что, и кушака на аркан уж пожалеешь? – насмешливо спросил его Гаврила Михайлов и плечом налег на ближайшего болвана.
Земля затрещала. Калина глянул в лицо идола, медленно переводившего тяжелый, пугающий взгляд со звезд на него, на человека.
– Берегись! – рявкнул ушкуйник, и Калина отскочил. Идол рухнул на то место, где он только что стоял. Мимо глаз Калины пролетели, падая, черные, дикие глаза истукана.
– Забирай, – распорядился Гаврила, ногой катнув бревно Калине.
Из трех болванов Ухват связал салик и приторочил на него мешки с хабаром. Ухват должен был плыть первым, а за ним – хабар. Калина и Семка замыкали.
– Готовы? – стоя по колено в воде, спросил Ухват. – С богом!
Он толкнул плот и свою чурку на середину реки, забрел по пояс и лег в воду.
Калина замешкался. Когда на берегу остался только Семка, он вынул из-за ворота рубахи зеленую вогульскую тамгу на гайтане – такую же, как у князя Асыки, но поменьше. Наклонившись, он оттиснул ее на песке у воды.
– Ты чего это? – подозрительно спросил Семка.
– Это мой привет вогулам, – ответил Калина, убирая тамгу и спихивая балбана на глубину.
Семка посмотрел на отпечаток, но стереть побоялся, только плюнул в него и заторопился вслед за Калиной.
Без плеска и без шепота станичники один за другим плыли по узкой и вертлявой речке. После впадения Юрчима она стала поглубже, и теперь ноги уже не касались дна. Ветви деревьев то закрывали, то оголяли небо, и тьма вокруг то густела, то становилась реже, сквозистее. По одной, по две вдруг просверкивали звезды. Калина плыл, обняв своего идола за шею, касаясь щекой его неструганой щеки. Казалось, он что-то шепчет истукану на ухо. Но истукан не отвечал, лежа в воде лицом вверх, как покойник в гробу. Только лунные отсветы ползли по его лику, будто ему снились древние, неизъяснимые, вещие чудские сны.
По левую руку, растопорщив частоколы, вдали гусеницей прополз шаманский город, не унюхавший грабителей. А потом Чулман, дохнув свежестью, медленно всосал в себя речку. Прямо над устьем в небе льдисто пылала луна, а за ней сиял весь иконостас мироздания.
Станичники бросали идолов и гребли к берегу. Ухват уже брел по мелководью, в одиночку волоча за ремень плот с хабаром. Калина тоже соскользнул с болвана и поплыл за остальными, беззвучно раздвигая руками темную воду.
Брошенные идолы уплывали вниз по реке куда-то в неизведанную даль, но еще долго черными лучинками они виднелись в широком свечении камского плеса. Узкая и легкая насада с заломленной покуда мачтой, качаясь, выползла кормой вперед из прибрежных кустов. На мгновение остановившись, она, как крылья, расправила весла, взмахнула ими и пошла против течения, все быстрее, быстрее, и вот уже лебедем понеслась туда, где над великой рекой вечной свечкой, как душа, горела северная звезда.
Глава 5
Балбанкар
Второй месяц, изнывая от скуки, станичники жили на Балбанкаре – заброшенном болванском городище. Калина говорил, что здесь им безопаснее всего, потому что пермяки сюда не заходят. Двести лет назад пермская чудь в битве при Чулмандоре разбила нахлынувших монголов. Но через двадцать лет после этого на Каму пришел непобедимый хан Беркай и покарал пермяков, а их священный город Балбанкар – вроде Вышкара под Гляденом – предал мечу и поруганию. С тех пор Балбанкар – «плохое место», куда никто не заглянет.
Балбанкар лежал на вершине высокой прибрежной горы правой стороны Камы. Чело горы, обращенное к реке, было обрывистым и неприступным. Восточный и западный склоны круто падали в лога. На пологом северном скате виднелись друг за другом три заросших вала. Они уже расползлись, как тесто по столешнице, и от частоколов не осталось следа. Шаманы здесь заняли какое-то совсем уж непробудно-древнее городище и, устраивая кумирни, расчистили площадку, обновили диковинные выкладки из огромных бревен и въевшихся в землю валунов, обложили камнями жертвенные ямы, натыкали истуканов, отстроили дома-землянки, выгородив их заплотами из могучих заостренных плах. А теперь, через два века после Беркая, дома порушились, сгнили бревенчатые стрелы, что указывали на звезды, валуны заросли мхом, ямы осыпались, идолы перекосились.
Стояла поздняя и холодная осень. С холма Балбанкара было видно, как хмурый ветер катит волны по синим окрестным лесам, ерошит дальние пармы, треплет последние бурые космы травы под провалившимися кровлями и на полуденных склонах древних насыпей. Земля лежала изнуренная, словно бы все хотела уснуть, а сон не шел.
Голый по пояс, грязный и обросший, Ухват сидел у костра, калил на угольях нож и выжигал вшей на рубахе. Душу его что-то тревожило, а что – он не знал. Вроде все идет по сметке, без сбоев. Никто, кроме истуканов на заброшенных городищах, не заметил, как станица пробралась от Чердыни к Глядену. На Глядене топтались в татарских ичигах. Только вывели спрятанную насаду – сразу же из курьи правого берега спустили вниз по реке заранее приготовленную татарскую шибасу, которую посекли мечами и перевернули вверх дном. Ухват сам всунул между досок шибасы две медные бляхи, подобранные на Глядене. Хватятся вогулы своих сокровищ – а вот им и следы татарских сапог. Дунут вниз по реке в погоню – а вот и шибаса плывет кверху брюхом, а на ней побрякушки с Глядена. Значит, Золотую Бабу унесла татарва да тут же передралась, друг друга порубила, лодку перевернула и утопла. Ни воров, ни краденого. А уж коли вогулы все равно не поверят и кинутся к русским городам, так им в любом пермяцком горте, что по пути встретится, скажут: нет, никто не проплывал. Да и кто проплывет? Станица-то в трех днях пути от Глядена на Балбанкаре прячется! Только теперь это уже не станица, а купецкая ватага. Плыли честные торговые люди из Жукотина, налетели на топляк, струг свой угробили со всем наваром, сами едва живота не лишились. Вот, торчат тут, кукуют, ждут ледостава, потому что по берегу домой пешком не дойдешь: далеко, да грязь осенняя, да паводок на притоках, а новый струг ладить смысла нет – зима не за горами. И где-нибудь на Варвару-мученицу встанут они на лыжи, добегут по льду до ближайшей деревни, купят там нарты с упряжками – и в Чердынь. Там владыка Питирим пособит до Вычегды добраться, а в Усть-Выме князь Ермолай пошлет дальше – в Устюг, в Новгород. Все ладно, все ловко, но почему же такая тревога на душе? Почему же мнится, что кто-то следит за ними незрячим глазом? Почему же чудится, что стоит за спиной неминучая лихая беда?
Ухват вспоминал давний разговор с Калиной и злился. Накаркает храмодел, потому как, видно, задарма душу лукавому отдал и еще на чужие зарится… В день того разговора и погода была похожая: так же кипели над Камой сумрачные облака, и ветер вздувал волну, которая глухим набатом бухала в глиняный яр, и тускло блестел изгиб реки, как бывалая кольчуга на локте.
– Зря мы Бабу уволокли, – говорил Калина. – Не надо было трогать ее. А коли тронули – то нужно сразу в омут. Зачарует она нас, оморочит. Навяжет свою волю и сгубит.
– Креститься надо от бесьего наваждения, – пояснил Пишка.
– Не спасет. Это ведь не сатанинские дела, а вообще безбожные. Здесь, мужики, самый край божьего мира, а дальше – одни демоны творенья, которым ни наша, ни божья воля не указ. Ангелы-то над нами небо еще держат, а демоны всю землю пещерами изрыли, лезут наружу, прорастают болванами. И люди здешние – югорские, пелымские, пермские, – те тоже по пояс из земли торчат. Души у них демонские, каменные.
– Так охристиянить их, гнать нечистого, – все пояснял Пишка.
– Они Христа не боятся, в них ведь не черти сидят, – усмехнулся Калина. – Их ведь и Стефан семьдесят лет назад крестил, потом Исаакий и Герасим радели, теперь в Чердыни Питирим крестит, а они все равно Николе Можаю, как идолу, губы кровью мажут… Сколько я сам церкв поднял, а все не то… Крестом их не взять. Тут сам бог остановился…
– Не доделал, что ль? – спросил вислоусый Иван Большой. – Ты, Калина, никак против святой седмицы толкуешь?
– Седмица… Господь всю вечность сотворил, а мы ее только на неделю и поняли, да и то последний день – отдых… А там, за горами, – то, что у бога дальше было, нам не понять. Тут мы без бога остаемся, лицом к лицу с вечностью…
– Ты доходчивей толкуй, – попросил Ивашка Меньшой, – а то как наш пьяный пономарь: «Покайтесь! Покайтесь!» – а в чем? Сам не знает.
– Как тут объяснить доходчиво, коли и самому все будто в сумерках?.. Ну, это словно здесь мы – как в пещере со свечкой, и свечка – вера наша. А пещера огромная, неизвестная, с чудищами. И вот нам надо либо на месте стоять, чтобы свечку не загасить, либо впотьмах путь, впереди лежащий, руками ощупывать.
– Свечку-то свою, я гляжу, ты уж давненько притушил, – недобро сказал Ухват. – Не со святых книг мудрость твоя, храмодел, а болванами нашептанная да в дыму кумирен примерещившаяся…
– Ты, Хват, мою веру не трожь, – спокойно ответил Калина. – В вере я покрепче твоего. Вот только здесь одной-то ее мало, но и господь нам пределов в вере не ставил. Так что коли я от здешней нежити свои молитвы слагаю и обряды вершу – так на то его благоволение. Когда в бурю вокруг меня Маньпупынёры пели или когда на Янкалмах я от Мертвой Шаманки прятался – не «Отче наш» помог мне, прости, господи! На каждого врага, Хват, – свой меч. Каждому диву – свое разуменье. Я свою веру нерушимой пронес и сквозь прельстительные речи шаманов, и через камлания, и против злой воли Золотой Бабы, и по судьбе своей, и в любви ламии, что пылает, как пожар, только застужает до смерти. Посмотрю я на тебя: каким ты отсюда вернешься?
Ратники слушали Калину со вниманием: им тут жить. Ушкуйники посмеивались – они здесь люди пришлые, временные. Один только Семка глаза вытаращил и рот раззявил – ну да этот дурак всему поверит, ничего не запомнит.
– Не замай, – глухо ответил Ухват Калине.
Саднящим пчелиным укусом горел в душе Ухвата этот разговор. Под хабар ушкуйники отвели маленький погребец рядом с большой, наполовину обвалившейся землянкой. В скуке и безделье, раздумывая над словами Калины, Ухват повадился таскаться в этот погребец. Усаживался на бочонок, где лежало чудское золото, зажигал лучину, всматривался в плоское и безмятежное лицо истукана и не находил в нем ни угрозы, ни знаменья. Он насмешливо щелкал Бабу в лоб ногтем и говорил: «Ну, чего выпучилась? Накося, выкуси! Вот притараню тебя домой, под молот суну, тогда и пялься, коли сможешь. И станешь ты просто куском золота, и начеканят из тебя гривн, а с ними я всю жисть шуча справлялся. Что на долги пущу, что на снаряд, а остатка хватит всей слободой до весны гулять. Болванка – ты и есть болванка, хоть и с глазами…»
Ухват был доволен своей смелостью. Никакое чудское проклятие его не пугало. Но однажды, когда он вел с Бабой такие речи, его словно обухом по темени хватануло. Так ведь вот оно, оморочье пермское! Вот ведь он сам – сидит тайком от всех, говорит с болванкой, как с живым человеком или с церковным образом, мечты свои ей поверяет, будто одобрения просит… А ведь по уговору-то Баба остается владыке и князю, а не ему и не ватаге! Швырнув идола с поставца на пол, Ухват вылетел из погреба. Два дня таращился на Каму, крестился. А потом словно пелена с глаз упала, и увидел он, что ведь каждый из станицы, кроме разве Калины, от безделья ходит глядеть на болванку. Тогда Ухват велел завалить дверь погреба землей.
Никто Ухвату не возразил, но как засыпали погреб – началась в станице такая тоска, точно мужиков от церкви отлучили. Семка целыми днями валялся и в небо смотрел. Пишка словно тронулся, все стал своему монастырю умиляться, будто это и не он, плюясь, сбежал оттуда пять лет назад. Ероха Смыка только и делал, что из лука бил по лицам истуканов, выдирал стрелы и снова бил. Гаврила какие-то корешки и корье собирал, хотел брагу варить, трижды травился до синевы и пены изо рта. Даже служивые приуныли и пропадали от зари до зари кто на охоте, кто на рыбалке.
В ту ночь Ухват сторожил, дремал у костерка. Начался мелкий дождик, Ухват промок, замерз, проснулся и полез в землянку за кошмой. Он выволок ее из-под Семки и уже откинул полог, чтобы выбраться обратно, как вдруг до него дошло, что Калины в землянке нет. Мало ли зачем Калина мог уйти, но почему он уполз тайно, через дальний пролом? И Ухват сразу заподозрил неладное. Он пощупал валявшийся армяк Калины – уже простыл. Давние подозрения опалили душу ушкуйника.
Прямо по спинам товарищей Ухват ломанулся в обрушенный конец землянки, занавешенный от дождя и ветра парусом. Отбросив парус, он пополз по слякоти под упавшими бревнами кровли, ударился головой, сбил шапку и неожиданно провалился руками в сырую, холодную яму. Быстро ощупав края, Ухват понял, что это узкий сруб колодца подземного хода.
«Все! – понял он, разворачиваясь и спуская в сруб ноги. – Вот теперь храмодел себя выдал!» Он соскользнул в сруб, пролетел вниз и упал на дно лаза. Стены его были из тонких кольев, свод – из плах. Из щелей свисали корни и капала вода. Ухват ловко пополз вперед, переваливаясь с боку на бок, чуя могильный запах земли, гниющего дерева и остывшего дымка лучины.
Он прополз саженей десять и вдруг лысиной ощутил холод над головой. Подняв руки, Ухват нащупал другой колодец. Корячаясь, путаясь ногами в армяке, он поднялся в колодце во весь рост и понял, что теперь торчит по плечи из днища погребка. Он рывком вывалился в погреб и зашарил руками по стенкам и поставцам. Бочонки и кошели с хабаром были на месте. Золотая Баба исчезла.
Ухват рухнул обратно в лаз и стремительно пополз вперед, во тьму тайника. «Все рассчитал, собака, – лихорадочно думал он. – Сам нас на Балбанкар привел, сам страстей наплел, чтобы мы погребец засыпали… А потом бы сказал нам, что ушла болванка в землю, что ее Чудь Белоглазая прибрала, да еще бы посмеялся над нами, когда бы мы поверили! А весной бы вернулся сюда и выкопал ее… Тайник-то не иначе как шаманы отрыли, а он его нашел и придумал, как приспособить… Хитер божий человек!»
Дождь обрызгал руки и голову Ухвата. Задыхаясь, ушкуйник выполз на дно оврага под горой, на которой стоял Балбанкар. Царапаясь о голые кусты малины, Ухват ринулся к ручью и рухнул на колени, выискивая следы в прибрежной грязи. Ага, вот они! Вверх храмодел побег, к болотам! Ничего, с таким грузом далеко не уйдет.
Плеща чунями по скользкому ручью, Ухват побежал за Калиной, на ходу доставая нож. Он нагнал храмодела, когда тот полез на склон. Калина шатался, прижимая к груди, как младенца, болванку, закутанную в обрывки шатра. Рубаха его выпукло светлела на темном фоне кручи.