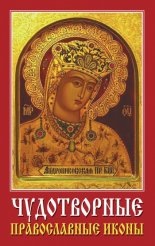Паутина чужих желаний Корсакова Татьяна

– Хорошее я вам дал успокоительное, запатентованное, безвредное. – Доктор улыбнулся. – А то, что мысли путаются и в глазах плывет, так немудрено при вашем-то нынешнем состоянии.
– Больше не могу лежать, – пожаловалась я. – Встать хочу.
– Встанете. Вот завтра будут известны результаты предварительных исследований, и встанете. Думаете, Ева Александровна, мне очень интересно с вами тут пререкаться? У меня, знаете ли, других обязанностей хватает.
В том, что у Валентина Иосифовича хватает других обязанностей, я не сомневалась и в спор решила не вступать. Ничего, мы пойдем другим путем.
* * *
Поместье у Вятских огромное, раза в три поболе нашего будет. И дом красивый, двухэтажный, с изящными ионическими колоннами и лепниной. Дом, почитай, каждый год штукатурят, оттого он все время кажется по-праздничному нарядным. И тополя вдоль подъездной аллеи аккуратные, с высокими пирамидальными кронами. В начале лета деревья цветут, и аллея становится точно снегом усыпанной. Красиво и солнечно.