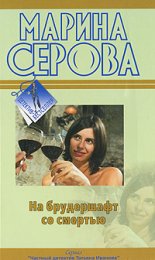Дом одиноких сердец Абдуллаев Чингиз
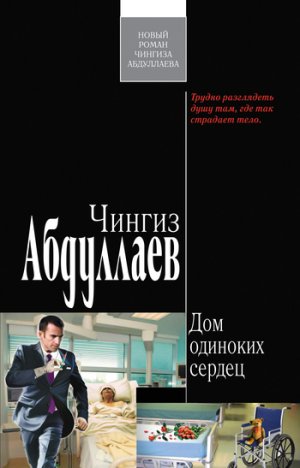
«Власта: – Зачем сразу думать о самом плохом? Ведь все мы хотим, чтобы отец жил как можно дольше. Поэтому в нашем проекте предусмотрены альтернативы. В общем и целом это просто формальности – в нашей семье всегда все так или иначе принадлежало всем, – но мы живем в такое время, когда все, что угодно, может случиться, например, вступление в силу введения экзекутивного задержания личного имущества в случае подозрения в уклонении от расследования какого-нибудь подозрительного случая».
Вацлав Гавел «Уход»
Глава 1
Он прилетел в Москву дождливым мартовским днем. В салоне бизнес-класса летели только четыре пассажира. Сказывались все еще не закончившийся кризис, слякотная погода, мартовская неопределенность первого квартала, после которого серьезные бизнесмены начинают сверять свои планы на год. Настроение у людей тоже было хмурым. Пожилой мужчина лет шестидесяти пяти почти все время дремал, отказавшись от еды. Женщина, которой было за пятьдесят, бодрствовала, все время читала журналы и газеты на разных языках, но от еды тоже отказалась. Третьим пассажиром был мужчина с типичным азиатским лицом, очевидно японец, который, напротив, с аппетитом пообедал и почти все время работал со своим ноутбуком. Самым грустным был четвертый пассажир – сам Дронго. Эта кличка, которую он взял много лет назад, теперь стала символом его успехов и неудач. Ему было уже под пятьдесят. Его внешний облик мало соответствовал имиджу одного из самых известных экспертов в мире по проблемам преступности. Скорее он был похож на бывшего оперативного сотрудника. Высокого роста, широкоплечий, подтянутый, он сразу выделялся в любой толпе. Внимательно приглядевшийся наблюдатель мог определить его профессию только по глазам – у бывших костоломов они не бывают столь вдумчивыми и умудренными. Внимательный, почти гипнотический взгляд черных глаз Дронго иногда завораживал его собеседников настолько, что они рассказывали даже то, чего им не хотелось рассказывать ни при каких обстоятельствах.
Он летел в Москву, уже зная, что его ждут новые дела и новые расследования. В аэропорту его привычно встречал Эдгар Вейдеманис, который приехал в Шереметьево на машине с водителем. После того как Дронго получил багаж, они прошли к автомобилю и устроились в салоне.
– Тебя ищут, – сразу сообщил Вейдеманис, как только они оказались в машине. По сложившейся традиции они никогда не говорили о подобных вещах в зале прилета, где их могли услышать или прослушать. И вообще старались не разговаривать на подобные темы в людных местах. – Тебя ищут сразу два человека.
– Какая неожиданность, – вздохнул Дронго. – Кому еще я могу понадобиться в эти пасмурные мартовские дни?
– Звонил Архипов. Это известный бизнесмен, владелец крупного пакета акций. Просит о срочной встрече. Его состояние оценивают в триста миллионов долларов.
– Чего он хочет? Ты хотя бы примерно знаешь?
– Конечно, знаю. Его сын уехал с какой-то девицей на курорт и загулял там. Об этом писали все газеты. Девица вернулась, а парня посадили в тюрьму за наркотики. Нашли в его чемодане при обыске. Он, конечно, сразу отказался, заявил, что это ему подбросили. Но экспертиза установила, что он уже давно сидит на этих порошках. Хорошо, что это было не в Таиланде, иначе бы его сразу приговорили к смертной казни. А там, на Карибах, ему могут дать лет десять тюрьмы. Или меньше, если отец найдет хороших адвокатов.
– Понятно. При чем тут я?
– Архипов просит о срочной встрече. Считает, что его сына подставили. В газетах пишут, что сын – наркоман уже со стажем и у него были проблемы и с российскими властями, но отец упрямо не хочет в это верить.
– Какой отец хочет верить в такое, – поморщился Дронго, – его можно понять.
– Он хочет срочно с тобой встретиться, – повторил Эдгар. – Очевидно, будет просить тебя отправиться туда и доказать, что его сын не мог хранить у себя кокаин. Дело тухлое и практически бесперспективное, но он, как отец, хватается за любую возможность. Ты меня слушаешь?
– Кто второй? – немного помолчав, спросил Дронго.
– Главный врач какой-то больницы, кажется хосписа. Он вышел на нас через твоего знакомого – академика Бурлакова – и тоже просит о срочной встрече. Бурлаков уверял его, что ты настоящий маг и волшебник. Такой современный Шерлок Холмс и Эркюль Пуаро в одном лице. Вот он и просит о встрече. Степанцев Федор Николаевич. Кажется, он прилетел из Санкт-Петербурга.
– А ему я зачем понадобился?
– Не знаю. Но он очень просил. Звонил вчера вечером, искал тебя. Говорит, что прилетел в Москву только на два дня и очень хочет тебя увидеть.
Дронго молчал и смотрел в окно на начавший накрапывать дождь. Эдгар взглянул на своего друга. Ему не нравилось его настроение. Вейдеманис выждал целую минуту, затем наконец сказал:
– Я думаю, что врачу мы не будем говорить о твоем приезде.
– Почему? – повернулся наконец Дронго. – Ты же говоришь, что его рекомендовал сам академик Бурлаков.
– Можно найти какой-нибудь удобный повод, чтобы ему отказать. А с Архиповым тебе нужно встретиться. Такой человек…
– Очень богатый, – задумчиво произнес Дронго, снова отворачиваясь.
– Он наверняка предложит тебе отправиться на Карибы, чтобы помочь его сыну. Нужно будет объяснить Архипову, что сыну понадобятся хорошие адвокаты. Но ты можешь отправиться туда и хотя бы попытаться помочь.
Дронго снова смотрел в окно.
– Если тебе неинтересно, я не буду говорить, – заметил Вейдеманис, – но учти…
– Эдгар, – перебил его Дронго, – твой западный рационализм начинает меня серьезно тревожить. Посмотри, во что мы превращаемся. Мы ведь с тобой профессионалы и понимаем, что сын Архипова наверняка хранил этот кокаин и дело действительно безнадежное. Тем более если экспертиза установила, что он наркоман со стажем. Но его отец богатый, очень богатый человек, и мы готовы с ним встретиться, чтобы взяться за это бесперспективное дело. Зачем? Для чего? Только для того, чтобы получить деньги у несчастного отца, занятого наживой больше, чем воспитанием собственного сына? Что с нами происходит? Где остались наши принципы, Эдгар?
– В той стране, которой уже нет, – мрачно ответил Вейдеманис. – Если ты еще не забыл, в Латвии я до сих пор нежелательный гость, ведь я был офицером Комитета государственной безопасности. Они не делают разницы между разведкой, в которой я служил, и контрразведкой, которая занималась диссидентами…
– Ими занималось Пятое управление, – добродушно поправил его Дронго.
– Им все равно. Сейчас другие времена. Кажется, ты любишь цитировать Лоуэлла, который говорил, что не меняются только «дураки и покойники». Я не хочу быть ни тем, ни другим.
– Там есть продолжение фразы: «…и немногие порядочные люди…
– …которых с каждым днем становится все меньше и меньше», – закончил фразу Вейдеманис. – Я тебе так скажу. Ты у нас главный мозг. Мы с Кружковым только твои помощники…
– Напарники…
– Помощники, которые готовы выполнять свои поручения. Как ты решишь, так и будет. Если считаешь, что не нужно встречаться с Архиповым, значит, пошлем его к черту. Если считаешь, что лучше встретиться с этим врачом из хосписа, давай встретимся с ним. В конце концов, ты уже заработал столько денег для всех нас, что имеешь право решать, с кем тебе встречаться или не встречаться.
– Будем считать, что во мне проснулась честь профессионала, – пробормотал Дронго. – Я думаю, будет правильно, если мы сообщим Архипову, что я еще не прилетел. В конце концов, он хватается за нас как за последний шанс помочь своему сыну. А пользоваться такой возможностью, чтобы получить у него деньги даже на эту поездку, мне кажется непорядочным. Помнишь у Окуджавы: «Чувство собственного достоинства – удивительный элемент. Нарабатывается годами, а теряется в момент».
– Столько лет тебя знаю и каждый раз удивляюсь, – усмехнулся Вейдеманис. – Кто в наше время говорит о чести, собственном достоинстве или вообще употребляет такое слово, как «порядочность». Кому это интересно? Ты рискуешь остаться последним романтиком среди детективов. Тебя уже давно нужно сдать в музей и показывать как удивительный раритет.
– Без лести, – погрозил ему пальцем Дронго. – Еще одно слово – и я соглашусь встретиться с Архиповым. В конце концов, он тоже несчастный человек, которому нужно помочь. Но помочь ему должны не детективы и не частные эксперты, а профессиональные адвокаты. Пусть пригласит опытных юристов из США или Франции.
– Адвокат из Америки обойдется ему в несколько миллионов долларов, – меланхолично заметил Вейдеманис, – твои услуги были бы дешевле.
– Пусть не экономит. Посоветуй ему сделать это немедленно. Речь идет о судьбе его сына. А мы с тобой встретимся с главным врачом этого хосписа. Ты знаешь, что такое «хоспис»?
– Примерно представляю. Когда у меня обнаружили онкологическое заболевание, я был уверен, что закончу свои дни именно в таком заведении. У моей семьи не было тогда денег даже на лечение меня от ангины. Если бы ты тогда не спас меня…
– Второе предупреждение. Ты приехал за мной в аэропорт, чтобы всю дорогу вспоминать о моем величии? Давай навсегда закроем эту тему. Ты спас себя сам. И сам сумел выжить вопреки всему, вопреки прогнозам врачей. Ну, и удачная операция, которую тебе сделали, она прежде всего сыграла свою роль. Поэтому благодари врачей, а не меня. А хоспис – действительно страшная штука, даже думать об этом учреждении страшно. Место, где доживают свои дни безнадежно больные люди. Можно придумывать массу всяких удобных выражений, но это именно такое заведение. И любой врач, который там работает, почти герой, а пациенты должны иметь своеобразное мужество. Ведь все мы так или иначе приговорены к смерти. Только у некоторых есть отсрочка в двадцать, тридцать, пятьдесят, даже девяносто лет. А у некоторых срок исчисляется днями или неделями. Вот и вся разница.
– Ты вернулся каким-то странным, – заметил Вейдеманис. – Что-нибудь случилось?
– Нет. Просто с годами я начинаю задумываться и о смысле нашего существования, и о бренности наших усилий. Столько лет занимаюсь поисками всякого рода мерзавцев и проходимцев и каждый раз удивляюсь, что их количество растет пропорционально росту человечества. Как будто есть некий заданный процент отрицательных персонажей, который не меняется. И не зависит ни от развития технологий, ни от расцвета науки. Как процент красивых женщин, гениев или кретинов, так и процент мерзавцев. Пропорции остаются одинаковыми. Может, в этом заложен какой-то смысл? Некая стабилизирующая цивилизацию форма отношений? Как в живой природе, где есть хищники и есть жертвы. Кажется, хищников даже иногда называют «санитарами природы» – они уничтожают слабых и больных. Может, и в нашем обществе действуют те же законы? Только там природа сама выступает в роли регулятора, а здесь получается, что мы с тобой невольно выступаем некими «регуляторами» цивилизации?
– Тогда давай поменяем профессию и станем адвокатами, – предложил Эдгар, – и будем защищать преступников. Ты считаешь, что будет лучше, если ты перестанешь разоблачать их?
– В твоих словах чувствуется некоторое пренебрежение к адвокатам. А это ведь самая выдающаяся форма человеческих отношений, какую только выработала наша цивилизация. Возможность предоставить человеку профессиональную защиту от государства, от государственного обвинителя в судебном поединке – это безусловное достижение нашего мира. А насчет «регуляторов» я думаю, что, создав нас непохожими на других живых существ, Бог или природа разрешили нам создавать и некие правила внутри своих коллективов, которые не должны нарушаться ни при каких обстоятельствах. Когда тебе должен позвонить этот врач?
– Сегодня вечером.
– В таком случае давай с ним встретимся. Часов в восемь, если он сумеет приехать к этому времени. И будет лучше, если мы поговорим в нашем офисе, а не у меня дома.
– Мы так и сделаем, – согласился Вейдеманис. – Я думал, что ты захочешь сегодня отдохнуть…
– Со мной не каждый день хочет встретиться главный врач из хосписа, – напомнил Дронго. – А насчет Архипова… Ты знаешь, я подумал, что неприлично отказывать человеку только потому, что у него много денег и он упустил своего сына. Таким образом сказывается наше предубеждение ко всем богатым людям. Это уже такой советский неизлечимый синдром, все богатые – однозначно жулики.
– Можно подумать, что ты знаешь честных миллионеров в бывшем Советском Союзе, – пробормотал Вейдеманис.
– Вот-вот. Я же говорю, что это советский синдром «недобитых интеллигентов». Хотя какой ты интеллигент. Они бы тебе и руки не подали в те времена. Ведь ты был офицером такой ненавистной организации. А ты еще жалуешься на своих мирных латышей. Давай сделаем так. Я сам позвоню Архипову и постараюсь тактично объяснить ему, что там нужен хороший адвокат, а не частный детектив. И моя поездка не принесет такой пользы, как работа профессионального адвоката.
– Он решит, что ты сумасшедший, отказываешься от его предложения.
– Он решит, что я порядочный человек, – возразил Дронго, – и, как бизнесмен, поймет, что я пытаюсь сохранить его деньги.
– Поступай как знаешь, – кивнул Эдгар. – Значит, сегодня в восемь часов вечера мы будем ждать Степанцева у себя?
– Да. И не забывай, что его рекомендовал сам Бурлаков. А академик не будет давать мой номер телефона кому попало. В этом я убежден.
Он замолчал и снова отвернулся. Машина затормозила у светофора.
– У тебя все в порядке? – неожиданно спросил Вейдеманис.
– Да, – ответил Дронго, глядя в окно, – все в идеальном порядке. За исключением того небольшого обстоятельства, что я начал задумываться над смыслом своей работы. Как ты думаешь, может, мне пора уходить на пенсию? Почти во всех странах мира именно в моем возрасте отправляют на пенсию комиссаров полиции и старых детективов.
– Именно в нашем возрасте человек становится мудрее, – возразил Эдгар, – опытные профессионалы работают консультантами, педагогами, руководителями разных курсов или просто советниками. Их нигде в мире не отпускают просто так. Ты это хотел услышать?
Дронго повернул голову и, улыбнувшись, взглянул на друга. Больше они не сказали ни слова, пока не доехали до дома.
Глава 2
Их небольшой офис располагался на проспекте Мира в Москве. Собственно, таких офисов было два – один в Москве, другой в Баку. Оба небольшие, трехкомнатные, в одной из комнат был кабинет самого Дронго, другая служила кабинетом для его напарников, а третья комната была своеобразной приемной, где работала секретарь – в те дни, когда самого эксперта не было в городе. Адреса офисов не афишировались и никогда не публиковались в открытой печати. О них знали только посвященные, которые появлялись здесь с ведома и согласия самого Дронго или его друзей. Ключи от московского офиса были только у двоих напарников – Эдгара Вейдеманиса и Леонида Кружкова, супруга которого числилась секретарем их небольшой компании. В отсутствие самого Дронго и Эдгара супруги Кружковы получали почту и отвечали на письма, приходившие в последнее время больше по электронной почте. Но в момент появления посетителей никого из них здесь не бывало. Это делалось и для удобства самих супругов Кружковых, и в целях их безопасности, чтобы посторонний человек не смог их увидеть. Только Вейдеманис и сам Дронго принимали здесь своих гостей.
В этот вечер сюда постучался Федор Николаевич Степанцев, главный врач хосписа, так настойчиво просивший об этой встрече.
Степанцев вошел, тщательно вытерев ноги о коврик. Снял свой плащ и шляпу, повесил их на вешалку. Ему было лет пятьдесят пять. Среднего роста, в очках, характерные для его возраста залысины, редкие седые волосы. Одет он был в довольно дорогой костюм, что сразу отметили оба эксперта. Галстук был подобран в тон голубой сорочке. Дорогая обувь дополняла его облик. Он взглянул на Вейдеманиса, который пригласил его пройти в кабинет. Дронго вышел из кабинета, чтобы поздороваться с гостем.
– Я много о вас слышал, – начал гость, – позвольте представиться. Федор Николаевич Степанцев. Как мне к вам обращаться?
– Меня обычно называют Дронго, – услышал он в ответ.
– Что ж известная кличка, – улыбнулся Федор Николаевич, входя в кабинет. – Вам нравится, когда вас называются именно так?
– Наверно, это уже привычка, – ответил Дронго. – Судя по всему, вы не только онколог? Я угадал?
– Моя профессия подразумевает, что я обязан быть еще и психологом, – пояснил Степанцев, усаживаясь на стул, – особенно учитывая состояние некоторых больных. Вообще-то я хирург, но практикую уже много лет. Простите, я представлял вас себе несколько иначе. Мне казалось, что вы старше и выглядите по-другому.
– Я знаю, – кивнул Дронго, – обычно мы рассчитываем интеллект по формуле «разум минус физическое совершенство». Нам кажется, что любой интеллектуал, претендующий на некие возможности, должен обладать тщедушным телом и внешностью придавленного своими возможностями Знайки из Солнечного города. Помните, была такая замечательная книга про коротышек и Незнайку?
– Помню, конечно, – улыбнулся Степанцев, – сам читал ее в детстве. Сколько лет уже прошло… Не меньше полувека. А вы ее помните?
– Во всех подробностях. Носов написал прекрасные книги. Особенно про путешествие на Луну. Первые опыты общения с капиталистами. Он как будто чувствовал, что произойдет в конце двадцатого века, когда люди начнут миллионами превращаться в обычных животных, оглупляемых телевидением и журнально-газетным гламурным валом. Но не будем отвлекаться. Итак, вы хотели со мной встретиться и для этого даже попросили академика Бурлакова дать вам мой номер телефона. Я могу узнать, чем именно вызван такой интерес?
– Да, конечно. Я поэтому и решил приехать именно к вам, – вздохнул Степанцев. Он оглянулся на Вейдеманиса.
– Это мой напарник и друг Эдгар Вейдеманис, – сообщил Дронго, – в его присутствии вы можете говорить обо всем.
– Я понимаю. Конечно, – Федор Николаевич нахмурился, характерным жестом поправил очки. – Дело в том, что я не совсем уверен, – сказал он, – но решил, что будет лучше, если я с вами посоветуюсь.
– Что именно вас беспокоит?
– Меня привели к вам странные обстоятельства, если не сказать больше. Возможно, трагические. Наш хоспис находится в Николаевске, это недалеко от Санкт-Петербурга. Не совсем обычный хоспис, вернее, не такой, как остальные. Вы наверняка представляете, как работает хоспис?
– В общих чертах. Признаюсь, что я не бывал в подобных местах.
– Вам повезло, – пробормотал Степанцев, – туда попадают люди на последних стадиях своих заболеваний. Одним словом – безнадежно больные, те, кого уже нельзя спасти. Четвертая стадия, самая разрушительная. Некоторые попадают к нам в уже бессознательном состоянии. Некоторые еще могут позволить себе «роскошь» провести в нашем заведении несколько месяцев. Мы стараемся изо всех сил – делаем все, чтобы облегчить их страдания. Иногда удается, иногда не очень. Иногда происходят срывы, в том числе и нервные. Иногда не выдерживает кто-то из персонала. Это тяжелая работа…
– Я был в лепрозории, – сказал Дронго, – там тоже нелегко. Но там хотя бы можно жить много лет. А в вашем заведении срок, очевидно, сильно сокращен…
– Вот именно. Больше года у нас никто не задерживается. Но я сказал, что у нас не совсем обычный хоспис. Дело в том, что наше учреждение создавалось как элитарный закрытый санаторий для сотрудников партийного аппарата. В восемьдесят пятом году было принято решение направлять сюда больных, которым уже нельзя помочь, чтобы не травмировать остальных. На Каширке тогда создавался крупный онкологический центр, но он занимался лечением больных, а у нас был этакий санаторий для самых безнадежных. Разумеется, тогда его никто не называл хосписом. Потом были девяностые, обычная разруха, все разворовали, унесли, санаторий даже успели приватизировать. Там большой участок земли, рядом подсобное хозяйство, лес, речка, чудесные места. Но хозяева оказались никудышные, основное здание было в таком ужасном состоянии, что требовался капитальный ремонт.
В девяносто девятом его выкупила администрация области, но ничего не успела сделать. Через несколько лет двое не самых бедных людей решили возродить санаторий. У одного из них была безнадежно больна супруга, а у другого скончалась мать. Они вложили довольно приличную сумму и отремонтировали наше здание. Между прочим, супруга, о которой я говорил, потом прожила в нашем хосписе целых восемь месяцев. Пять лет назад было принято решение о том, что создается попечительский совет из руководителей и крупных бизнесменов области. Сделали еще один ремонт, завезли новую технику, оборудование, а мне предложили стать главным врачом. Я тогда работал в облздраве. Должен сказать, что оклад мне предложили очень приличный, и я согласился. Тем более что от города до Николаевска ехать всего полтора часа, причем комфортно: рядом строят какой-то автомобильный завод, и к нам проложили очень приличную дорогу. И с тех пор попечительский совет помогает нашему хоспису, выделяя довольно впечатляющие суммы для его функционирования. Но и попасть к нам может не всякий, а только по рекомендации членов нашего совета. И даже в этих случаях родственники наших пациентов переводят довольно крупную сумму на их содержание…
– Хоспис для богатых людей, – нахмурился Дронго.
– Не для бедных, – кивнул Степанцев, – я хотел, чтобы именно в этом вопросе вы меня правильно поняли.
– Я полагал, что хосписы создаются для помощи людям, которые нуждаются в таких заведениях…
– Правильно полагали. Но среди заболевших бывают и весьма обеспеченные люди. Родные и близкие не могут или не хотят видеть их страданий, да и сами больные не всегда готовы публично демонстрировать свое состояние, подвергая нелегким испытаниям своих детей или внуков. Поэтому они предпочитают переехать к нам. У нас приличный уход и достойные условия. А родственники могут навещать их, у нас нет никаких ограничений – хотя, исходя из моего опыта, могу сказать, что такие встречи бывают тягостными для обеих сторон.
– Понимаю, – кивнул Дронго, – это действительно тяжкое зрелище. Но мне пока не совсем понятна причина, по которой вы решили так срочно со мной встретиться.
– Я вам скажу, – сообщил Федор Николаевич, – дело в том, что в нашем хосписе произошло убийство…
Наступило неприятное молчание. Вейдеманис грустно усмехнулся. Дронго мрачно взглянул на гостя.
– Убийство в хосписе? Убили кого-то из персонала?
– Нет. Нашего пациента. Точнее – пациентку.
– Простите, я не совсем вас понимаю. Вы сказали, что у вас находятся только безнадежно больные, четвертая стадия. Правильно я вас понял?
– Да, только так. Именно безнадежно больные.
– И кто-то убил вашу пациентку, которая все равно должна была умереть через несколько дней? – уточнил Дронго, взглянув на Вейдеманиса. У того было непроницаемое лицо.
– Да, – кивнул Степанцев, – именно поэтому я и пришел к вам. Это была наша пациентка, Боровкова Генриетта Андреевна. Может, вы слышали о ней? В семидесятые годы она была даже заместителем председателя Ленгорсовета. Уникальная старуха. Ей было уже под восемьдесят, а в этом возрасте болезни протекают очень вяло. Не так, как в молодости. Мы считали, что она в довольно тяжелом, но стабильном состоянии, и не подключали ее к аппаратуре, хотя она лежала в реанимационной палате. Наш дежурный врач вечером обходил все палаты и ничего странного не обнаружил. А утром мы нашли ее мертвой.
– Как ее убили?
– Мы сначала даже ничего не поняли. Решили, что она умерла во сне. Ведь у нее были метастазы по всему телу. У нее обнаружили еще лет пятнадцать назад опухоль в груди. Сначала пробовали обычные методы, она даже ездила куда-то в Германию. Потом выяснилось, что химиотерапия ей не помогает. Через несколько лет пришлось пойти на операцию. Ей удалили левую грудь, но было уже поздно. Она прибыла к нам три месяца назад в уже безнадежном состоянии. Наш дежурный врач был убежден, что она умерла именно из-за этого. Должен сказать, что у нас нет морга в привычном понимании этого слова. Наш патологоанатом давно уволился, и не всякий соглашается работать на его месте. Да он нам и не очень нужен, ведь причины смерти всегда настолько очевидные, что мы стараемся щадить чувства родственников и выдаем им тела без обычного вскрытия. В данном случае дежурный врач констатировал смерть, тело увезли в наш «холодильник», как мы его называем. И перед тем как выдать его родственникам, они должны были получить мою подпись. Обычная формальность. Справки подписывает сам главный врач. И я всегда их подписываю. А здесь решил посмотреть…
Степанцев тяжело вздохнул, снова поправил очки.
– Не знаю почему. Может, потому, что она всех доставала своими глупыми придирками, особенно меня. В общем, я решил сам посмотреть. Забыл вам сказать, что в молодости я работал с сотрудниками милиции, – пояснил он, – дежурил с ними по ночам и знаю, как выглядят задушенные люди. Как только я увидел лицо покойной, так сразу и подумал, что это не метастазы. Я отложил выдачу тела и отправил его в город на экспертизу. Если бы вы знали, как меня ругали родственники Боровковой, которые приехали забирать ее! Они даже пожаловались губернатору. Но я настаивал на своем. В морге тоже не хотели возиться с телом из хосписа. Любой врач, который имел хотя бы небольшую квалификацию, сразу понимал, чем именно она страдала и от чего могла умереть. Достаточно было посмотреть на последствия химиотерапии – она носила парик – и увидеть следы после операции. Да еще в ее истории болезни было написано столько ужасов… Тело продержали в морге два дня. Но я продолжал настаивать. Мне выдали официальный документ, что она умерла от метастазов, поразивших ее тело. Но даже после этого я попросил руководителя лаборатории самому проверить мою версию. К этому времени уже была объявлена дата официальных похорон, куда должно было приехать руководство города и области. Даже наши сотрудники считали, что я просто сошел с ума и испытывал к погибшей личную неприязнь. В одной из местных газет написали, что главный врач одной из больниц не дает похоронить свою бывшую пациентку и издевается над ее телом даже после смерти, имея в виду именно меня.
Тогда я сам поехал в лабораторию и попросил Михаила Соломоновича Глейзера посмотреть на тело перед тем, как его выдать. Михаил Соломонович работает патологоанатомом уже сорок пять лет. Ошибиться он не мог. Но к этому времени в дело вмешалась сама губернатор области. Тело приказали немедленно выдать и похоронить. Глейзер человек очень опытный и умный. Он подписал все необходимые документы и распорядился выдать тело. Но перед этим, как настоящий врач, успел зайти и посмотреть на нее лично. Однако не стал возражать, когда приехавшая делегация забрала тело. Похороны показали даже по местному телевидению. Я не решился пойти туда, чтобы меня не линчевали. Все говорили о том, какой я негодяй. А на следующий день мне позвонил Михаил Соломонович.
Когда мы с ним встретились, он признался, что моя версия имеет гораздо больше оснований, чем заключение его сотрудника. Тот просто отписался, даже не проведя положенного вскрытия. На мой вопрос, почему он не остановил выдачу тела и не опротестовал решение своего коллеги, Глейзер грустно ответил, что ему позвонили сверху и приказали немедленно выдать тело. Вы знаете, что он мне сказал? Вы даже не поверите.
«Мой отец, Соломон Борисович Глейзер, был арестован в сорок девятом году только потому, что отказался подписать липовый акт о смерти забитого на допросе заключенного, бывшего партийного чиновника, которых арестовывали в Ленинграде по известному делу Вознесенского-Кузнецова. И семь лет отец провел в лагерях. От меня потребовали на комсомольском собрании отречься от него. Я отказался отрекаться, просто не мог предать своего отца. Тогда меня исключили из комсомола и выгнали из школы. Мне пришлось пойти работать и учиться в вечерней школе. Спустя полвека история повторяется – уже не в виде такой трагедии, но и не в виде фарса. Мою дочь должны утвердить главным врачом четвертой поликлиники. Документы находятся на рассмотрении в администрации губернатора. И если в этот момент я начну настаивать на вашей версии и сорву официальные похороны, на которые должны приехать ответственные московские чиновники, то моя дочь никогда не получит этой должности. И будет помнить об этом всю жизнь. Я никогда не обвинял своего отца. Но как поведет себя моя дочь? Или мой зять, ее муж? У них и без меня хватает своих проблем. Я не хотел об этом даже думать. Как, вы считаете, я должен был поступить? Ведь с телом все равно ничего не будет, и мы при желании можем добиться эксгумации по вновь открывшимся обстоятельствам уже после того, как все несколько уляжется».
– Его можно понять, – заметил Дронго, – этот страх уже генетически сидит в людях, чьи родные и близкие подверглись репрессиям. Я до сих пор не могу понять, как можно было делать героя из Павлика Морозова, предавшего собственного отца. Или требовать от комсомольцев выступать на собраниях с осуждением собственных родителей. Наверно, пройдя через подобное чистилище, нельзя оставаться прежним человеком.
– Не знаю, я тогда не жил. Трудно сказать, как бы мы с вами поступили в то время, – признался Степанцев, – возможно, также осуждали бы родителей или позволили бы исключить нас из комсомола за наше нежелание предавать собственных отцов. Но я понимаю мотивы Михаила Соломоновича. И не осуждаю его. Однако теперь я был точно уверен, что ее задушили. Сначала я решил обратиться в милицию, но затем передумал. Ведь я обязан буду официально заявить о случившемся в нашем хосписе. Что тогда произойдет? Во-первых, меня накажут за случившееся, если даже сразу не снимут с работы. Во-вторых, начнется скандал с эксгумацией трупа, меня тут же обвинят в том, что я не хочу оставить ее в покое после смерти. Не скрою: она была конфликтным человеком и у нас происходили различные стычки, что сразу используют против меня. И, наконец, в-третьих, нет никаких доказательств. Есть официальный документ о ее смерти, который подписан мною и заверен Глейзером. Нам просто не поверят или обвинят в должностном подлоге. Еще неизвестно, что хуже. Поэтому я решил обратиться именно к вам. Возможно, вы сумеете мне помочь. И уже тогда, опираясь на результаты вашего расследования, я потребую официального возбуждения уголовного дела.
Дронго взглянул на Вейдеманиса. Тот молча пожал плечами. Такого необычного дела у них никогда еще не было.
– Если бы не ее неожиданная смерть, – уточнил Дронго. – Когда она могла умереть? Назовите самый крайний срок.
– Две или три недели. Хотя иногда случаются чудеса. Но в ее случае… Две недели, не больше. Она уже начинала заговариваться.
– У вас могли быть посторонние в помещении в ту ночь, когда она умерла… или была убита.
– Нет. У нас на улице повсюду установлены камеры. Для наблюдения за больными, если они выйдут погулять в сад. Но в здании камер нет. Считается неэтичным подглядывать за больными. Хотя я просил несколько раз установить камеры и в каждой палате. Да и больных у нас не так много. В ту ночь почти никого из персонала не было. Именно это беспокоит меня больше всего. Почему ее убили и кто это мог сделать?
– Полагаю, что первый вопрос самый важный. Причина? Кому понадобилось убивать человека и так приговоренного к смерти? Если мы будем знать ответ на этот вопрос, то найдем ответы и на все остальные, – сказал Дронго.
– Я понимаю, что вы частный эксперт, – пробормотал, явно смущаясь, Степанцев, – и если вы согласитесь… Я готов оплатить вам ваши расходы…
– Господин Степанцев, – поднялся со своего места Дронго, – должен вам заметить, что своих обидчиков я легко спускаю с лестницы. И только из уважения к вашей профессии и вашей нелегкой работе я не считаю ваши слова оскорблением. Надеюсь, вы понимаете, что я не могу брать деньги за работу в хосписе. Когда вы уезжаете обратно?
– Завтра утром. У меня самолет на Санкт-Петербург.
– Я предпочитаю ездить поездом. Завтра вечером мы будем у вас. Надеюсь, что до этого времени у вас не произойдет ничего страшного.
Глава 3
Степанцев согласно кивнул. Было заметно, как он нервничает. Эдгар налил ему стакан воды, и врач залпом выпил ее. Поблагодарил, возвращая стакан.
– У нас элитарный хоспис, – криво улыбнулся гость, – вы понимаете, что и пациенты не совсем обычные, да и зарплата у меня на порядок выше, чем у остальных главных врачей. Поэтому охотников на мое место хватает. Достаточно только один раз ошибиться…
– Я вас понимаю. У вас много пациентов?
– Нет. Не каждый может к нам попасть. В ту ночь было четырнадцать человек больных. Из них пятеро тяжелых. Они не могли самостоятельно передвигаться. Остаются девять человек.
– Тоже больных?
– Да. Но для того чтобы накрыть беспомощную старуху подушкой, много сил и не требуется.
– У вас большой персонал?
– Двадцать семь человек, включая меня.
– Не слишком ли много на четырнадцать больных?
– Нет. Обычная практика. У нас после дежурства врачи должны сутки отдыхать. Как минимум. Работа не для слабонервных, некоторые не выдерживают. Кроме того, у нас свое подсобное хозяйство, два водителя, повара, санитарки, нянечки, сторожа.
– И сколько человек работали в ту ночь?
– Четверо. Дежурный врач, сторож, две санитарки. Больше никого. Последним уехал я со своим водителем. Потом ворота закрылись. Двери обычно тоже закрываются, чтобы никто не беспокоил наших пациентов. На окнах решетки. Управление МЧС уже дважды присылало нам свои предписания, чтобы мы сняли решетки, но мы их не снимаем. У нас очень хорошая противопожарная система, везде установлены датчики, в случае необходимости сработает автоматика и вода потушит любой пожар. Здание двухэтажное, и все палаты находятся на первом этаже. А все административные помещения – на втором. И реанимационные палаты для тех, кто уже не в состоянии двигаться. Для перевозки больных у нас есть даже лифт в нашем основном здании.
– Есть и другие здания?
– Конечно. Еще два здания примыкают к нашему. В одном – наш «холодильник», куда мы отправляем пациентов перед тем, как выдать их родственникам. В другом – разделочный цех. У нас там своя живность: курицы, утки, даже своя корова есть. Сторожа за ними следят. Там есть и для них помещение.
– Значит, сторож не может войти ночью в основное здание?
– Теоретически нет. Они никогда не заходят. Но практически, конечно, мог. У наших сторожей есть свои запасные ключи от дверей. Однако я не помню ни одного случая, чтобы они появлялись у нас после отбоя, если их специально не вызывали. Сторожа нормальные люди и понимают, какие пациенты находятся в нашем хосписе.
– Сколько у вас врачей?
– Восемь человек. Я и мой заместитель освобождены от дежурства. Остальные дежурят по очереди. Четверо женщин и двое мужчин. Один из них – наш ведущий сотрудник Сурен Арамович Мирзоян; он как раз специалист в области онкологии, и я разрешаю ему консультировать и в больнице Николаевска. Очень толковый врач. Но в ту ночь был другой сотрудник – Алексей Мокрушкин. Такая немного смешная фамилия. Он самый молодой среди нас. Ему только двадцать девять. В Николаевске у него живет семья, и поэтому он охотно пошел к нам на работу.
– Давно работает?
– Уже второй год. Хороший парень, но звезд с неба не хватает. В семнадцать окончил школу и ушел в армию. В девятнадцать вернулся. Пытался поступить в институт, ничего не получилось. На следующий год опять не вышло. Только с третьей попытки поступил, да и то в какой-то провинциальный медицинский институт в Челябинске. Кажется, там у него работала тетка. Проучился шесть лет и приехал сюда. Работал в больнице Николаевска на полставки. А у него семья, маленький ребенок. В общем, попав к нам, был счастлив как никогда, зарплата выросла сразу в четыре раза. Он, конечно, не самый опытный врач, но у него есть терпение, которого часто не хватает другим. В армии он тоже работал в санитарной службе, поэтому решил поступать в медицинский.
– Ясно. А ваш сторож?
– Асхат Тагиров, татарин. Ему уже за пятьдесят. Раньше у нас было три сторожа, но один уволился и уехал куда-то на Украину, или, как сейчас правильно говорить, в Украину. А Асхат остался. Он работает на пару вместе с другим сторожем – Савелием Колядко. И получают они соответственно по полтора оклада. Их это устраивает. Нас тоже – не нужно искать чужих людей. Оба сторожа – люди надежные, работают у нас уже давно. Следят за «зоопарком», как мы называем нашу живность. Савелий женат, у него дочь и двое внуков. А у Асхата жена умерла несколько лет назад, а сын живет где-то в Казани. Поэтому он один, и ему даже удобнее все время быть у нас, вместе с людьми. Он тоже живет в Николаевске.
– А две ваши санитарки?
– Одна нянечка, другая санитарка. Хотя обе числятся санитарками. Там оклад немного разный. Старшая – Клавдия Антоновна Димина, она у нас уже лет тридцать, еще до меня работала. Ей уже под шестьдесят. Очень толковая женщина, на нее можно положиться. Я обычно оставлял ее в паре с Мокрушкиным, чтобы она ему помогла в случае необходимости. Она как бы считается нашей главной санитаркой. А еще молодая – Зинаида Вутко. Она тоже местная, работает у нас только четыре месяца. Ей около тридцати, раньше работала в поликлинике, но там оклад небольшой. Разведена, воспитывает сына. Он уже школьник. Когда у нас освободилось место, Клавдия Антоновна предложила мне взять эту молодую женщину. Я побеседовал с ней и согласился. Она весьма дисциплинированная и энергичная молодая женщина. У нас ведь работа тяжелая, приходится убирать за больными, ухаживать за ними…
– Четверо сотрудников вашей больницы, – подвел итог Дронго. – Но вы сказали, что в эту ночь было четырнадцать больных?
– Пятерых можете смело отбросить, – сразу ответил Степанцев, – они просто не смогли бы самостоятельно подняться. Двое вообще были подключены к аппаратуре искусственного дыхания. Поэтому пятерых нужно убрать. Остаются девять человек. И все девять – тяжелобольные пациенты, каждому из которых осталось жить не больше нескольких месяцев. Некоторым и того меньше.
– У вас с собой список этих пациентов? – уточнил Дронго. – Давайте вместе его просмотрим.
– С чего вы взяли? – удивился Степанцев. – Почему вы так решили?
– Разве он не лежит у вас в кармане?
– Верно. Он действительно у меня с собой. Но как вы догадались?
– Вы ведь решили со мной встретиться еще несколько дней назад, – пояснил Дронго, – значит, готовились к этой встрече, пытались анализировать, кто из ваших пациентов или сотрудников мог совершить подобное преступление. Судя по тому, как точно вы знаете, что Мокрушкин учился в Челябинске, а сын Асхата Тагирова живет в Казани, вы анализировали этот список долго и тщательно, пытаясь понять, кто из них может быть главным подозреваемым.
– Все правильно, – несколько озадаченно кивнул Федор Николаевич, – я действительно пытался сам определить, кто мог совершить такой дикий поступок.
– Преступление, – поправил его Дронго. – Если даже она погибла за минуту до своей естественной смерти, то это называется особо тяжким преступлением. Во всем мире.
– Да, наверно. Но непонятно, кому и зачем это было нужно.
– Вернемся к вашим пациентам. Значит, четырнадцать человек. Молодые среди них есть?
– Трое, – ответил Степанцев, – иногда эта болезнь не щадит и детей. У нас всего пять пациентов до пятидесяти лет. Мы считаем их молодыми. Но двое уже не могут самостоятельно ходить, а один при смерти – остались буквально считаные часы. Вторая женщина под капельницей. Она тоже не смогла бы подняться. Значит, они отпадают. Остаются трое, о которых я говорил. Две женщины – Эльза Витицкая и Антонина Кравчук. И мужчина – Радомир Бажич.
– Он серб или хорват? – уточнил Дронго.
– Нет, кажется, он из Македонии. Вернее, его отец из Македонии, а мать из Белоруссии. Мы потом уточнили, у них в семье наследственные патологии. Отец и дед умерли от схожей болезни в сорок пять и сорок семь лет. У них редкое заболевание мозга. Операции делать бесполезно, можно повредить структуру личности, а химиотерапия в таких случаях просто опасна. Мы можем только помочь облегчить страдание. Но он еще в состоянии двигаться и говорить. Хотя понятно, что срыв может произойти в любой день.
– Сколько у него времени?
– Месяц, от силы два. Боли уже начались, мы делаем ему уколы успокоительного, каждый раз немного увеличивая дозу.
– Простите за дилетантский вопрос. Никто из ваших пациентов не мог совершить преступление, находясь в стадии невменяемости? После ваших препаратов может наступить такая реакция?
– Нет. Абсолютно исключено. Мы не даем подобных возбуждающих средств. Люди и так находятся под диким стрессом, любой подобный препарат может вызвать просто неуправляемую реакцию. Вы можете себе представить, что многие из них, даже в таком положении, надеются на чудо.
– Такова человеческая природа. Вы сказали, что две женщины еще молоды…
– Да. У Антонины проблемы с кожей. Уже появились характерные симптомы, указывающие на последнюю стадию. У Эльзы неоперабельная онкология груди.
– Как вы все это выносите! – вырвалось у Дронго. – Нужно обладать большим запасом оптимизма, чтобы работать в вашем заведении.
– Это моя работа, – вздохнул Степанцев, – только в отличие от других больниц в нашей не бывает выздоравливающих.
– Никогда?
– Кроме одного случая. На моей памяти случился только один. Пациентку привезли с подозрением на четвертую стадию. Анализы подтвердили самые худшие опасения. Но она неожиданно начала выздоравливать. Я до сих пор считаю, что тогда произошла просто врачебная ошибка в ее диагностике. Но вся загадка в том, что я ее сам осматривал и тоже был убежден в правильности диагноза. Она выписалась через два месяца и уехала. А нам на память оставила иконку, перед которой все время молилась. Я не очень верующий человек в силу моей профессии. Трудно разглядеть душу там, где так страдает тело. Но в тот момент, признаюсь, что я заколебался. Вот это – единственный случай. Но такие парадоксы случаются, когда речь идет о поджелудочной железе. Сложно диагностировать правильно, еще сложнее вовремя начать лечение. В советское время Чазов ввел диспансеризацию для всех ответственных партийных работников. До сих пор вспоминают, что смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний снизилась тогда в разы. Сейчас этого нет, и больных привозят к нам уже в крайне тяжелом состоянии.
– Чем занимались все трое до того, как попали к вам?
– Радомир работал ведущим специалистом – кажется, в филиале известной немецкой компании. Они перевели нам деньги за его лечение. Витицкая была ведущей на телевидении в Новгороде. Очень эффектная женщина, нравилась мужчинам. Была трижды замужем, но детей не было. А вот у Антонины Кравчук в ее сорок четыре года уже трое взрослых девочек. Муж – состоятельный бизнесмен, и она сама настояла, чтобы переехать сюда и не травмировать своих дочек. Старшей уже двадцать два года. Насколько я понял, у нее уже есть жених. И мать не захотела, чтобы ее видели в таком состоянии. Особенно жених ее дочери. Да и остальным она была бы в тягость. Вы можете себе представить, какие изменения бывают при ее болезни?
– Не нужно рассказывать, – попросил Дронго, – я все равно завтра к вам приеду. Понимаю, насколько трагичными могут быть истории каждого из ваших пациентов. Сейчас я думаю, что любые деньги, которые вам могут платить, – слишком малая плата за то, что вы видите.
– Вы же сказали, что были в лепрозории, – напомнил Степанцев, – разве работать с прокаженными легче? Или в сумасшедшем доме, где ваш пациент может выкинуть все, что угодно? В любой сельской больнице в течение года происходит столько непредвиденных и малосимпатичных событий, что можно было снять целый сериал. Страшный и откровенный одновременно.
– Поэтому я всегда относился с особым пиететом к представителям вашей профессии, – признался Дронго. – Давайте дальше. Остается еще шесть человек.
– Двое мужчин и четыре женщины, – сказал Степанцев, доставая свой список. – Мужчины – Арсений Угрюмов и Константин Мишенин. Женщины – Марина Шаблинская, Елена Ярушкина, Казимира Желтович и Тамара Забелло.
– У вас там указаны их бывшие профессии?
– Конечно. Угрюмов работал на Севере, ему уже пятьдесят четыре года. Известная российская нефтяная компания. Они его к нам и определили. Типичный синдром – больная печень. Там, на Севере, иначе просто не выжить. Некоторым удается вовремя остановиться. Ему не удалось. Он перенес желтуху уже в подростковом возрасте, и это дало рецидив. Ему просто нельзя было так злоупотреблять алкоголем, но он уверял меня, что иначе там нельзя. Я думаю, что он говорил правду. Константин Мишенин был акционером компании, занимавшейся переработкой леса, входил в состав директоров компании. Ему уже пятьдесят девять. Вполне обеспеченный человек. У него проблемы с почками. Одну уже удалили, но, судя по всему, вторая тоже поражена. Первую операцию делали в Великобритании два года назад. Тогда ему сказали, что у него есть все шансы на выздоровление. Но сейчас начала отказывать вторая почка. Так иногда случается: болезнь переходит на вторую почку, и остановить ее практически невозможно. Он сам понимает, что помочь ему уже нельзя. Даже иногда шутит по этому поводу.
– Они находятся… как-то вместе?
– Мишенин с Бажичем, а Угрюмов сейчас один. Его напарника перевели в реанимацию, он совсем плох. Это тот, о котором я говорил. Он при смерти, и я думаю, что речь идет уже о последних часах. Но у нас на первом этаже еще шесть женщин. Двое, о которых я говорил. Они как раз вместе, им так удобнее. Витицкая и Кравчук. Общие интересы, общие разговоры. И еще четверо. Шаблинская – бывшая балерина, прима Мариинки, блистала в семидесятые годы. Говорят, что была протеже самого первого секретаря обкома; возможно, это слухи. Сейчас ей уже под семьдесят. Старается держаться, но знает свой диагноз. У нее проблемы с кишечником, уже дважды вырезали, но в последней стадии нельзя ничем помочь. Я думаю, что ее погубили все эти новомодные диеты. Говорят, что она танцевала почти до сорока пяти лет. Вторая – Елена Геннадьевна Ярушкина, супруга бывшего министра Павла Ярушкина. Был такой министр общего машиностроения, известный генерал, академик, лауреат. Он давно умер, но остались родственники и друзья, которые и определили ее к нам. Она находится в одной палате с Шаблинской, и, кажется, они были знакомы и раньше.
Следующая – Казимира Желтович, ей уже далеко за восемьдесят. Возможно, она наш самый почетный «долгожитель». В ее возрасте все процессы происходят гораздо медленнее, и у нее есть все шансы провести у нас еще целый год. Или немногим меньше. Ее внучка – супруга нашего вице-губернатора, вот она-то ее к нам и определила. Казимира Станиславовна раньше лежала в палате с Идрисовой. Эта женщина, которая сейчас лежит под капельницей. Ей совсем плохо. А саму Желтович мы перевели в другую палату. Хотя ей это было не очень приятно. Да и соседка ее была недовольна. А она – как раз четвертая женщина из тех, о которых я хотел вам рассказать. Раньше она оставалась с Генриеттой Андреевной. Они тоже были знакомы по прежней работе. Сама Тамара Рудольфовна Забелло, бывший директор текстильной фабрики, легендарная женщина, Герой Социалистического Труда. Она сама переехала к нам, решив не беспокоить своего сына и внуков. У нее рак крови. В ее состоянии нужно проводить систематическое переливание крови. Раньше это как-то помогало, но в последнее время организм уже не справляется. Мужественная женщина. Вот, собственно, и все. Только эти девять человек и четверо из нашего персонала могли ночью войти в палату Боровковой.
– Ваши больные спят в палатах по двое?
– На первом этаже – да. Но самые тяжелые – уже на втором этаже, по одному. В реанимации. Нельзя, чтобы другие видели, как они уходят. Это зрелище только для наших глаз.
– Значит, погибшая была одна?
– Да, в палате реанимации на втором этаже. Все знают, что если переводят туда, значит, положение совсем отчаянное. Они даже шутят, что пациентов отправляют наверх постепенно – сначала на второй, а потом на небо. Вот такие горькие шутки. Боровкова была на втором этаже. В соседнем кабинете находился наш дежурный врач, но он ничего не слышал. У больных есть кнопка срочного вызова. У всех больных. И этот сигнал идет и в комнату врача, и в комнату санитарок. Кроме того, наши санитарки обходят всех пациентов каждую ночь несколько раз. Это обязательное правило.
– А заснуть они не могли?
– Все трое? Нет, не могли. Мокрушкин очень ответственно относится к своей работе, я даже представить не могу, что он мог бы уснуть во время дежурства. И Клавдия Антоновна очень дисциплинированный человек. Нет-нет, это исключено.
– И никто ничего не слышал?
– Я разговаривал с каждым. Никто ничего не слышал.
– Вы объяснили им, почему задаете такие странные вопросы?
– Нет. Они знают, что меня интересуют все мелочи, все происходящее в нашем хосписе. Иначе нельзя. Я ведь не просто главный врач нашего учреждения. Я одновременно директор и руководитель, который отвечает за все, что у нас происходит.
– У вас есть свой завхоз?
– Конечно, есть. Кирилл Евсеев. Он – моя правая рука, даже больше, чем заместитель.
– А кто ваш заместитель?
– Светлана Тимофеевна Клинкевич. Она работает у нас только с прошлого года. Ее супруг – один из руководителей облздрава.
Он сказал это ровным и спокойным голосом, но что-то заставило Дронго насторожиться.
– Сколько ей лет?
– Тридцать шесть. Молодая и перспективная кандидат наук, – сказал с явной иронией Степанцев. – Представьте себе, сегодня в хоспис идут даже ученые.
– Она живет в Николаевске?
– Нет, в самом центре Санкт-Петербурга. И служебная машина супруга каждый рабочий день привозит и увозит ее обратно. Можете сами подсчитать, сколько бензина уходит на такую дорогу.
– Вы говорили, что у вас удобная дорога, – напомнил Дронго.
– И поэтому сюда можно гонять служебную машину?
– Но вы тоже ездите туда на служебной машине.
– Которая принадлежит нашему хоспису, – вспыхнул Степанцев.
– Кандидат на ваше место, – все понял Дронго.
– Очевидно, – кивнул Федор Николаевич, – она считает, что так быстрее сделает карьеру. Она думает о своей карьере, а я – о своем учреждении. И все, что она делает или сделает, будет лишь для показухи и выдвижения. Но разве в наши дни кто-нибудь интересуется такими «мелочами»?
– Это через нее узнали о смерти Боровковой?
– Безусловно. И она же организовала утечку информации в прессу о таком чудовищном вампире, как я. В общем, все понятно: обычные интриги на работе. У нас большой бюджет, есть много поводов для организации проверок. Особенно когда твой муж работает первым заместителем руководителя облздрава. С ее приходом наш коллектив начало лихорадить. Раньше такого никогда не было. Но это тоже нужно пережить. Я надеюсь, что ее уберут наверх, минуя мою должность.