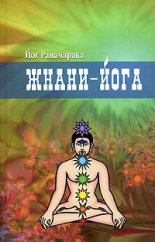Яд Борджиа Линдау Мартин
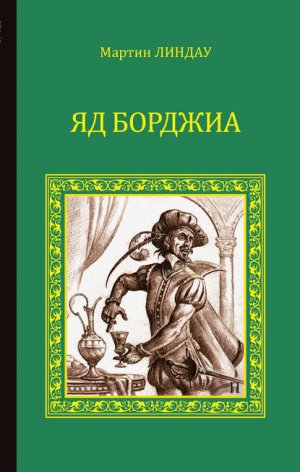
– Вырви меня из когтей этого человека, Цезарь! – вопила Фиамма. – Что значит все это?
– Я хочу только оградить вашу честь и безопасность, – воскликнул Альфонсо, – иначе пусть обрушатся на меня эти священные своды. Клянусь, что я намерен с глубоким почтением отвести вас под защиту Фабрицио Колонны, если он взят под стражу французами.
Однако, эти слова как будто еще усилили страх молодой женщины, и она, словно обезумев, бросилась на колени почти под копыта коня Цезаря, который высоко взвился на дыбы.
– Правда, прекрасная синьора, – сказал Цезарь, продолжая заливаться своим страшным хохотом, – эта причуда кажется нам весьма странной, но мы не хотим отнимать тебя у священного рыцаря. Впрочем, если ты боишься, то вот тебе мой кинжал.
Тут он насмешливо протянул ей рукоятку острого и окровавленного кинжала. Однако, Фиамма, подняв кинжал высоко над своей головой и, глядя Цезарю в глаза, крикнула:
– Слушай, изменник и предатель! Я напомню тебе предсказание твоего колдуна Савватия, что тебе суждено со временем быть обязанным мне своей жизнью или потерять ее. Говори же, должна ли я ударить в свое сердце, потому что твое собственное тверже стали!
– Она сумасшедшая, – с видимым беспокойством сказал Цезарь. – Голод и страх лишили ее рассудка. Но нам не следует забывать, что при настоящей великой победе она оказала нам кое-какие услуги. Мигуэлото, отведи ее в замок с прочими пленными женщинами.
– Я один провожу ее, – воскликнул иоаннит, когда Мигуэлото, шатаясь, двинулся вперед.
Рыцари, в особенности Орсини и Лебофор, поддержали его притязания при общем хохоте и ругательствах, и Цезарь уступил как будто без затруднений. Фиамма полубессознательно позволила иоанниту увести себя прочь, но шла за ним, повернув голову назад и не спуская взора с Борджиа, пока не скрылась за дверями собора.
Капуанский замок был во власти победителей. На самых высоких башнях развевались яркие флаги с французскими лилиями на голубом поле. Чтобы достигнуть ворот, приходилось пересечь площадь. Здесь вся мостовая была завалена грудами убитых, вперемежку с конскими трупами, среди ужасающего опустошения. Нигде не замечалось и следа сопротивления, а за варварской резней последовали грабеж и всякие бесчинства и насилия. Площадь казалась покрытой развалинами после жестокого землетрясения, такой на ней образовался хаос. Богатейшая утварь, драгоценные камни, ящики с серебряной посудой, тюки шелковых материй были навалены грудами вперемежку с самыми простыми предметами домашнего обихода. Двери всех домов были взломаны и некоторые из них пылали, подожженные грабителями. Дорогие вещи беспрестанно швыряли из окон под отвратительный хохот и грубое ликование. В каждом жилище разыгрывалась своя трагедия, из каждого неслись крики испуга, вопли отчаяния, заглушаемые диким гамом и ревом победителей. Женщины высокого звания, в роскошной одежде, бились в объятиях самых презренных обозных служителей, тогда как другие избегли этой ужасной участи, бросившись вниз головой с балконов своих домов. Дворцы и храмы были поруганы таким же образом. Ничто не встречало пощады, и напрасно монахини взывали к Небу, которому посвятили себя. Папское отлучение, постигшее весь город, опрокинуло единственную преграду, сдерживавшую страсти разнузданных воинов, и каждый из них предался самому отвратительному распутству.
Безграничная мерзость этого зрелища ужаснула даже напуганную, ожесточенную Фиамму, и она машинально отдалась руководству своего защитника. Но ее страх еще усилился, когда, вступив в замок, они услышали крик:
«Убивайте всех! Не надо пленных! Смерть всем!»
Эти крики неслись из галерей и комнат замка, наполненных, как заметил теперь Альфонсо, солдатами Борджиа и Вителли. Сначала он хотел отвести свою пленницу к французским полководцам и просить их защиты для угнетенной. Но, когда раздался кровожадный крик, а Фиамма завопила:
«Не к нему, не к Фабрицио!» – он вспомнил об одинокой башне, куда его ввели при начале его неудачных переговоров с Колонной, проник туда через тесный вход и втащил Фиамму по лестнице в комнату верхнего этажа. Несчастная женщина потеряла тут сознание.
Так как солдаты продолжали кричать, то Альфонсо, опасаясь покушения на жизнь Фиаммы, заперся в своем убежище как можно крепче, а затем решил попытаться привести в чувство Фиамму. Однако, обернувшись назад, он с ужасом увидел, что она забилась в угол и с дикой гримасой следила за его движениями, сжимая в руке кинжал.
«Хоть бы Цезарь был дьяволом, я хочу принадлежать ему и не буду ничьею до последнего вздоха!» – крикнула несчастная, почти задыхаясь.
Почтительно приблизившись к ней, иоаннит выразил опасение, что им обоим грозит беда от восстания, несомненно, поднятого Цезарем ради их обоюдной гибели. Но тут Фиамма внезапно бросилась к нему и с такой силой ударила его кинжалом в грудь, что клинок согнулся, встретив крепкую броню, и разлетелся на куски. Однако, это напряжение забрало ее последние силы, и Фиамма без чувств упала к ногам рыцаря.
Альфонсо не мог рассчитывать ни на чью помощь, чтобы привести ее в сознание, а к несмолкаемому шуму в крепости примешивались теперь крики, вероятно, издаваемые жертвами возобновившейся резни. К счастью, рыцарь нашел полуопорожненный кубок с вином, поданный ему Фабрицио при прибытии, и принялся заботливо ухаживать за юной пленницей.
Наконец, она пришла в себя, приподнялась с судорожным усилием и осмотрелась вокруг. Иоаннит старался клятвами и просьбами успокоить ее расстроенное воображение, однако, ему до того не удавалось внушить ей доверие к себе. Наконец, сознание вернулось к ней, и она заговорила. Дикий поток ее речей открыл рыцарю, как сильно привязана она к своему неумолимому соблазнителю Цезарю и сколько выстрадала ради него. Затем Альфонсо услышал, каким опасностям подвергалась жизнь Фиаммы, когда она подкупала в Капуе наемных солдат, чтобы предать город войскам Цезаря, как она, почти умирая от голода в соборе, наконец, склонила немецкого воина впустить войско Цезаря в укрепленный город. Рыцарь едва мог поверить такому вероломству, но в конце концов с отвращением убедился, что Цезарь дал согласие на переговоры с осажденными лишь для того, чтобы вернее и неожиданнее осуществить свой коварный умысел.
Между тем, наплыв горьких воспоминаний произвел такое потрясающее действие на молодую женщину, что она разразилась безумным хохотом.
– Теперь я понимаю все! – воскликнула она: – Цезарь отдал меня тебе, изменнику Лукреции. Часть его замысла заключалась в том, чтобы разбить ей сердце и отделаться заодно от поклонника сестры, к которому она благоволила. Но тем не менее, он убьет тебя, убьет нас обоих! О, поспеши обмануть его постыдную жестокость! Предоставь меня моей участи... Ради Бога, предоставь меня ему!
Фиамма, по-видимому, была основательно посвящена в тайны дома Борджиа, и Альфонсо надеялся добиться от нее некоторых объяснений. Он стал оспаривать справедливость ее последнего довода, указывая на слухи о том, что Лукреция состояла в преступной связи с Цезарем. Фиамма горячо возражала на это, сообщила ему о планах своего возлюбленного относительно брака между Лукрецией и сыном герцога Феррарского, о всей карнавальной интриге, в которой она принимала участие в виде феи Морганы, и, наконец, яростно упрекнула его в том, что он послан из Феррары с целью распространять клевету против всей партии Борджиа. В ответ на это иоаннит рассказал ей все происшествие в гроте Эгерии.
Подозрение относительно неверности Цезаря, вероятно, давно уже таившееся в сердце несчастной жертвы, подтвердилось этими данными, за достоверность которых ручалось благородство феррарского рыцаря. Однако, Фиамма все еще не соглашалась с его выводами из всего виденного им и продолжала спор, не обращая внимания на окружавшие их ужасы и опасности.
Альфонсо между тем заметил, что шум прекратился, по крайней мере, в крепости, и умышленно затягивал разговор, чтобы не дать Фиамме впасть в изнеможение. Таким образом среди их пылких пререканий наступила темнота, и молодая женщина стала убедительно просить иоаннита удалиться, а ее отпустить, чтобы она могла добровольно предать себя мщению Цезаря, избавив тем своего защитника от той же участи. Рыцарь был глубоко тронут таким самоотвержением, видя, что у несчастной оставалось лишь одно желание, одна надежда – умереть от руки изменника. Поэтому он ответил, что хочет сначала убедиться, утих ли шум, а потом пойдет к французским полководцам, чтобы выпросить у них стражу для ее охраны. Сказав это, он отворил оконный ставень с целью посмотреть, что произошло.
Лучезарное солнце Кампаньи зашло над картиной ужаснейшего разрушения и кровопролития, и теперь ночное небо смотрело на еще более ужасный пир палачей шести тысяч жертв, устроенный посреди еще не остывших трупов убитых. На обширной площади, озаренной светом факелов и горящих смоляных бочек, дьяволы в человеческом образе совершали омерзительнейшие деяния, причем собственные воины Борджиа, отбросы многих наций, приводили в изумление своими страшными разбойничьими поступками даже своих кровожадных боевых товарищей.
Сам Цезарь был сосредоточием и первым зачинщиком этого ужасного праздника убийства. Он сидел между грудами богатой добычи, окруженный несколькими из своих свирепейших военачальников, опоражнивал полные кубки вина и хохотал при воплях ужаса множества пленниц, которых гнали к нему сквозь копья его вооруженных людей, а также множества воинов, вытащенных из потайных мест, где они скрывались от врагов. Цезарь и его страшные товарищи, казалось, выбирали себе жертвы в группах этих несчастных, а остальных предоставляли произволу безжалостных солдат, обрекая беззащитных на невыразимые муки.
– Он ищет меня между этими группами, – сказала Фиамма со спокойствием отчаяния. – Цезарь думает, что ты погиб при моей защите. Фабрицио также нашел себе смерть из-за моего преступления. Оставьте же меня, добрый рыцарь, ради собственной безопасности, ведь Борджиа скоро убедится, что меня нет среди пленных, начнет искать меня здесь, в замке, и убьет нас обоих.
– Никто не смеет причинить вам вред, пока мой меч годен на что-нибудь, – ответил Альфонсо. – Но теперь в замке, кажется, все затихло. Эта уединенная комната не возбуждает подозрений, и, конечно, французы прогнали грабителей. Я попрошу рыцаря де Латремуйля дать вам охрану, и, наверно, он уважит мою просьбу. Заложите только за мною дверные засовы. Их одних достаточно, чтобы защитить вас, если я замешкаюсь дольше, чем рассчитываю.
Фиамма поспешно одобрила этот план, однако, к ее глазам подступили жгучие слезы от страха. Когда же иоаннит с большой нежностью и участием стал успокаивать ее обещаниями вскоре вернуться, а в то же время вынул меч для защиты на опасном пути, это явное противоречие переполнило скорбью ее душу.
– Неужели и ты, великодушный, благородный рыцарь, должен жертвовать собою ради спасения меня, недостойной того, чтобы остаться в живых? – воскликнула она. – Зачем хочешь ты помочь существу, которое не стремится ни к чему, кроме вечного уничтожения? Прощай! Я не могу принести тебе красноречивую благодарность, потому что слова напрасны. Спаси меня, если хочешь и можешь, спаси для жалких годов непреходящего страха, которые могут еще мне предстоять, и еще раз прощай.
Альфонсо был искренне тронут. Он обнял Фиамму с братской нежностью и поспешно удалился, но, очутившись за порогом, постоял еще, прислушиваясь, как она задвигала засовы.
В коридоре, которые вел из башни, ему попалось лишь несколько окровавленных трупов, и он не удивился, увидав на них значки Цезаря. Каменная лестница, которая вела в парадные комнаты замка, также была усеяна мертвыми телами, свидетельствовавшими о схватке между грабителями и защитниками, между пленниками и убийцами. Среди них попался один английский стрелок из свиты Лебофора. Двери, которые вели с этой лестницы в крепость, были крепко заперты и Альфонсо не без затруднения выбрался на площадь. Сопровождаемый одним из швейцарских солдат, он вскоре предстал перед французскими полководцами, которые сидели за столом с несколькими рыцарями, не принимавшими участия в ужасном кровопролитии, и со своими пленными. В числе последних находился и Фабрицио Колонна. Лебофор и Орсини сидели с ним рядом и, как узнал потом Альфонсо, Фабрицио был обязан их храброму заступничеству своим освобождением из рук грабителей и убийц Цезаря.
Иоаннит горячо желал доказать Фабрицио, что он нисколько не причастен к предательскому нападению, а потому стал горько жаловаться французским полководцам, что на него пало несправедливое подозрение в вероломстве, и потребовал, чтобы резня была немедленно окончена.
– Цезарю принадлежит вся слава и весь позор этого деяния, – сказал Латремуйль, – но на войне не придают важности договорам, пока они не подтверждены крестным целованием. Этот кровавый пример сделает ненужными много других, поэтому предоставим солдату свирепствовать досыта. Сверх того, о порядке и повиновении теперь нет и разговора. Если бы мы вздумали сдерживать своих подчиненных, то подстрекнули бы их только к еще худшим беспорядкам, чем тот, который был нами прекращен, потому что герцог сам поощряет их разнузданность. Однако, мне кажется, рыцарь, что вы менее всех имеете повод жаловаться, вам досталась прекраснейшая добыча в Капуе.
– Я спас от позора девушку высокого происхождения, благородный синьор, – с неудовольствием ответил Альфонсо, – и пришел сюда просить вашей защиты для нее. Мне хотелось бы привести эту несчастную к вам или к благородному Колонне.
– Приведите ее ко мне! – с яростью воскликнул Фабрицио. – На костер ее, французы, как колдунью и изменницу, иначе она предаст нас всех!
– Она получит охрану, которую я могу ей дать, – ответил Латремуйль. – Приведите ее сюда! Но если она – особа легкого поведения, то, пожалуй, у вас скоро появится здесь соперник.
– Я, по крайней мере, не собираюсь выходить здесь на поединок с иоаннитским рыцарем, – сказал Орсини. – Однако, нам стыдно отзываться таким образом о той, которая носит, хотя и недостойным образом, благородное имя Колонна.
– Я помогу вам, феррарский рыцарь, защищать вашу добычу против целого мира, – с благородным жаром подхватил Лебофор. – Или она находится в толпе тех несчастных и ее нужно еще освободить? Если так, то вот мой меч в придачу к вашему, как ни отчаянно это предприятие.
– В этом нет надобности, – ответил Альфонсо. – Дайте мне, однако, немного пищи для проголодавшейся пленницы и факел. Я тотчас вернусь.
Лебофор и многие французские рыцари вызвались сопровождать его, лукаво перешептываясь между собою, и Альфонсо согласился на это, чтобы тем успешнее опровергнуть их нескромные предположения. Однако, его сердце стеснилось от тревожного предчувствия, когда, поднимаясь по винтовой лестнице, он заметил, что двери уединенной комнаты, где он оставил Фиамму, распахнуты настежь. Вступив в нее, он осветил факелом все углы, но Фиаммы нигде не было. По недоверчивым улыбкам своих провожатых иоаннит догадался, что они подозревают, что он привел их сюда лишь для отвода глаз, и эта мысль еще более укрепилась в нем, когда Пасло Орсини подошел к окну и, выглянув оттуда на площадь, точно ожидая увидать внизу изуродованный труп несчастной, тихо сказал Лебофору:
Не сам ли он сбросил ее туда?
В самом деле, отворенная дверь наводила иоаннита на мысль, что Фиамма, желая ввести его в заблуждение относительно ужасного способа своего самоубийства, нарочно распахнула ее настежь или избрала не менее страшный риск спуститься вниз к осатаневшему пирующему войску. В обоих случаях разведки были бы напрасными и, вероятно, привели бы его к гибели, если бы он попался Цезарю при таких обстоятельствах. Тем не менее, иоаннит, обманутый в своих ожиданиях, огорченный за Фиамму, не хотел совершенно отказаться от розысков. Он провел всю ночь один, тревожно и чутко прислушиваясь ко всему происходившему под окнами на площади, однако, не заметил ничего, что могло бы успокоить или усилить его опасения. Наконец, постепенно наступившее безмолвие в опустошенном городе, холодный, утренний воздух и собственное изнурение заставили его незаметно впасть в прерывистый, нарушаемый страшными видениями сон.
ГЛАВА IV
Второе завоевание Неаполя совершилось так же быстро, как и первое при Карле Восьмом. Войско французов и папского дворянства переходило от города к городу, и все они сдавались, едва завидев французские знамена. Альфонсо почти казалось, что он видит сон, когда Неаполь подчинился на очень невыгодных условиях, и он смотрел через великолепный залив на скалы острова Искии, куда злополучный король Федерико поспешил как в свое последнее убежище.
Французское войско двинулось дальше, чтобы занять границы, указанные ему в договоре о разделе, а Цезарь готовился с вспомогательными войсками выступить обратно в Рим под предлогом совершить завоевание городов, на которые заявлял права папа. В виде последней попытки рыцарского состязания де Латремуйль передал командование наступлением на Искию Альфонсо, Паоло Орсини и Лебофору.
Неутомимые старания Альфонсо разузнать что-либо об участи Фиаммы были безуспешны, и ему хотелось продолжать поиски ее. Однако, это было невозможно: он не видел возможности отклонить почетное поручение Латремуйля, тем более что оно было принято с жаром его соперниками, а сила морского вооружения и упорное сопротивление гарнизона Искии делали это завоевание одним из опаснейших предприятий в ту войну.
Едва Цезарь ушел со своими войсками от Неаполя, разнеслась весть, что Борджиа дали перехитрить себя дворянам. Дело в том, что вскоре после прибытия герцога в Рим Ареццо восстало против Флоренции, а в то же время почти все войско дворян вторглось в Тоскану для поддержки восстания и восстановления дома Медичи. Хотя Цезарь со своими войсками осадил Камерино, один из городов, на которые заявил притязания папа, однако, взятие его и полная удача всего завоевательного плана Борджиа составили бы ничтожный противовес громадному превосходству, которого достигли бы дворяне восстановлением власти Медичи. Между тем, война в Неаполе велась вяло. Начались переговоры, и хотя приготовления к нападению на Искию продолжались, однако, три рыцаря участника турнира были обречены оставаться при этом безучастными зрителями.
Ни шумная походная жизнь, полная всевозможных случайностей, ни разлука не изгладили впечатления, которое произвела на сердце Альфонсо прелестная Лукреция. Несмотря на то, что он старался не поддаваться опасному обаянию, роскошный климат Неаполя, заставлявший забывать все на свете, кроме любви, любовно поддерживал чары воспоминаний, преследовавших его, и его постоянно мучили опасения по поводу планов Орсини о браке Паоло с Лукрецией. В довершение всего, он узнал о внезапном отъезде Паоло в Рим. Когда же вскоре после этого стало известным отречение от престола несчастного неаполитанского короля, то и все военные силы Орсини, переданные им под начальство Лебофора, чрезвычайно поспешно выступили из лагеря в Рим.
Альфонсо не захотел подражать подобной поспешности и, хотя горел нетерпением увидеть Лукрецию, все же отправился в Неаполь, чтобы проститься с французскими полководцами и передать им командование вверенного ему войска. Только там дошли до него удивительные известия, несомненно, послужившие поводом к поспешному возвращению Орсини.
Цезарь победоносно осуществил великий замысел, посредством которого хотел обеспечить громадное увеличение своих владений. Для этого он решил использовать опять войска дворянства, действовавшие в Тоскане. Как будто одобряя их желание захватить Флоренцию, чтобы вернуть ее Медичи, он стал во главе их, даже наперекор французам, и это обмануло дворян. Затем он заявил, что для обеспечения победы необходимо, чтобы им оказал помощь герцог Урбинский со всеми своими военными силами, а главное, со своей артиллерией, доведенной до высокой степени совершенства. Герцог Гвидобальдо попался в эту ловушку и выслал свое войско из страны, приказав ему примкнуть к Цезарю под Камерино. Однако, когда это случилось, Цезарь стянул вместе свои гарнизоны в Романье, двинул их против Урбино, а одновременно сам внезапно свернул со своего пути в Камерино с избранным отрядом и вторгся с огнем и мечом в беззащитную область своего нового союзника, герцога Урбинского. Вскоре же все богатое герцогство Урбино очутилось во власти Цезаря, а герцогу Гвидобальдо и его брату не без труда удалось бежать в Венецию. Добившись такого крупного приращения своих владений, Цезарь отрекся от всякого участия в походе против Флоренции. В то же время французы отправили на помощь республике сильный отряд войска, и это принудило Вителли отказаться от завоевания Флоренции и удалиться из Тосканы. Таким образом, союзники были одурачены. Так как папа Александр, не забывая о завоевании Камерино, послал туда подкрепление, то союзные дворяне совершенно перепугались и их предводитель даже старался вступить в переговоры с Цезарем. Цезарь начал их, но, усыпляя союзников мирными предложениями, распорядился произвести внезапное нападение на Камерино, овладел городом и казнил его правителей, как изменников. Подобная военная удача, гибель верного друга Феррары и внезапное соседство такого бессовестного властелина, каким являлся Цезарь, объединивший массу земель в своих руках, были настолько зловещи, что заставили Альфонсо поспешить в Рим, где его давно ожидали с нетерпением. Это было видно по тому, что, едва успев прибыть, он получил через Бембо приказание папы явиться к нему, отдохнув с дороги, а до тех пор снова занять свои прежние комнаты в Ватикане. Казалось бы, это было благоприятным признаком, однако, тайные опасения Альфонсо немало усилились, когда Бембо, ревностный защитник Лукреции в былое время, совершенно отступился от нее теперь и заявил, что не сомневается более в ее необузданной страсти к Лебофору, так как она не могла скрыть свое радости и восторга при свидании с ним даже в присутствии грозных соперников, ревниво следивших за ней.
К тому же и политическое положение было неблагоприятно для Феррары. Партия Борджиа торжествовала вполне, потому что французский король как будто предоставил им беспрепятственно предаваться грабежам и мщению, а вместе с тем его герольды приказали повелителям Болоньи передать этот громадный город роду Борджиа. Союзники так растерялись, что даже не протестовали и беспрекословно предоставили военные силы на поддержку этого предприятия Цезаря. В виду всего этого, Бембо настоятельно советовал принцу Альфонсо, во избежание неминуемого и крайне опасного открытия его инкогнито, немедленно уехать из Рима в Феррару, не повидавшись ни с папой, ни с Лукрецией.
Однако, Альфонсо не принял этого совета, а запальчиво заявил, что он не хочет осудить Лукрецию, не имея достаточных улик против нее, и что у него выработан план, ограждающий его от непосредственной опасности, соединенной с его мнимой ролью посланника, на тот случай, если бы действительно оказалось, что склонность Лукреции к Лебофору переступила границы простого кокетства. «В момент победы, – прибавил он, – должно обнаружиться, были ли искренни уверения папы». Бембо упорно стоял на своем, но не мог поколебать решимость Альфонсо, и тот поспешил в Ватикан.
Едва он вошел в свое прежнее помещение и приказал доложить его святейшеству о своем прибытии, папа лично вошел к нему в сопровождении начальника своей канцелярии. Александр так спешил, что только простер руки над коленопреклоненным Альфонсо вместо того, чтобы произнести обычное благословение, и тотчас заговорил о деле, занимавшем его мысли.
– Теперь, – воскликнул он, – повелители Феррары поневоле не верят нам, даже если бы они были недоверчивы, как апостол Фома. Ты видишь, сын мой, как Господь помог нам преодолеть козни врагов и мятежников. Мы намерены попрать их, как стекло, своими сандалиями с помощью союза, который задумали заключить с Феррарой. Теперь мы хотим говорить так ясно, чтобы у ваших дворян не оставалось более предлога к сомнению. Подойди ближе, Джианн Баттиста, затвори все двери и будь начеку!
Усевшись в одно из высоких резных кресел, Александр с омрачившимся лицом и тяжелым вздохом окинул взором великолепные украшения комнаты. Эта комната была ненавистна также и Альфонсо, так как еще недавно являлась брачной покоем Лукреции. Под влиянием своего подозрения относительно преступных отношений между Александром VI и его дочерью Лукрецией, он подумал, что и угрюмость папы вызвана подобной же ненавистью. Однако, он не вставал с колен, пока ему не подали знака подняться.
– Вы – посланник нашего вассала, которого мы намерены сделать независимым государем, – заговорил папа. – Церковь, конечно, простит нам, когда мы обменяем ее призрачное обладание Феррарой на существенное господство, доставленное нами ей вновь в стольких странах и богатых городах, тем более что, по нашему мнению, святейший престол обязан Ферраре возвращением ему Болоньи, находившейся столько лет под незаконно захваченной властью. Но если бы мы, напротив, уступили убедительным просьбам нашего племянника и предоставили независимое войско в распоряжение его столь молодого и честолюбивого вождя, то наверно, вместо блага сотворили бы зло. Так пусть же все итальянские властители поймут, что наш отказ доставит Цезарю могущественное орудие, которого он домогался, содействует более их выгоде, чем нашему величию. Да, повторяю еще раз: если этот союз нельзя заключить, не припугнувши хорошенько дворян, то я должен согласиться на это. Пусть не воображают, что я отдамся во власть людей, кощунственно выражавших намерение объявить нас недостойными занимаемого нами престола и посадить на наше место враждебного нам и непокорного мятежника Юлиана делла Ровере. Наша племянница также не примет предложения Орсини, и мы не желаем теперь вступать в столь тесную дружбу с наглыми разбойниками, уничтожение которых с каждым днем становится все справедливее и необходимее.
Альфонсо был смущен этими откровенными речами, приподнимавшими завесу, под которой скрывалась далеко не успокоительная политика Цезаря.
– Но, ваше святейшество, достоинство моего повелителя требует предварительного удостоверения в том, что он не рискует получить отказ от донны Лукреции, – сказал наконец Альфонсо в надежде выпутаться таким образом из затруднения или хотя бы получить отсрочку.
– Сын мой, – ответил Александр, – она совершенно подчинилась моей воле и обещала мне дать вам удостоверение, что, как только вы официально попросите ее руки от имени своего повелителя, она официально даст свое согласие.
Альфонсо был так поражен этим известием, что не нашелся, что ответить, а папа, не заметивший в своем волнении этого странного молчания, с жаром заговорил о своих планах. Его щедрые обещания относительно приданого Лукреции и освобождения Феррары от подчинения и уплаты податей церкви ручались за настойчивость его желаний, однако, не могли соблазнить Альфонсо. Ему не давала покоя мысль, что Лукреция нарочно поставила его в это затруднение, чтобы погубить разоблачением тщетности его мнимой миссии или принудить его к поспешному бегству из Рима, которое избавило бы ее от его шпионства, и дало бы возможность предаваться на свободе своей страсти к Лебофору.
К счастью, папа был настолько поглощён своими собственными планами, что не заметил чувств, обуревавших Альфонсо, и заключил свою речь приглашением отправиться прямо к Лукреции, чтобы услышать из ее собственных уст подтверждение своих обещаний. Альфонсо боялся, что роль, которую он играл, опасна и что он рискует получить резкий ответ от Лукреции. Однако, ему было невозможно отклонить предложенную честь, а потому он, волнуемый странной смесью чувств, отправился с папою в покои Лукреции. При входе в зал, где сидела Лукреция, он почувствовал сначала большое облегчение, увидев там многочисленное общество. Но жало ревности снова уязвило его сердце, когда он заметил, что молодая женщина играет в шахматы с Лебофором в отдаленной тесной нише окна. Нежный взор Реджинальда был так пристально устремлен на нее, что он почти машинально передвигал фигуры на шахматной доске. Лукреция бойко и самоуверенно разговаривала с ним, когда вошел папа с Альфонсо, и проворно сделала ход, которым надеялась взять верх над своим партнером. В этот же момент Лебофор запечатлел пламенный поцелуй на ее руке. Лукреция побледнев, поспешно отдернула руку, но тотчас поднесла ее к своим губам и нежно промолвила:
– Лукавый рыцарь, поцелуй жжет даже мои губы, следовало бы утолить их боль!
Досада придала твердости Альфонсо, и он стоял холодно и гордо перед Лукрецией, когда она поднялась навстречу своему отцу, как будто не замечая присутствия Альфонсо. Александр с улыбкой отошел в сторону. Когда же она увидала иоаннита, на глазах у нее навернулись слезы. Хотя она старалась скрыть свое волнение, но не делала попытки смахнуть их с ресниц и сказала несколько холодных слов приветствия с многозначительным взглядом на группу, стоявшую на балконе. Там, прислонившись спиной к балконным перилам, находился Цезарь, и смотрел в зал, продолжая для вида веселый разговор с несколькими дамами и молодыми придворными.
– Мы не забыли несколько серьезного и неприступного рыцаря-иоаннита, – небрежно сказала Лукреция, когда Александр многозначительно назвал его имя, и, лукаво улыбнувшись, обратилась к Лебофору: – Теперь и вашему другу Орсини следовало бы явиться к нам, чтобы выслушать решение относительно нашего турнира. Мы просим вас прийти к нам завтра сюда в обычный час нашего вечернего приема, и тогда вы все дадите нам отчет о своих подвигах, а мы произнесем свое решение в один из следующих дней.
– Не сделаете ли вы милость, назначив для этого послезавтрашний день, ибо мое пребывание в Риме будет весьма непродолжительной? – сказал Альфонсо.
– Хорошо, я согласна, – ответила Лукреция и отвернулась.
– А, тебе хочется отвезти в безопасное место свою добычу! – тоном добродушной шутки воскликнул Цезарь, подходя к кругу разговаривающих. – Уж не боишься ли ты, добрый рыцарь, что я вздумаю отнять у тебя возлюбленную султана Зема?
– Боюсь, ваше высочество, что вы уже сыграли со мною эту шутку, – с непринужденной веселостью подхватил Альфонсо, радуясь случаю уколоть гордую Лукрецию.
– В чьи бы руки ни попала несчастная Колонна, – заметила она, – будем, однако, надеяться, что они лучше тех, из которых она вырвалась. Пусть будет достаточно того, что мы изъявили нашу волю, а теперь я буду продолжать прерванную партию в шахматы с рыцарем Лебофором.
Иоаннит вскоре удалился, не желая более оставаться свидетелем торжества своего соперника. Придя к себе, он приказал Бембо распорядиться всем необходимым для отъезда тотчас после приговора дам, и Бембо беспрекословно подчинился этому.
Пока он занимался своими приготовлениями, Альфонсо проводил время в неприятном беспокойстве. На закате солнца к нему вошел паж, и с хитрой улыбкой доложил, что какая-то женщина под густой вуалью, которой он спас в Капуе честь и жизнь, хочет повидаться с ним, чтобы изъявить ему свою благодарность. Альфонсо тотчас вспомнил Фиамму и приказал допустить к нему незнакомку.
На пороге показалась женщина, закутанная в черный плащ. Когда же она откинула вуаль, Альфонсо увидел бледное, скорбное лицо Фиаммы Колонна.
– Как, – с удивлением спросил он, – вы рискнули явиться в Рим, в лагерь своих врагов?
– Более того – в их крепость, – ответила Фиамма, опираясь лбом на судорожно стиснутые руки. – В ту безумную ночь в Капуе я бросилась к Цезарю Борджиа, чтобы скорее испить самую горькую чащу, чем продолжать терзаться страхом, и погибнуть от его руки, чем доставить ему отговорку, будто я была обесчещена другим. Не удивляйтесь!.. Ведь даже ваша честность не спасла бы меня от его подозрений. Поэтому я соглашалась лучше умереть. Однако, он пощадил меня и спрятал. Я вообразила, что злодей опомнился, но в действительности ему хотелось только повредить вам в глазах Лукреции и жестоко уязвить ее гнусной клеветой, которую он возвел на вас.
– Ну, ей все равно: она занята теперь совсем иным.
– Но есть еще мщение, мщение за все, – сказала Фиамма, скрежеща зубами. – Нет, не за все! Он был так несправедлив ко мне, что никакая месть не послужит достаточной карой ему за это. Что же касается вас... Ведь для вас все еще важно получить те достоверные сведения, ради которых, как уверяют, вы были посланы сюда своим повелителем?
– Да, какою бы то ни было ценою, – ответил Альфонсо.
– Ну, тогда вы можете сообщить ему, что Лукреция питает преступную любовь, и в этом я убедилась путем беседы с ее духовником.
– Отцом Бруно, заключенным теперь в замке Святого Ангела?
– Вот именно. С ним обращаются с неслыханной строгостью, к нему не допускают никого и он сидит в такой темной камере, что надо удивляться, как этот несчастный может, без сверхъестественного озарения, читать книгу, над которой он вечно размышляет. Однако, я все же добилась свидания с ним, чтобы переговорить о Лукреции. Я упросила Мигуэлото устроить мне это свидание, ссылаясь на мучения совести. Жестокий каталонец по своему набожен и, оттачивая нож, чтобы перерезать тайком мне горло, способен позаботиться о спасении моей грешной души. Не стану докучать вам передачей своего разговора с отцом Бруно – он был ужасен, однако, монаху не удалось запугать меня никакими ужасами и он не мог побудить меня ни к какому раскаянию, потому что моя душа так изнурена, что я могу питать только одну надежду на месть. Однако с помощью хитрости и намеков на перенесенные оскорбления я добилась смутных, но дьявольских подтверждений своей догадки, причем вынесла убеждение, что и Цезарь, и Лукреция пока еще только втайне питают чувство преступной любви друг к другу, так что есть еще возможность предотвратить роковой шаг. В конце беседы Бруно удалось как-то склонить меня к тому, чтобы я, поставив на карту свою жизнь, помогла ему выйти тайком из замка, положившись только на его обещание вернуться назад, раньше чем успеют заметить его отсутствие.
– Я угадываю остальное! Он бежал! Но ради чего же вы доставили ему возможность к побегу? – в сильном волнении воскликнул иоаннит.
– Чтобы, он посетил свою духовную дочь, вывел ее из преступной беспечности и с помощью своих ужасных обличений и чудесного бегства из Рима вырвал ее из той мрачной бездны, в которую она была готова броситься.
– Ну, а что же сделал Бруно? Скрылся?
– О, нет, он честно сдержал свое слово и добровольно вернулся в свою ужасную темницу. Из его слов я узнала, что ему удалось переговорить с Лукрецией наедине в гроте Эгерии. В суеверном испуге при его чудесном появлении, она покаялась в том, что любит безумно и не может противиться своему безумию, что ее страсть греховна и отчаянна, однако, никакие устрашения и угрозы не помогли вырвать у нее имя обожаемого ею человека, так как инстинкт любви подсказывал ей, что это сопряжено с опасностью. Бруно пылает страшным гневом на ее упорство и обещал открыть мне ужасные намерения и страшные преступления Цезаря Борджиа.
– Да, но с помощью какой волшебной силы? – воскликнул иоаннит. – Впрочем, имя возлюбленного Лукреции известно и без того. Это – Реджинальд Лебофор!
– Волшебная сила? – промолвила Фиамма и в смущении взглянула на рыцаря. – Действительно, никто, кроме мертвецов, не может открыть все ужасы злодейств, совершенных Борджиа, и если у вас хватит храбрости выдержать их страшное присутствие, то вы можете удостовериться в том, ради чего вы присланы сюда повелителем.
– Присутствие смерти? Достоверность? – содрогаясь повторил Альфонсо, потому что в те времена верили в возможность подобных вещей.
– Монах не решался на это, я же связана страшной клятвой, – сказала Фиамма, отирая со лба холодный пот. – Слышали ли вы когда-либо про мага дона Савватия?
– Я слышал на юбилее, что ему по приказу Цезаря были обещаны большие награды, – ответил Альфонсо.
– Говорили, что нужна его помощь при подготовлявшихся торжественных процессиях, на самом же деле к ней прибегали, чтобы сбыть непрошеного гостя, – объяснила Фиамма. – Если вы рискнете отправиться со мною в катакомбы сегодня ночью, то мы увидим убийцу в присутствии его жертвы, и услышим, как он будет открывать тайны своей черной души.
– Возможно ли? – спросил иоаннит. – Неужели есть средство заставить могилу выпустить на волю ее страшных обитателей?
– Если колдовство не удастся, то преступная совесть подействует сильнее всякого чародейства, и мы услышим истину от того, кто менее всего желал бы разглашать ее.
– Но неужели мрачная тайна должна обнаружиться в столь священном месте, как катакомбы, где покоилось столько святых мучеников? – воскликнул Альфонсо.
– Разбойники и убийцы в Риме, превратившие катакомбы в свое убежище, давно изгнали из них все священное. Дьяволы ходят въявь по галереям, где в минувшие времена шествовали ангелы между останками мучеников и на скалах чертили рассказы об их страданиях. Впрочем, как тебе угодно: подумай сперва, если не решаешься сразу, и отпусти меня теперь. Ведь мне пора вернуться в место своих мучений, как грешной мухе при первом проблеске рассвета под могилами кладбища. Если не ты согласен на попытку, которая навсегда избавит тебя и твоего господина от мучительной неизвестности, то говори. Тогда я встречу тебя у ворот Святого Себастьяна, переодетая нищенствующим монахом, и проведу к месту свидания. Оно произойдет в полночь.
Подстрекаемый желанием, поглотившим всего его, Альфонсо дал торжественную клятву пренебречь всякой опасностью, какая могла угрожать ему при этом приключении, и встретиться с Фиаммой в назначенный час. Условившись между собою, они расстались.
Его решимость поддерживалась надеждой, что открытие преступления Лукреции вернет ему душевное спокойствие, но вместе с тем, его беспокоили и сомнения. Разве не могла Фиамма, при всех поводах к мщению, все-таки послужить орудием Цезаря с целью погубить его? Но в конце концов он решил, что невозможна такая отвратительная неблагодарность и, вспоминая искренний тон Фиаммы, решил довериться ей.
ГЛАВА V
Поглощенный своим душевным волнением, Альфонсо не заметил, как наступила ночь, и поспешил заняться необходимыми сборами. Он по возможности скрыл свое вооружение и лицо под плащом и капюшоном и, отпустив оруженосца и Бембо, собирался уже выйти из комнаты, как в дверь тихонько постучали. Он отворил, и перед ним при свете маленькой серебряной лампы появилась Фаустина.
– Благородный синьор, простите меня!.. – с большим волнением сказала старуха, поспешно входя. – Я – несчастнейшая, старая дура, которой уж, верно, так на роду написано, пропадать от своей глупости. Мое счастье послужило мне на гибель. У меня ничего не было, кроме румяных щек, но из-за них я попала в кормилицы к прелестнейшему ребенку в Риме, дорогой Лукреции. И вот теперь я пришла умолять вас, благородный синьор: если можете, поспешите спасти ее, иначе мы все погибнем, а с нами несдобровать и красивому, молодому рыцарю из страны на далеком море. О, ведь он был вашим другом, и, что бы ни произошло после этого между вами, я со слезами умоляю вас: спасите нас всех!
– Да в чем же дело? Говорите!
– Я не смею идти к герцогу Цезарю и рассказать о том, что задумал этот рыцарь, – ответила старуха. – Ведь герцог убьет нас всех до единого, а мое сердце обливается кровью за этого бедного безумца. О, горе, горе мне!.. Неужели я должна отдать на растерзание своих детенышей? А это непременно случится! Ведь если вы не удержите его, то я должна буду провести его дальше. Ведь еще никогда в своей жизни Лукреция не стремилась так упорно поставить на своем! Поэтому, умоляю вас, спешите!.. Вы найдете его на террасе, где он ожидает меня. Сделайте все, что возможно, чтобы удержать его, иначе все погибнет, и ему несдобровать, как шершню в пчелином улье, хотя бы там было меда через край.
– Кого же я найду на террасе? – с замиранием сердца спросил Альфонсо.
– Вы найдете там молодого рыцаря Реджинальда, которого донна Лукреция велела позвать под предлогом того, что ей надо поговорить с ним наедине о деле Орсини. Да сами посудите! Возможно ли это в столь поздний час и к тому же в ее собственных комнатах!
– Неужели это – правда? – спросил Альфонсо, пошатнувшись, точно от смертельного удара. – А если так, то что мне за дело? Какое мне дело до этого, спрашиваю еще раз! Да лучше пусть пронзят мне сердце! Убирайся вон, беги, старая сводня, и предупреди герцога. Он знает старинный обычай.
– Нет, сын мой, неужели нам всем зараз рехнуться умом? – зарыдала старуха. – Так вы не хотите? Ну, тогда я должна исполнить свой долг повиновения! Ведь донна Лукреция питалась моей грудью, стала родной мне, как дочь, и – что бы ни грозило потом – я сделаю то, что она велела.
– Нет, Фаустина, остановитесь! Я пойду, я выслежу этого негодяя до его преступного дела! – воскликнул Альфонсо, когда старуха, хотя медленно и нерешительно, приблизилась к порогу. – Веди меня, но молчи. Мне нечего больше отвечать тебе.
Фаустина привела его в большой зал, отделявший занимаемую Лукрецией часть дворца от комнат иоаннита. Отворенная дверь вела отсюда на террасу, примыкавшую с одной стороны к высокой голой стене дворца, а с другой – к возвышенности, поросшей померанцевыми деревьями и миртами. Фаустина сказала шепотом, что молодой английский рыцарь должен ожидать ее здесь, и просила иоаннита, если можно, удалить его от опасного места, после чего ускользнула со своей лампой, оставив Альфонсо одного в темноте.
Он поспешил к высокой сводчатой двери и, пытливо осмотревшись, тотчас заметил закутанную фигуру, сидевшую на перилах с поднятым вверх взором, так что он скоро при свете восходящей луны без труда узнал прекрасное, разгоревшееся лицо Реджинальда Лебофора.
Альфонсо медленно двинулся вдоль террасы, как будто не узнавая в своей задумчивости Лебофора, затем остановился неподалеку от него и, внезапно посмотрел на него так пытливо, что рыцарь счел себя узнанным, с притворным хладнокровием воскликнул:
– Реджинальд Лебофор! Возможно ли это? Разве ты тоже помещаешься в этом дворце? Или, может быть, тебя привела сюда какая-нибудь случайность?
– Благородный синьор, вы узнали меня, и я не намерен прятаться от вас и умалчивать о том, что привело меня сюда. Дамы при здешнем дворе красивы, и одна старая ведьма шепнула мне, чтобы я подождал здесь восхода луны, если хочу получить приятную весть.
Кровь с такою силой прихлынула к сердце Альфонсо, что он едва переводил дух. Холодный пот выступил у него на лбу, он несколько секунд молча смотрел на раскрасневшееся лицо Реджинальда, затем пробормотал сквозь зубы:
– Развратница! Но нет! Возможно ли, чтобы воздух Италии мог побуждать к черному предательству даже такие натуры, как твоя? Реджинальд, этому нельзя поверить! Лукреция... Лукреция! Ведь ты идешь к ней?
– Лукреция! – повторил Лебофор, внезапная бледность которого служила уже достаточной уликой, а затем продолжал со смесью гнева и смущения: – Ну, а что, если Лукреция удостаивает выслушивать и других тайных послов, кроме уполномоченного феррарского двора? Ты отлично знаешь, что все твое старание по-прежнему направлено на то, чтобы оправдать перед светом всю ненависть к этой высокой особе. Между тем, ты в то же время изменнически выдаешь себя за тайного посла, отправленного сюда для устройства свадьбы, и этим тебе удалось довести Орсини до отчаяния. Положим, я не рассчитывал на высокую честь разоблачить тебя. Но как осмеливаешься ты касаться меня или моих действий? Каковы бы ни были они, я готов отвечать за их последствия.
– Ты подчинился роковому обаянию, – с жаром возразил Альфонсо, – опасным чарам алых и пурпуровых цветом, под которыми распевает сирена возле гниющих трупов своих жертв. Но тебе не следует слушать ее голос, Реджинальд, иначе ты погибнешь. Уйдем отсюда прочь. Покинем вместе этот дворец и Рим. Нет иного спасения от соблазнов чародейки.
– За все царства под солнцем не откажусь я повиноваться милостивым приказаниям своей царицы! – ответил Реджинальд. – Я – свободный английский рыцарь, а не твой наемник. Поэтому не командуй мною, я не обязан тебе подчиняться.
– Конечно нет, – сказал Альфонсо, скрестив руки и горько смеясь, – но по воле судьбы я обязан твоей дружбе тем, что достиг цели своего путешествия и могу дать удовлетворительный ответ своему повелителю. Блаженствуй в своем раю, пока не надоешь Лукреции, а тогда она предаст тебя смерти, если ее отец или брат еще раньше не избавят ее от этих хлопот.
– О чем бредите вы, синьор? – яростно возразил Реджинальд. – Ведь если вы обвиняете меня из-за Орсини, то действительно, донна Лукреция соизволила мне приказать, чтобы я присутствовал при обсуждении всех дел, касающихся этих людей. Я повиновался ей и буду повиноваться, если бы даже все духи преисподней и мечи десятерых Альфонсо старались преградить мне дорогу.
– Реджинальд, прошу тебя, выслушай меня, – воскликнул Альфонсо. – Говорю тебе, чародейка соблазняет тебя предать своего друга, побуждает тебя к измене верности и чести. Ты не можешь сомневаться в степени ее любви к тебе! Ведь при ее испорченности эта любовь будет мимолетнее, чем у самых развратных и непостоянных мужчин. И ты не должен ходить к ней, не должен увеличивать груды ее жалких, обманутых жертв.
– Рыцарь, пусть вам доставляет удовольствие копаться в тине грязного Рима, отыскивая там то, что даст возможность забрызгать грязью прекраснейшую и добродетельнейшую женщину, но, пока я в силах владеть мечом, ты не будешь делать это! – воскликнул Реджинальд, дрожа от стыда и ярости.
– Ты видишь, я смиренно молчу. Ведь меч был дан тебе для того, чтобы сделаться ее забиякой! – со смехом подхватил Альфонсо и презрительно щелкнул по рукоятке меча молодого англичанина.
– За это и за другие вещи ты еще поплатишься! – запальчиво воскликнул Реджинальд.
– Да хоть сейчас, хвастливый мальчик! Не хорохорься однако, теперь ты не снаряжен для такого поединка. Ступай и попроси Лукрецию вооружить тебя на ее защиту! Впрочем, погоди! Ты предназначен для более верного мщения. Ступай и скажи ей, что посланник из Феррары, баламутящий в Тибре ил, чтобы забрызгать ее, – есть не кто иной, как сам принц Альфонсо д'Эсте.
– В самом деле? Ну, теперь я раскрыл твою хитрость? Ты влюблен в совершенство, которое омрачил почти вечным позором. Мне следует выдать тебя Борджиа, чтобы они заставили тебя жениться на дивной представительнице их рода, – сказал Лебофор, и его ревность прорвалась наружу, несмотря на все усилия скрыть ее. – Ступай, ступай! Я не такой глупец, каким ты меня пожалуй считаешь, и, клянусь, согласен скорее убить тебя, чем обречь на блестящую участь обладания Лукрецией.
– Разве жизнь и смерть до такой степени во власти норманнских выродков из-за моря? – возразил Альфонсо и прибавил, вздрогнув всем телом: – Но это – неправда! Твоя возлюбленная хуже последней продажной женщины из прокаженных французских лагерей, возбуждает во мне отвращение и презрение и, чтобы доказать это, я оставляю тебя невредимым сегодня вечером. Предоставляю тебя твоему блаженству, сам же я покину Ватикан и буду безмолвен, как его мрак, если... ты попросишь Лукрецию дать тебе сегодня венок за победу на турнире, что послужит мне благовидным предлогом вырвать у тебя из груди сердце на рыночной площади у всех на глазах. Она не откажет тебе в такой ничтожной награде, как моя опала и унижение, а если понадобится еще долее обманывать Орсини, то ты можешь вздыхать и клясться, что тебе было бы приятней, если бы награда досталась ему вместо тебя, хотя бы в действительности ты заслужил ее.
– Нет, что бы ты ни говорил, я останусь здесь и буду ожидать своего счастья, – запальчиво ответил Лебофор, хватая в своей ярости Альфонсо за плащ.
Однако, иоаннит вырвался от него, вошел в тень крытой аллеи и тотчас исчез.
Вне себя от волнения, Альфонсо машинально покинул дворец, не зная хорошенько, куда направляет свои шаги. Смертельная битва была бы для него более желанной переменой, и, когда он внезапно вспомнил о своем уговоре с Фиаммой, он с удовольствием подумал об опасностях, сопряженных с этим приключением. Вместе с этим его на минуту утешила мысль, что оно должно привести его к полному раскрытию преступлений Лукреции.
Было уже довольно поздно, и Альфонсо поспешил и месту свидания. У ворот Святого Себастьяна ему встретилась фигура, также закутанная в рясу и капюшон, но это не помешало ему узнать в ней по условному знаку Фиамму. Они молча прошли в ворота и быстро направились по равнине. Вскоре перед ними показалась древняя церковь Святого Себастьяна, откуда ветер доносил звуки духовных гимнов. Однако, Фиамма повернула на пустырь, покрытый глубокими ямами и поросшей тернием и можжевельником, спустилась в одно из углублений, вырытых в песчаной почве, и они приблизились к месту, где было высечено в скалах несколько пещер, наполовину заваленных обломками камней и заросших сорной травою.
Фиамма юркнула с проворством змеи в одно из этих отверстий, Альфонсо же невольно замешкался, припомнив все слышанное о запутанных извилинах катакомб. Но, пока он стоял в нерешительности, он услышал удары стали о кремень и увидел при свете вспыхнувшего пламени, что Фиамма, стоя на коленях, раздувала огонь в куче сухих листьев, чтобы зажечь факел. Устыдившись своей трусости, Альфонсо углубился в пещеру и стал помогать своей спутнице. Когда факел был зажжен, он по ее требованию воткнул в расселину скалы заготовленный ею кол, просверленный насквозь. В это отверстие Фиамма продела конец шелкового шнура и тщательно прикрепила его, после чего, вложив клубок в руку иоаннита и взяв факел, сказала с грустной улыбкой:
– Твое сердце сильно бьется? Решаешься ли ты следовать за мною?
– Решаюсь, хотя бы путь пролегал по черным ехиднам, – ответил Альфонсо, но снова поколебался, угадав намерение своей проводницы.
Он видел, что они стояли в низкой пещере из песчаника, откуда разветвлялось много сводчатых ходов по разным направлениям. Фиамма вступила в один из них, настойчиво внушая Альфонсо крепко держать клубок и разматывать его, продвигаясь вперед. Факел тускло светил в окружающих потемках, но рыцарь чувствовал, что тропинка вьется кверху. Подземная галерея была едва достаточной ширины, чтобы можно было ощупью находить в ней дорогу, и с обеих сторон завалена мусором. Молча и поспешно шли они дальше, причем клубок так быстро разматывался, что шелковый шнур постепенно опускался все ниже к земле.
Иоаннит убедился, что они вступили в другую пещеру, откуда шло три узких хода, спускавшихся так круто и глубоко, что в иных местах их высота едва достигала человеческого роста, а в других они суживались до размера трещины, произведенной землетрясением. Фиамма изредка произносила какое-нибудь слово, то иногда поднимала на ходу факел, и тогда он освещал мрачные отверстия, откуда разветвлялись новые ходы, но чаще заставлял выступать на стене древнюю надпись, или грубый барельеф, высеченные в память страданий христианских мучеников, погребенных в нишах по стенам.
Путаница лабиринта, куда углубился Альфонсо, и недоверие к проводнице колебали его твердость и мужество. Конечно, он тщательно соблюдал наставление Фиаммы при разматывании клубка, который, очевидно, был важнее для их безопасности, чем какое бы то ни было знакомство с местностью, и при этом заметил, что к шнурку были привязаны через промежутки маленькие свинцовые шарики, чтобы он снова слегка натягивался при спусках. Необходимость этой помощи стала еще очевиднее, когда подземный ход, опустившись на большую глубину, затерялся в таком множестве извилин, точно тянулся по самым внутренностям земных недр. Остальные неудобства еще увеличивались. Струи холодного воздуха, сырость и миазмы, доносились порою из пещер, обломки песчаника отваливались от каменных сводов, точно злой дух пытался преградить дорогу смельчакам, тогда как в отдалении внезапно раздавался странный вопль, переходивший в слабый, таинственный шепот.
Длинный путь, пройденный в этих галереях смерти, удивлял и беспокоил Альфонсо. Но вот Фиамма вдруг остановилась и, направив на иоаннита свет своего факела, устремила на него внимательный взор, после чего сказала почти с оттенком презрения в голосе:
– Ваш лоб, рыцарь, влажен. Вернитесь назад, если мужество покидает вас, потому что мы подходим теперь к месту, где начинается искус, и вы должны остаться один и без света в этом уединении до прихода действующих лиц, которые собираются дать страшное представление.
– Какому бы риску я ни подвергался, ничто не заставит меня отступить, – ответил Альфонсо.
– Тогда будем продолжать свой путь, – сказала Фиамма, пускаясь дальше.
Подземный ход все расширялся и, наконец, уперся в арку, высеченную в скале, которая вела в пещеру устроенную в прежние времена для выкапывания песка По ее стенам были видны глубоко высеченные надписи, которые не стерлись от времени. Естественные столбы, оставленные при раскопках, были покрыть там и сям грубыми архитектурными украшениями в виде неуклюжей резьбы по камню, а пыль на полу была так бела и густа, точно ее посыпали нарочно чтобы духи могли беззвучно скользить по ней.
– Это – страшная сцена, где предстоит разыграться, пожалуй, еще более ужасной драме, – сказала Фиамма и показала своему спутнику внутренность пещеры, насколько мог осветить ее факел. – Если верить сказаниям, то в этих подземных могилах погребено больше мертвецов, чем найдется теперь живых людей во всей Италии. Большая часть их – умерщвленные, изувеченные жертвы человеческой жестокости! Эта белоснежная пыль состоит из их истлевших костей, эти стены созданы из их остовов, которые обнажаются каждым отпавшим осколком скалы перед нечестивыми взорами, потому что сюда приходят ведьмы и колдуны справлять свой шабаш и тешить своего владыку и повелителя осквернением этого священного приюта. Сюда явится Цезарь, такой же мрачный дух! Но для того, чтобы увидеть все, оставаясь невидимкой, хватит ли у вас мужества спрятаться вон в ту нишу, там, над аркой у входа?
– В ней страшно тесно! Это – могила? – спросил содрогаясь Альфонсо, и осветил факелом узкую, но глубокую, впадину в скале над входом.
– Даже если так? – возразила Фиамма. – Разве вы не видите полуистершейся надписи «Нет ничего более жалкого, чем жизнь»! ? Чем угрожает нам смерть, чего мы не выстрадали бы уже на земле? Впрочем, время не затянется для вас до моего возвращения. Вот та галерея ведет с несколькими извилинами в часовню, куда явится Цезарь с колдуном. Благочестивые монахи считают их богомольцами, желающими поклониться праху мучеников, и ждут от меня только условного знака.
– Время? Что значит оно в этих жилищах мертвецов? – спросил Альфонсо, все еще не решаясь, так как его мужество ослабело при мысли остаться одному в этом страшном уединении.
Однако, пылкость чувства к Лукреции победила страх. Выступы выдолбленной скалы давали возможность подняться в могилу, и, крепко держа клубок, рыцарь полез кверху. Но вдруг боязнь предательства так сильно овладела им, что он остановился.
Кинутый на Фиамму взор открыл ей без слов его помыслы, и она с нетерпением воскликнула:
– Предать тебя! Но с какой целью? Пусть эта гора обрушится мне на голову и раздавит меня, если я злоумышляю против своего благодетеля.
Эта страшная клятва успокоила сомнения рыцаря, и он поднялся в пещеру, откуда ему предстояло наблюдать за своим врагом. Судя по ее глубине, она была вырублена в скале, чтобы служить для погребения. Действительно в ней, по старинному обычаю, был помещен стоймя длинный ряд трупов, но, вероятно, богатство наружных украшений подстрекало жадность грабителей, и они сорвали мраморную облицовку гробницы. Трудно сказать, принесло ли это преступление хорошую добычу, но теперь в могиле не было ничего, кроме пыли и кромешной темноты.
Альфонсо был вынужден пятиться в своем убежище задом, не имея возможности повернуться в тесноте, и отступал все дальше от входа, пока Фиамма не убедилась, что его нельзя разглядеть из центра большой пещеры. Тогда она кивнула ему головой на прощание, и поспешно углубилась в один из подземных ходов на противоположной стороне пещеры. Альфонсо невольно подался вперед, чтобы проводить взором последний отблеск факела, после чего воцарились непроглядная тьма и такое безмолвие, как будто все звуки замерли навек.
Предоставленный своим думам, рыцарь снова принялся размышлять о событиях в мире живых, причем забыл на некоторое время свое положение и сопряженные с ним опасности. Наконец, внезапно опомнившись, он испугался и был готов счесть окружающее нелепым сном. Но, гнет могильных стен убедил его что это – страшная действительность, сулившая ему мало хорошего.
Отсутствие Фиаммы продолжалось уже довольно долго, она все еще не приходила, и мучительные предчувствия и опасения стали томить иоаннита. Вошедшее в пословицу коварство Борджиа, жестокое мщение, которому они подвергали своих врагов, навели его на мысль, что его обрекли на ужасную участь быть заживо погребенным в этом неизмеримом лабиринте. Несколько секунд несчастный не решался потянуть за шнурок, боясь, что тот отвязан от кола у входа в подземелье, а в таком случае, едва ли было возможно найти выход оттуда, и оставалось только погибнуть от голода и отчаяния. Однако, томительная тоска неведения была ужаснее всякой уверенности, и Альфонсо поспешил разрешить свои сомнения. Потянув за шнурок, он убедился, что его страх напрасен, а в этот момент показался свет в галерее, где он не ожидал его увидеть, и эхо шепчущих голосов донеслось до него по гулким стенам раньше, чем разговаривавшие появились перед ним.
Впереди выступал человек в плаще и в маске, в надвинутой на глаза широкополой шляпе с пером. За ним следовал другой, в форме испанского солдата, на лицо которого свешивались длинные спутанные волосы, вылезавшие из-под шлема. Третий нес в руках факел, чтобы светить им. Судя по сгорбленной фигуре и медленной походке, это был старик преклонных лет, но под черной одеждой кающегося монаха его решительно нельзя было рассмотреть. Монах опирался на длинный черный посох, искусно украшенный фигурами и звездами, и нес на своей сгорбленной спине красный мешок, скрывавший в себе какие-нибудь орудия искусства колдовства.
ГЛАВА VI
– Священный воздух кажется мне удивительно промозглым, дон Савватий, а между тем, ему следовало быть сухим и теплым, мы ведь спустились чуть ли не в самое пекло, – произнес мужчина, шедший впереди, и по его веселому голосу в нем было не трудно узнать Цезаря Борджиа! – Как глубоко надо еще спуститься, чтобы злые духи услышали наш зов?
– Настоящее место удобно для этого. Мы можем начертить достаточно широкий круг, – ответил колдун, голос которого хотя был старчески слаб и хрипл, но казался иоанниту знакомым. – Однако, мне нужна помощь, и я хочу пригласить двух своих товарок по ремеслу. Мы всегда оказываем друг другу взаимные одолжения.
Савватий отошел в сторону, вытащил острый нож из своего узла, царапнул им свою руку, спустился в отдаленную подземную галерею, брызгая по дороге кровью, и стал громко произносить странные слова скороговоркой, точно призывая кого-то издалека. Ему нестройно откликалось многократное эхо. Вдруг послышался шум вихря и, когда он усилился, две сухопарых старухи спустились в галерею и вошли и пещеру, крича:
– Мы идем... идем!
– Прекрати свое бормотание святым угодникам, Мигуэлото, иначе ты помешаешь колдовству! – с нетерпением сказал Цезарь. – Разве ты не видишь? Ведь это – твои старинные приятельницы, ведьмы из гетто.
Колдуньи приветствовали герцога фантастическим поклоном, указали своими костлявыми пальцами на дрожащего каталонца, и дружно расхохотались.
– Ну да, черти не пугают вас, ведьмы, потому что вы день и ночь находитесь в их компании, – сердито огрызнулся Мигуэлото, – но, по-моему, вам не следовало бы смеяться вскоре после того, как ваша внучка навлекла опасность на всех нас своею безумной выходкой.
– Молчи, дурачок! Матери были в не меньшей опасности, но монашеский рыцарь, вмешавшийся в дело, пожалуй, имел причину раскаяться в том, – мрачно заметил Цезарь.
– Ну, дон Савватий, так как твои сестры по колдовству налицо, что ты мешкаешь и смотришь на меня?
– Я хотел бы в точности узнать вашу волю. Ведь до сих пор вы лишь смутно намекали мне на свои желания, – спокойно и самоуверенно ответил чародей.
– Я убедился, что тебе дана власть вызывать мертвецов. Разве не показал ты мне в волшебном зеркале Карла Великого? – сказал Цезарь после краткого, несвойственного ему колебания. – Но теперь ты должен вызвать мне духа, который не требует столь сильного колдовства, потому что еще блуждает между этим миром и тем, куда возвращается все существующее, или Вечностью, как возвещает нам духовенство. Как бы то ни было, я хочу узнать от него, что ему нужно, чтобы он успокоился и не заслонял мне больше солнца, не становился на каждом шагу поперек дороги.
– Какого же духа должен я вызвать? – спросил колдун.
– Очерчивай свои волшебные круги и произноси заклинания, тогда я тебе скажу, кого мне надо видеть, – ответил Цезарь.
Чародей схватил свой посох и начертил им в воздухе какие-то таинственные знаки на три стороны пещеры, в то же время бормоча слова на неведомом языке. Потом он отбросил от себя посох, который извивался и шипел перед глазами испуганных зрителей наподобие огненного змея. После этого, выступив вперед, колдун начертил три магических круга, центром которых служил упавший жезл, и велел своим помощницам нагрести песка к магическим кругам бывшими у них медными лопатками. Те принялись за дело, произнося вслед за ним какие-то еврейские слова, и кричали во все горло, хлопая в ладони: «Учитель Каббалы, учитель!». Затем чародей выкопал много обломков костей и черепов и обложил ими третий круг.
– Теперь скажи, сын мой: был ли вызываемый нами дух насильственно изгнан из тела, а если так, то где и когда это совершилось? – спросил колдун герцога и стал продолжать свою работу.
Дон Цезарь, словно томимый усталостью, опустился наземь и, роя песок и пропуская его между пальцев, промолвил:
– Зачем это нужно знать?
– Магический круг должен быть огражден от ярости духа. Если же круг не окажет ему сопротивления, то спрашивающий рискует быть растерзанным на куски или взорванным на воздух адским огнем...
– Насильственная смерть? Ну да, действительно, так было, но эти добрые женщины могут сказать, почему пал герцог Джованни Гандийский.
– Он обесчестил чистую кровь нашего отца, чистую со времен Эноха, – ответила Нотта, отбрасывая назад свои спутанные черные волосы и поднимая взор от своей работы.
Ее сестра, седая Морта, также приостановилась в своем занятии и прибавила с горьким смехом:
– Но она была так прекрасна, Нотта!
– Но за что он был убит? – спросил Савватий. – Ведь не ты же, благородный синьор, нанес удар в отмщение за кровь Эноха?
– Я не предназначен быть младшим братом, – ответил Цезарь. – Свет Джованни был моею тенью. Но ведь ты давно слышал эти истории.
– А не было тут другой причины, другого греховного пятна на душе твоего брата, которым мы могли бы воспользоваться, как чарами против злобы духа?
– Да, – ответил Мигуэлото, с возраставшим волнением следивший за приготовлениями к колдовству, – я дал склонить себя к убийству герцога Гандийского, потому что мой господин уверял, что смерть его брата послужит тому наказанием за преступную страсть к донне Лукреции.
– Молчи, глупец! – остановил его Цезарь. – Теперь не время для этого лживого бормотанья! Эти россказни были отголоском моего шепота, и если бы душа Джованни не имела на себе иного пятна, кроме этого, приписанного ему блаженства, то она действительно была бы недоступна власти вашего колдовства. Как вы полагаете? Ведь это Лукреция убила его, а не я, когда рискнула пожаловаться на брата за мимолетное безумие одной минуты, после чего надменный мальчик пригрозил мне своим мщением.
Глаза чародея страшно засверкали в прорезях его черного капюшона, и он снова принялся за работу, бормоча:
– Мы должны трижды производить колдовство, потому что обиженные одарены властью, о которой мы не подозреваем, и которая не снилась обидчикам.
Ни единое слово этой неожиданной исповеди Цезаря не ускользнуло от напряженного слуха иоаннита.
Пока ведьмы нагребали новый вал по краям магических кругов, колдун поставил в первый круг низкий треножник, поместил на нем медную сковороду и развел под ним огонь. После того он взял часть трав, принесенных ему еврейками, и прибавил к ним других из своего мешка, чтобы составить курение. Цезарь как будто занимался некоторое время разглядыванием скульптурных украшений и надписей в этой подземной часовне, а затем произнес:
– Твои духи подобны женщинам, которые являются непрошеными и не приходят, когда их зовут.
– Дух может иметь власть противиться моим чарам, – ответил колдун. – До сих пор я еще не произносил своих заклинаний, но время близится к тому. Сестры, садитесь в первый круг и повторяйте за мною имена. Но с какой стати дрожит этот воин? Дух явится только своему убийце, – вот и все. Перестань творить молитву, иначе все мы попадем во власть злых духов, – предостерег Савватий бледного Мигуэлото, щелкавшего от страха зубами. – Ступай в круг, если хочешь быть невредимым, и не бойся, пока наступит твой час. Герцог Цезарь, войди во второй круг!
Мигуэлото машинально повиновался приказанию чародея, а Цезарь, смело выступив вперед, прыгнул в круг и, скрестив руки, остановился там с решительным, или, скорее, скептическим видом. Чародей вошел тогда в крайний круг, опустился на колени, вынул из-за пазухи восточную книгу, разрисованную волшебными знаками, схватил единственный принесенный им факел, сунул его в песок и потушил.
Пещеру теперь освещал лишь слабый свет, распространявшийся от огня, под жаровней колдуна, от которой поднимался густой, благовонный дым. Альфонсо наблюдал за всем происходившим и под влиянием веры в силу колдовства, распространенной в те времена, чувствовал робость, которую может возбуждать ожидание пришельца из неведомого мира. Что касается Цезаря, то, несмотря на страх, естественно возбуждаемый своим преступлением, он с мужеством ожидал результата страшного опыта и лишь несколько раз бессознательно пробормотал:
– Пусть бы он принял любую форму, только бы не эта темнота! Тогда я не стану ничего бояться!
– Тише, тише! Не мешайте сестрам слушать мою речь, – с досадой произнес колдун и продолжал чтение своей книги, понятное только ему и колдуньям.
Вскоре послышалось рокотанье, похожее на отдаленные раскаты грома и постепенно приближавшееся, а по песчаному полу и могилам в стенах пещеры забегали огненные языки и стали вырисовываться светящиеся иероглифы. Между тем, чародей спокойно читал, не поднимая головы, а ведьмы продолжали петь, причем их голоса уподоблялись вою морских волн во время бури.
Вдруг жаровня с куреньями вспыхнула и зашипела, точно в ней клокотали пестрые змеи, извивавшиеся в пламени. Пещера наполнилась одуряющим дымом, который вызвал странную истому даже у Альфонсо. Это ощущение продолжалось недолго, но вызвало мечтательное забытье. Вскоре Альфонсо показалось, что он видит легионы отвратительных призрачных фигур, мелькавших вдоль стен пещеры, реявших в ней. Большинство этих призраков делали презрительные жесты или насмешливо ухмылялись, кивая на молчаливые человеческие фигуры, находившиеся в магических кругах.
– Все напрасно, – тихо пробормотал Савватий. – Духи пренебрегают вашими посулами, не хотят принимать ничего кроме свежепролитой крови детей и юных дев, и не согласны отвечать. Ведьмы, заклинайте своего отца, жестокого старого чародея, чтобы он подал нам помощь, потому что он, наверное, находится между этими духами.
– Это – неправда! – закричала Морта. – Эти духи не похожи на детей нашего племени, а твои соплеменники были всегда хуже чумы ненавистны нашему отцу.
– Прибавить мандрагоры! – поспешно сказал Савватий. – О, наша ворожба еще сильна. Пот с правой руки убийцы в пламя! Говори, Цезарь. Напомни им об ужасных деяниях, которыми ты заслужил их благоволение и помощь. Говори, иначе у меня не станет власти удерживать их, или принуждать к повиновению.
– Страданиями, пожирающими мою душу, невестой Христовой, взятой мною от Его алтаря, диким проклятием султана Зема, кровью своего брата заклинаю вас! – воскликнул Цезарь и при виде постепенного исчезновения призрачных сонмов продолжал с возрастающей яростью: – Ну, демоны и духи, слушайте меня! Ради отвратительных наветов и клеветы, возведенных мною на верховного главу, ненавистной мне церкви, велите явиться передо мною духу, которого я требую.
Наступило жуткое безмолвие, а потом раздался общий крик, вырвавшийся у всех присутствующих, не исключая колдуна, но, кроме Цезаря, стоявшего неподвижно, как статуя, когда из галереи над противоположной стеною пещеры показался тусклый, призрачный, синеватый свет и в нем слабые очертания доспехов, плаща и роскошного одеяния, обагренного кровью. Среди них были чуть заметны расплывчатые черты лица.
– Ангел или дьявол... кто бы ты ни был! – прохрипел Цезарь. – Да, да, это – он, каким мы оставили его в склепе церкви Пресвятой Девы!.. Джованни!.. Брат!.. Нет, я не хочу называть тебя братом, – продолжал он тоном безумца, бредящего в своей каморке. – Останься!.. Говори, или моя душа разорвется среди этого молчания. Говори: оттого ли мучишь ты меня так жестоко, что был убит в смертном грехе, в объятиях женщины из проклятого племени? Разве твоя душа не может найти покоя и не в том ли состоит твое адское мучение, чтобы ты создавал мне ад на земле? О, говори, скажи мне: какое покаяние, какие молитвы, сколько бесчисленных обеден могут доставить мне прощение, а тебе загробный покой?
– Цезарь! – послышался наконец тихий неземной голос, словно выходивший из глубины могилы, но звучавший кроткой скорбью.