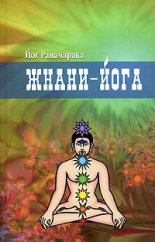Яд Борджиа Линдау Мартин
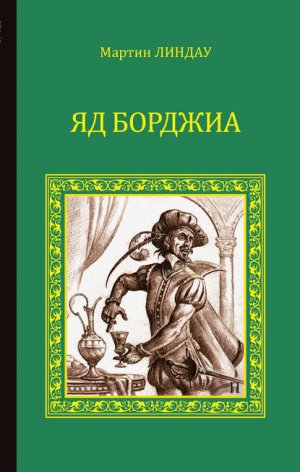
– Ну, если ты любила меня, то неужели мы должны расстаться так навсегда? Я хочу вернуть тебе тот твой поцелуй, яд которого остался в моей крови! – пылко воскликнул Альфонсо, заключая ее в безумные объятия.
– Да, я люблю тебя, действительно люблю, но не пугай меня! – воскликнула она. – Прости меня только на этот раз. Ведь я не оскорбила тебя, признавшись в своем злобном колдовстве. Но поклянись, что ты немедленно оставишь меня!..
Но в этот момент Альфонсо в порыве ревности воскликнул, почти швыряя ее из своих объятий, которым она отдалась в порыве страсти и нежности:
– Чародейка! Перестань! Будь, по крайней мере, верна своей измене. Эти губы еще не остыли от лобзаний, перед которыми мои покажутся слишком холодными!.. Ты велишь мне покинуть тебя! Но для чего? Конечно, для того, чтобы нашелся лучший преемник Реджинальду Лебофору, когда он успеет наскучить тебе.
– Преемник? Реджинальду Лебофору? – почти машинально пролепетала Лукреция, подавленная стыдом и удивлением.
– Нет, нет, тебе не удастся завлечь меня в погибель, красивейшая змея, – с отчаянием продолжал Альфонсо. – Моим намерением было склонить тебя к сегодняшнему свиданию, вырвать у тебя признание в любви ко мне, но лишь для того, чтобы я мог высказать тебе, до какой степени противна мне твоя нечистая любовь, как я презираю ее и насколько бессильны надо мною ее искушения.
– Искушения... преемник... – в раздумье промолвила молодая женщина, как будто сознание медленно возвращалось к ней, и вдруг сказала самым спокойным тоном, но со скорбной улыбкой: – Значит, ты не заметил, что Фаустина если и не может нас слышать, то все-таки видит? – и она указала на свою старую кормилицу. Кормилица, находясь в конце анфилады комнат, прикидывалась спящей, но на самом деле зорко следила за ними.
– Это – лишь мастерская уловка твоей хитрости, вероломная женщина! – воскликнул иоаннит. – Своими лживыми отпирательствами, своим притворным целомудрием ты думала склонить меня к тому, чтобы я связал сияющую и незапятнанную честь дома Эсте с твоим позором.
– А ты все еще притворяешься, что не веришь моей невиновности! – воскликнула Лукреция с досадой и запальчивостью.
– Невиновность! Ну, значит, мои чувства обманули меня, когда я слышал в лабиринте Минотавра, как лицемерный английский рыцарь признавался тебе в любви и не навлек на себя этим ни порицания, ни отпора с твоей стороны. Бембо описал мне вашу трогательную встречу после войны.
– Реджинальд! – промолвила Лукреция со странным злорадством, мелькнувшем на ее лице, мрачном, как грозовая туча. – Нет, я не оставлю тебе ни малейшей лазейки для самооправдания. Припомни всю свою суровость ко мне, несмотря на то, что я любила тебя. Ты сам довел меня до кокетства с Лебофором. Ведь я полюбила тебя с первого момента, когда на меня упал твой гордый и презрительный взор, а страх, внушенный мне твоим резким и непримиримым нравом, еще сильнее подчинил тебе мою рабскую натуру женщины. Я была готова плакать при воспоминании об этом, но так как малодушие порадовало бы тебя, то я не пролью ни единой слезы! Однако, если действительно было хитростью с моей стороны с помощью ревности разжечь в пламя ту искру любви, которая, по твоему признанию, запала в твое холодное сердце, то обвиняй природу, создавшую меня женщиной. Ты слышал, как бедный Реджинальд открыл мне свою любовь, но знай – к этому я привела его против его собственного желания. Я хотела только помучить тебя его присутствием, но не поколебалась резко охладить его, и он не замедлил принести повинную. Великодушная натура этого юноши благородно боролась до тех пор с моими жестокими ухищрениями, но как же зато горька моя расплата за них!
– Ну, это – отлично придуманная басня! – сказал Альфонсо, – твой импровизаторский талант признан всеми. Но какою убедительною ложью оправдаешь ты то обстоятельство, что Реджинальд был тут прошлой ночью и имел тайное свидание с тобою в этих самых комнатах, причем свидетелями этого были лишь звезды на небе да заспанные глаза Фаустины?
– Здесь, в этих комнатах? Прошлой ночью? Кто из нас сошел с ума: я или ты? – бледнея, спросила Лукреция.
– Хочешь знать подробности? Ну, так слушай! – сказал Альфонсо, пылко схватив руку молодой женщины, которая отвернулась, точно готовая обратиться в бегство, а затем рассказал ей свое приключение с Реджинальдом, происшедшее прошлой ночью.
– Как, даже моя старая кормилица предает меня? – воскликнула Лукреция, внезапно залившись слезами. – Но это невероятно! Лебофор неспособен оклеветать меня таким образом... Нет, нет! Не имея в запасе иной клеветы, чтобы окончательно очернить меня, ты выдумал эту в угоду своему повелителю!
– Ну, если у тебя нет другой басни, поинтересней, то этой ты нам не отведешь глаз, – с горькой иронией возразил иоаннит, выпустив ее руку и скрестив на груди свои, точно в знак бесповоротного решения.
– В таком случае, я действительно поплатилась за свою жестокую игру, но Реджинальд все же сделался жертвой низкого обмана! – воскликнула Лукреция, ловя несомненные признаки жестокой душевной борьбы в чертах Альфонсо.
Однако, он с горьким смехом и язвительной иронией стал откланиваться и сделал шаг назад.
– Остановись! – воскликнула Лукреция, кинувшись вперед и удерживая его за рукоятку меча. – Да как же могло это случиться, если те часы, когда, по-твоему, у меня происходило свидание, я провела не в этих комнатах и не с Реджинальдом, а с тобою в катакомбах, где я сыграла ужасную роль в ужасном зрелище, и где ты сам получил бы полное подтверждение моей невиновности, если бы на твою суровость могла подействовать хотя бы сверхъестественная клятва?
Альфонсо смотрел на нее с величайшим изумлением.
– Я не хочу, чтобы у тебя оставались хотя бы малейшие отговорки и сомнения, – с жаром продолжала она. – Когда я плакала втихомолку из-за твоего мнимого увлечения возлюбленной султана Зема и из-за окружавших меня угроз и ужасов, кто-то пожелал видеть меня. Мне доложили, что это – несчастная просительница, пострадавшая в Капуе. Оказалось, что это Фиамма Колонна. Она рассказала о всех перенесенных ею оскорблениях, о твоем великодушии, о клевете Цезаря на меня, о его преступлениях, которые, впрочем, и без того давно мерещились мне, как страшные призраки. Далее я узнала от Фиаммы о той роли, которую она сыграла по приказу Цезаря во время карнавальных празднеств, чтобы очевидными фактами подкрепить его поношения моего доброго имени. Она упомянула также о том, что моя невиновность будет доказана, и Цезарь понесет заслуженное возмездие, а твои подозрения будут рассеяны, вследствие чего мне достанется герцогская корона твоего повелителя. Но – поверь – у меня была только одна побудительная причина, давшая мне мужество повиноваться Фиамме и рискнуть тем, на что я рискнула. Это не было жадным стремлением женщины к господству, потому что, если не совершится невозможное, и ты не окажешься самим герцогом Феррарским, никакая сила, никакие просьбы не заставят меня разделить его корону, будь она даже императорской!
– Ну, это также удивительно, как и прочее, – задыхаясь ответил иоаннит. – Расскажи мне, однако, все без утайки, чтобы мой сладостный сон не рассеялся раньше, чем я успею почерпнуть в нем достоверное утешение.
– Фиамма чем-то подкупила колдуна, пользующегося доверием Цезаря, чтобы он действовал в твоих интересах, а вместе с тем в это дело был замешан и ты, и вот в своем безумном отчаянии и досаде, под влиянием надежды пресечь козни против меня моего врага Цезаря, а также горячей речи Фиаммы, я решилась помочь колдуну. Может быть, тут и прежде действовало колдовство, но, вернее всего, чародеи достигали своей цели при помощи диковинных зеркал, а также чудесного портрета моего покойного брата Джованни, висевшего до тех пор в этой комнате. Для того, чтобы устранить Цезаря, было решено устроить все в катакомбах и я, подчиняясь дону Савватию, согласилась, при вызове тени моего погибшего брата Джованни, подражать его голосу и произнести слова, которые Цезарь поднял на смех, хотя и поверил, будто могила отверзлась, чтобы обличить его. Неужели ты и теперь не веришь мне?
– О, не давай мне проснуться от этого сна, иначе я могу умереть, – воскликнул иоаннит, не решаясь верить даже при этом избытке радости, охватившей его душу. – Лукреция! Моя Лукреция! Моя жизнь! Моя любовь! Но скажи, когда ты требовала, чтобы Цезарь предоставил тебе свободу выбирать мужа, думала ли ты обо мне?
– Я знала, что это невозможно, – ответила Лукреция, – и хотела только навсегда избавиться от всякого сватовства, чтобы из-за тебя влачить свои дни без любви, в одиночестве...
В ответ на это Альфонсо воскликнул:
– Ты любишь меня, я обожаю тебя. Будь же моею и – клянусь всем, что есть святого и дорогого для человека, – ты сделаешься также и супругою Альфонсо д'Эсте.
– Что ты говоришь, изменник? – воскликнула Лукреция, с гневом отталкивая его. – Эти слова разрушили чары, против которых были бессильны и голос чести, и гордость, и всякое оскорбленное чувство моего сердца. Оставь меня навсегда сию же минуту, иначе твой повелитель узнает, каким послом выказал ты себя!
– Как бы ни бранил меня Альфонсо, он все-таки будет любить меня больше самого себя, а тебя еще в десять раз сильнее, – возразил иоаннит, отказавшись теперь от всех своих сомнений и всей своей ревности. – Узнай же, дорогая: ведь я – сам Альфонсо д'Эсте!
Лукреция смотрела на него, словно боясь, что он внезапно помешался, но тотчас же убедилась в справедливости его слов, когда в ее памяти промелькнули все противоречия в его поведении. Однако, вместо того, чтобы обрадоваться, она мгновенно побледнела, как мертвец, и, если бы Альфонсо не заключил ее в объятия, когда она опускалась на диван, она упала бы на пол.
– О, теперь небеса карают в моем лице греховную кровь нашего рода! – тихо и боязливо промолвила она. – Я приучила себя к терпению, считая невозможным когда-нибудь принадлежать тебе в честном супружестве, а теперь... О, ты не знаешь того, что проклятие тяготеет на тех, кого я полюблю, а также на мне самой! Отец Бруно был чудесным образом освобожден из своей темницы, чтобы возвестить мне это.
– Отец Бруно? Успокой свою тревогу, отгони страх! Бруно не что иное, как обманщик, или – в лучшем случае – сумасшедший, – возразил Альфонсо. – Разве ты не заметила, что колдун Савватий и Бруно – одно и то же лицо? Цезарь обнаружил это, в то время, как Бруно лежал без памяти, лишившись чувств, когда случай открыл им меня как раз в момент вызова ими злого духа или того, который показал бы им образ человека, любимого тобою.
Услышав это, Лукреция сообразила, что ей это было неизвестно, так как она сама в тот момент упала в обморок и была унесена Фиаммой, а потому дальнейший ход ворожбы был для нее новым чудом. Тогда Альфонсо высказал свое подозрение насчет страстной любви к ней Бруно и изложил все свои доводы против несчастного монаха. Досада Лукреции достигла крайних пределов, когда она услышала от него, что монах, ее духовник, свидетельствовал против нее и пытался отстранить Альфонсо от участия в турнире с помощью отравленного напитка, в то же время свалив вину на нее. Однако, принц не дал ей задумываться над этим, приступив к рассказу о своей душевной борьбе и о тех опасных хитростях, на которые он пускался, чтобы найти выход из своих затруднений. Лукреция слушала его с улыбкой и слезами на глазах и не раз под влиянием искреннего сострадания ласково поглаживала его своей рукой, на что он отвечал жаркими поцелуями.
Наконец, Альфонсо перешел к обсуждению дальнейших действий и высказал смелый план открыть папе преступление Цезаря.
Однако, Лукреция не одобрила этого. По ее словам, такое открытие могло привести папу в яростный гнев. Вдобавок для обвинения не хватало осязаемых улик, и можно было опасаться, что доведенный до отчаяния Цезарь, пустив в ход свое тайное влияние, свою силу и всю редкую изворотливость своего коварного ума, вызовет какую-нибудь гибельную катастрофу. Единственным триумфом для жениха Лукреция допускала его радость от того смущения рода Орсини, которое он мог вызвать, неожиданно выступив на следующий день открыто с предложениями повелителя Феррары. Правда, она тут же высказала свою тревогу о его безопасности, однако Альфонсо удалось успокоить ее клятвенным обещанием, что он уедет тайком в Ломбардию, а потом официально попросит ее руки и займется необходимыми приготовлениями, чтобы оказать поддержку папе, если в ней встретится надобность. Альфонсо настойчиво желал тотчас открыть свое имя и сан и немедленно обвенчаться с нею. Однако, это возбудило в Лукреции страх, как бы Цезарь не погубил его также, как он сделал со многими, павшими жертвою его противоестественной ревности. Она успокоилась лишь после того, как Альфонсо дал слово отказаться от своего рискованного намерения. Она даже не разрешила ему сообщить папе об истинном положении дел, прежде чем Альфонсо будет в полной безопасности, и указала ему на многочисленных шпионов Александра, донесения которых сильно действовали на него.
Наконец, Лукреция стала уговаривать Альфонсо для доказательства того, что он оставил всякую ревность, предоставить ей самой высказать порицание Реджинальду. Она высказала свое убеждение в том, что Лебофор был обманут предательством Фаустины точно также, как сам Альфонсо в долине Эгерии, привела много трогательных примеров тому, как честно боролся Реджинальд со своею страстью, как сама она жестоко пользовалась ею, чтобы наводить его подозрения на ложный след.
Однако, все эти речи Лукреции вместо того, чтобы успокоить Альфонсо, только вновь возбудили его ревность, и он наконец, воскликнул:
– Нет, моя Лукреция, пока я не получу уверенности, на которую может положиться моя душа, я не потерплю, чтобы кто-нибудь завидовал мне в обладании таким сокровищем, как ты!.. Будь вполне моею, и я призову в свидетели землю и небо, что ты – моя невеста, моя супруга, моя душа, мое блаженство. Только будь моею, и тогда я поверю тебе даже против свидетельства ангелов.
– Нет, нет, мой любимый, теперь ты доказываешь мне, что не любишь меня, а ненавидишь и глубоко презираешь, – с плачем ответила Лукреция, стараясь в испуге вырваться из объятий Альфонсо и обращая на него молящий взор.
– Не бойся! Ты – моя супруга, Лукреция, моя жизнь! Оставь всякий страх! Я хочу только возвратить тебе поцелуй, полученный мною в долине Эгерии, мимолетный, как молния.
– Тогда поклянись тотчас оставить меня! Я твоя вполне, но не бесчесть меня, чтобы я не сделалась такою, какою выставляют меня враги! – воскликнула Лукреция и, вырвавшись из объятий жениха, опустилась перед ним на колени.
– Ты! – воскликнул он, – ты на коленях передо мною, тогда как мне самому следовало бы не вставая лежать у твоих ног! О, тебя оклеветали, потому что – я знаю – ты любишь меня. Но дай мне еще одно мгновение, чтобы я мог изгладить отвратительное воспоминание о долине Эгерии. Подари мне еще один прощальный небесный взор, и я уйду теперь от тебя, – воскликнул Альфонсо, после чего с нежностью поднял молодую женщину и, прильнув губами к ее устам, впился в них страстным поцелуем.
Лукреция в первом упоении своей нежности также крепко обняла его и стала горячо отвечать на его ласки, но затем, словно вспомнив о пылкости его натуры, вырвалась из его объятий и, позвонив в серебряный колокольчик, крикнула:
– Фаустина!
Через несколько мгновений кормилица была уже в комнате. Делая вид, будто она протирает глаза и старается скрыть зевоту, старуха молча кивнула головою в окно, где первые лучи рассвета уже стали пересиливать лунное сияние.
Лукреция и Альфонсо тотчас приняли, хотя не совсем успешно, чопорный вид, подходивший к их мнимым отношениям, а затем в полной уверенности, что старая кормилица расслышала очень немногое из их разговора, Альфонсо ушел, унося в душе последний взор своей возлюбленной, – веселый и страстный, сиявший любовью, гордостью и благодарностью.
ГЛАВА X
Зал Реджиа был убран для праздника, на котором должно было состояться присуждение приза за турнир. Однако, все смутно догадывались, что со всей роскошью и блеском этого зрелища связывались мрачные предчувствия. Было замечено, что папская стража во дворце необычайно многочисленна, а смотры, производимые Орсини, как будто в честь их молодого вождя, отличались также большою внушительностью. Вообще праздник носил несколько воинственный характер. Папа был удивлен, когда, вступив в зал с Лукрецией и своим придворным штатом, заметил, что большинство гостей явилось в доспехах. Паоло Орсини и Реджинальд Лебофор пришли в полном вооружении, только с непокрытой головой. Бледное лицо Орсини выражало буйную веселость, которая бросалась в глаза, составляя резкий контраст с мрачной миной Реджинальда.
Паоло твердо устремил взор на Лукрецию, несомненно, в надежде заметить в ее чертах следы страданий и унижения, которым, по его мнению, должен был подвергнуть ее Альфонсо своим презрением. Но в его сердце вспыхнул дикий огонь, когда она вошла с довольным и радостным лицом, причем все ее движения были проникнуты каким-то внутренним блаженством. При выходе же иоаннита, явившегося в первый раз в дорогом придворном костюме, придававшем большую красоту его царственной фигуре, смущение Паоло еще усилилось, когда он заметил, что рыцарь и Лукреция не бросают друг на друга гневных взглядов, но стараются встретиться взорами, причем глаза Лукреции сияют ярким блеском, на ее устах играет загадочная улыбка, а щеки рдеют густым румянцем.
Бембо последовал за своим повелителем, но с печальным выражением в чертах, так как Альфонсо осудил его платонические поползновения и поставил ему на вид опасное положение, в которое он рисковал попасть.
Соблюдалась приличная случаю торжественная церемониальность, пока, наконец, трое претендентов на награду не предстали перед возвышенным сидением, которое занимала Лукреция в качестве председательницы суда, окруженная прекрасными ассистентками. Они были обязаны помогать своей повелительнице или, по крайней мере, подтвердить ее решение. На этих светских празднествах было в обычае не особенно замечать присутствие папы, и потому Лукреция начала свое обращение к присутствующим только приветливой улыбкой отцу и легким поклоном собравшимся, на который они отвечали с глубокой почтительностью. Хотя в ее речи и сказывались отчасти ораторские приемы того времени, но ее гармонический голос был способен придать ей силу убеждения помимо формы.
– Любезнейшие дамы и уважаемые синьоры, – начала она после краткой паузы, – герольд нашего высокого суда уже возвестил нам, с какою целью собраны вы здесь, а именно, чтобы решить под озаряющим покровом Пресвятой Девы и по законам рыцарства, кто из этих замечательных своею храбростью рыцарей отличился более всех. Хотя мы – женщины и потому, пожалуй, не все считают нас способными произносить суждение по столь важным вопросам, однако, природа, отказавшая нас в телесной силе и храбрости, вселила в нас такое глубокое восхищение этими качествами и сделала их столь нужными нам, что мы уподобляемся любителям искусств, которые, не ведая ни предрассудков, ни соперничества, часто оказываются более беспристрастными судьями в этой области, чем сами художники. Но мы вдобавок – художницы по этой части, потому что именно женщины обратили грубый металл силы и храбрости в великолепие рыцарства, расплавив его в огне любви, облагородив великодушием, смирением и всеобъемлющим милосердием, выковав его в ледяной холодности целомудрия и воздержания, отшлифовать нежностью, грацией, чувством чести и вежливостью и только этим превратить его в истинную религию в стальных доспехах. Но, как бы то ни было, мы – женщины и будем судить по-женски. Поэтому вы должны знать, благородные синьоры, и храбрые рыцари, что наше суждение будет относиться не к одной храбрости, но также к достоинству подвигов тех лиц, которыми они совершены. На этом основании благородный синьор Орсини простит нам, что с нашей точки зрения его участие в нападении на Капую не может затмить заслуги его соревнователей. Это нападение пролило потоки крови, которую можно было бы пощадить, а именно, крови женщин с их детьми. Но между вашими судьями нет матерей, благородный синьор Орсини!
– Да, донна Лукреция, но самая обыкновенная счастливая случайность может привести их к материнству, – перебил ее Паоло тоном такой угрюмой насмешки и с таким ударением на имени, что в собрании воцарилось всеобщее безмолвие, вызванное изумлением.
– Рыцарь Реджинальд из Англии, – продолжала Лукреция, повернувшись с огневым взором, но с умоляющим выражением к Альфонсо, который схватился за меч, – рыцарь Реджинальд, выслушайте меня, моя речь обращена только к вам. Все мы согласны с тем, что награду следовало бы назначить вам, так как вы в открытом бою, с мечом в руке, первый и притом единственный проникли в Капую. Но, на вашем щите есть нечистое пятно, которое нужно сначала изгладить. Вы сделали себя недостойным какой бы то ни было рыцарской награды, низко опозорив доброе имя благородной женщины и, подобно Тарквинию, обвинив ее в преступлении, к которому вы нечестно и безуспешно старались склонить ее.
– Это справедливо, как евангелие, исключая безуспешности, – с громким смехом подхватил Орсини. – Расскажи нам, друг неподкупной правдивости, расскажи, где и как ты провел ночь после судейского разбирательства. Скажи нам это, по крайней мере, в такой мере, в какой ты можешь признаться в этом, не вызвав краски на лице этой целомудренной Лукреции.
– Отвечайте ему, рыцарь, не только перед лицом всех присутствующих, но и Того, Кто над нами, – с жаром сказала Лукреция. – Отвечайте ему, потому что я также обвиняю вас в несправедливой и вероломной клевете.
– И вспомните, – вмешался Альфонсо, – что вы хвалились передо мною, будто эта высокопоставленная особа назначила вам в ту ночь тайное свидание в Ватикане.
– Не робей, юноша, – внезапно подхватил Цезарь, – тебе надо сознаться лишь в мальчишеском хвастовстве.
Не доставало только этого, чтобы ярость Реджинальда переступила всякие границы.
– Нет, герцог Романьи, нет, мнимый рыцарь и вероломный государь! – воскликнул он. – Я скорее согласен открыть перед всеми присутствующими то, в чем ты уверял меня вчера с целью припугнуть и выведать от меня тайны рода Орсини. Ты сам подкупил лживую ведьму, и она заманила меня в одно место, куда я пошел с трепетной надеждой, не смея сознаться самому себе в руководивших мною чувствах. Но все это было одно безумие, предательство, низость, и я поплатился за свое легковерие горькой насмешкой обманутого ожидания в ту ночь или готов поплатиться теперь так, как вы прикажете, благородная синьора.
– Молчать! Все ли ты рассказал о глупой шутке, затеянной мною, чтобы показать тебе твою собственную нелепую глупость? – со смехом сказал Цезарь, наполовину удивленно, наполовину весело. Но он смеялся один.
– Как, Цезарь, ты осмелился позволить себе такую, как ты говоришь, шутку со мною, с добрым именем своей сестры? – воскликнул папа, ярость которого, казалось, была готова переступить все границы, но, к счастью для Цезаря, она нашла себе другой исход.
– Пусть так, – подхватил Паоло, выпучив глаза, как одержимый злым духом. – Но ты, иоаннит? Разве тебе нечего сказать относительно того, что даже отвергнутый Орсини с удовольствием отказывается теперь от всякого притязания на руку этой сиятельной синьоры.
– Да, нечего, и я падаю здесь на колени от имени Альфонсо Феррарского и смиренно предлагаю ей жениха, которому никакой Орсини не осмелится стать поперек дороги, – ответил Альфонсо, почтительно склоняясь к ногам Лукреции.
– Во имя всех святых, замолчим и постараемся очнуться от этого странного сна! – воскликнул Цезарь, вне себя от изумления. – Говорите, синьор Бембо, не дурачат ли нас этими красивыми речами? Какого рода полномочие имеет этот человек от государей Феррары?
– Всякого рода, какое ему понадобится, – ответил Бембо.
– Ну, а ты, Лукреция, что скажешь на это? – воскликнул Цезарь с невыразимой тревогой и удивлением.
– Говори откровенно, Лукреция! Ведь мы согласны с тобою в этом деле, и я охотно разрешаю тебе вступить в брак с принцем Феррарским? – спросил папа, поглядывая на Орсини, как лев, готовый сделать прыжок.
– Это так же верно, как то, что я принимаю это кольцо. В нем я желала бы найти бриллиант, который может сокрушить одна смерть, – ответила Лукреция. – Я и все эти прекрасные синьоры, заседающие на судейских местах, единодушно находим, что истинную рыцарскую славу стяжал только этот благородный и безупречный рыцарь, и ему присудили мы венок за турнир в Колизее.
С этими словами она приняла от коленопреклоненного иоаннита драгоценный бриллиантовый перстень, а герольд увенчал его чело давно оспариваемым венком победы. Папа тотчас поднялся и с радостным торжеством, которое он и не думал скрывать, преподал обрученным свое благословение.
– Все это очень хорошо, но бесповоротного решения пока еще не последовало! – с диким хохотом воскликнул Паоло. – Посланник образцовой верности, я позабочусь о том, чтобы похвала вашему посредничеству раньше вас достигла Феррары. Если же тем временем милостивейшему повелителю Романьи интересно узнать, почему мы не завидуем принцу, удостоенному награды, то я скажу ему под видом загадки сфинкса, почему соучастие в вине доказывает невиновность.
– Так вот, вы с союзными вам дворянами и сделаетесь соучастниками вины и приметесь доказывать свою невиновность, немедленно приступив к осаде Болоньи! – запальчиво сказал папа. – При этом, в случае надобности, вас поддержит оружие нашего могущественного и послушного сына, герцога Феррарского, и мы повелеваем вам тотчас выступить из Рима под предводительством нашего хоругвеносца со всеми своими военными силами, герцогу же Романьи поручаем исполнить наш приказ в течение двух дней. Что же касается тебя, дерзновенный молодой англичанин, то, если завтра, на закате солнца, ты, или кто-либо из твоей свиты замешкаетесь еще в Риме, вы не выйдете отсюда до тех пор, пока стены замка Святого Ангела будут достаточно крепки, чтобы удержать вас.
Без дальнейшего формального прощания и не замечая Цезаря, папа оперся одной рукою на плечо Альфонсо, подал другую своей дочери и удалился, между тем, как все общество переглядывалось в величайшем смущении.
– Нет, не отступай с ужасом передо мною, – сказал, наконец, Паоло, когда пристыженный Реджинальд медленно отвернулся. – Вместо того, чтобы мстить тебе, я желаю только услышать от тебя что-нибудь, подлежащее огласке. Ваша светлость, – обратился он к Цезарю, – с вами, как хоругвеносцем церкви, я могу, по крайней мере, обсудить вопрос, много ли своего войска намерены вы вести на осаду Болоньи. Одолжите мне свое оружие, верные друзья и союзники!
При этих словах он со странным волнением подхватил под руку Цезаря и Реджинальда, чтобы увести их почти против воли на другой конец зала. Как ни был поражен английский рыцарь всем происшедшим, все-таки было удивительно, что он не сказал ничего, но удалился со вздохом, как бы в безмолвном отчаянии. Зато Цезарь дал волю бушевавшим в нем чувствам. Он был так расстроен, что дрожал всем телом и, видимо, не мог овладеть собою. Подобное душевное волнение даже выходило за пределы всего, что должен был чувствовать брат при открытии, которое в освещении, приданном ему Орсини, являлось непоправимо позорящим честь Лукреции.
Между тем, принц Феррарский, равнодушный ко всем последствиям, какие могло повлечь за собою сближение его врагов, проводил папу в его гостиную и там, к своему величайшему удовольствию, получил приказ провести остаток дня с ним и с невестой.
Это был первый счастливый день любви Альфонсо, счастливейший день его жизни, и он миновал с поразительной быстротой. Папа одобрил его план отправиться на другой день обратно в Феррару с донесением о благоприятном результате своей миссии и с величайшим удовольствием обсуждал все мелочи предварительных распоряжений. Когда Альфонсо остался один с Лукрецией и ее дамами, то все они предались своим радостным чувствам. Желая твердо запечатлеть в сердце любимого человека воспоминание о себе, Лукреция так щедро расточала все чары своей красоты и ума, что привела Альфонсо в совершенное упоение. Наконец, Лукрецию позвали к папе, желавшему переговорить с нею наедине, и ее прощанье с Альфонсо продолжалось так долго, что пришел второй нетерпеливый приказ, прежде чем она последовала на зов отца. Вскоре придворных дам потребовали к их повелительнице, Альфонсо же дали понять, что Лукреция не покажется больше в этот день.
Принц стал бродить по садам Ватикана, с наслаждением предаваясь сладким надеждам и мечтам любви. Вдруг, повернув в одну из уединенных аллей, он услыхал позади себя чьи-то ковыляющие шаги и обернулся. Он увидал старуху в еврейском одеянии. Это была Морта. Она тотчас догнала его, склонилась к его ногам, а затем, поднявшись промолвила:
– Послушайте, сын мой, я пришла к вам по одному тайному делу... Но прежде всего – чтобы вы поверили мне – вот амулет назареев. Узнаете ли вы его? Он дан мне той, которая научилась доверять вам в Капуе.
– Да, я видел его раньше, – ответил Альфонсо, подозрительно посматривая на старуху, показывавшую ему простой серебряный крест, один из тех, какие носят монахини, и вспомнив, что Фиамма Колонна с суеверной бережностью носила его на шее, как единственное воспоминание о прошлом, причем отдавала ему предпочтение перед всеми своими драгоценностями.
– Госпожа из вашего народа, которой принадлежал этот крест, очень ловка. Но, несмотря на это, часто обращалась за помощью к нашему могуществу, – продолжала Морта. – Теперь она нашла пристанище у нашего очага в гетто и полагается на нашу верность и благодарность, так как ей угрожают различные враги, опаснее шипящих змей. Она посылает вам этот талисман и заклинает вас немедленно посетить ее тайком, потому что ей надо посоветоваться с вами насчет того, как избежать вражеских сетей. Если же ее гибель неизбежна, то она хочет, по крайней мере, сообщить вам по секрету нечто такое, от чего зависит сама жизнь дочери первосвященника, носящей имя Лукреции Борджиа.
Альфонсо не имел повода доверять еврейке, но переданное ею поручение было так правдоподобно и настолько подтверждалось обстоятельствами, которые могли быть известны Мерту только через саму Фиамму, что едва ли можно было сомневаться в искренности старухи. Последние ее слова усилили до крайности опасения Альфонсо, отлично знавшего как бессовестность Цезаря, так и обуявшее теперь его отчаяние. Однако, чувство благодарности и жалости громко заговорило в нем, когда он услыхал об опасности, которой подвергалась из-за него молодая женщина, а его основательные сомнения в надежности людей, приютивших ее под своим кровом, еще преувеличивали эту опасность. Он наскоро сообразил, что Фиамму было бы нетрудно увезти на другой день тайком из Рима в числе прочих лиц, составлявших его свиту, когда же убедился в правдивости речей старой ведьмы, явно опасавшейся, чтобы их свидание не было обнаружено, то решил сопровождать ее в убежище Фиаммы.
Нося обыкновенно темную одежду, Альфонсо не опасался быть узнанным в придворном костюме, тем более, что на нем были еще надеты общеупотребительная ночная маска и широкий плащ, без которых никто не мог обходиться в ту эпоху бесчисленных раздоров. Принц продвигался вперед, не упуская из вида своей путеводительницы. Он не сообщал о своем намерении покинуть Ватикан ни одному из дворцовых слуг, которые могли выдать его, вышел с Мортой через заднюю калитку на берег Тибра и кликнул лодочника. Перевозчиком послужил им уже известный читателям старик-лодочник, который видел сбрасывающих труп герцога Гандийского. Старик как будто постарел еще более, или сделался молчаливее. Он почти не взглянул на своего пассажира и, вероятно, не узнал его.
Когда они причалили к гетто, Морта подбежала к Альфонсо и стала просить его не выдавать ее, если она поведет его по кратчайшей дороге вместо той, которая огибала стены, потому что они рисковали не попасть в этот обособленный квартал, так как положенные для входа и выхода часы уже прошли. Альфонсо со смутным предчувствием опасности выслушал предложение старухи следовать по открытому им раньше водяному протоку, настолько мелкому, по уверению старухи, что в нем едва было можно замочить подошву. Однако, он согласился избрать этот путь, и пошел за колдуньей при тусклом свете, проникавшем из промежутков между стенами. Вскоре они, по мнению Альфонсо, уже приблизились к жилищу Морты, как вдруг он услышал позади себя оглушительный треск, и не успел оглянуться, как потоки света хлынули из множества отверстий в высоких стенах, откуда выглядывали теперь бесчисленные физиономии жителей гетто, сплошь искаженные злобой и яростью. Град ругательств посыпался на непрошеного пришельца. Поднялись крики, угрозы мщением. На него со всех сторон были направлены мушкеты и самострелы, и, наконец, он заметил, что вода протока быстро прибывала, а между ним и выходом была спущена толстая железная решетка.
В эту страшную минуту распахнулась дверь жилища старых ведьм и Мириам, выбежав оттуда с безумным воплем: «Джованни!» кинулась к Альфонсо. Морта крикнула иоанниту, чтобы он спасался, схватила Мириам в объятия и увлекла ее насильно прочь. Альфонсо одним прыжком очутился позади нее в подвале, где было совершенно темно, и вдруг почувствовал, что его хватают со всех сторон. Он пытался обнажить свой меч, однако оружие было вытащено у него из ножен сзади, и в тот момент, когда он, обезоруженный, считал себя близким к гибели, в подземелье хлынул яркий свет, и Альфонсо увидел, что он окружен толпой евреев, большинство которых было вооружено. Все они выкрикивали яростные проклятия.
«Предательство» и «Цезарь» – были две мысли, одновременно блеснувшие в уме Альфонсо, который не ждал ничего, кроме неминуемой смерти. Однако, к его изумлению, разъяренная толпа внезапно стихла, и какой-то старый человек, трясясь и кашляя, выступил вперед и крикнул:
– Сдавайся, проклятый назарянин, обольститель дочерей нашего народа! Свяжите его и, не мешкая, отведите к сенатору, как было приказано, через ворота, ведущие на площадь Орсини, где бодрствуют его чиновники и проклятый инквизитор.
Альфонсо почувствовал некоторое облегчение, убедившись, что его не собираются умертвить на месте. Тем не менее, тревожась о дальнейших последствиях сделанного им промаха, он стал с жаром уверять в своей невиновности и обратился за поддержкой к Морте, сестра которой вышла с Мириам.
– Презренный сын нечестивого рода, собака из собак, наш враг! – яростно завопила Морта, – я должна заступиться за тебя, предавшего позору кровь нашего отца и привлекшего ее к суду, угрожающему ей?! Будь ты проклят, поганый выродок, со всем своим племенем, и да будет благословен тот, кто поможет уничтожить тебя вместе с ним!
– Долой его! Он – совратитель дочерей и жен наших! – гневно подхватил старик. – Нет ему чести в Израиле, Пусть судят христианина по христианским законам!
– Пусть посадят его живым на кол, как моего сына, моего Рувима! – закричал другой старый человек.
– Пусть обождут совершения казни до солнечного заката. Как было с моим сыном. К той поре коршуны до того проголодаются, что перестанут робеть. Назарянин не допустил меня отгонять их, не дал мне смочить каплей воды запекшиеся, почерневшие уста моего Рувима.
Это ужасное напоминание о горе старика до такой степени распалило ярость людей, карауливших пленника, что только строгий запрет старейшины удержал их от немедленной кровавой расправы с ненавистным врагом. Альфонсо чувствовал сам, что может надеяться на спасение, только подчинившись силе, но, пока он вел переговоры со своим караульным, явилась стража алебардистов, состоявшая на службе у сенатора. Ее приход подал рыцарю некоторую надежду, тем более, что между этими солдатами он увидал юного Фабио Орсини. Альфонсо тотчас объяснил, что он – посланник повелителя Феррары, и от имени папы требует защиты. Однако, единственным ответом знатного юноши был дикий хохот, звучавший насмешкой и ненавистью. Он приказал евреям тотчас предстать со своей жалобой и со своим пленником на суд его брата, и это приказание было неукоснительно исполнено.
Между тем, ни один добрый или злой дух не шепнул об этих событиях Ватикану. Упоенная нектаром страсти, проникавшей во все ее существо, Лукреция не без удивления повиновалась требованию папы, велевшему ей зайти к себе, и ее удивление еще возросло, когда она увидела, что он крайне взволнован и расстроен. С мрачной серьезностью, какой она никогда не замечала в нем раньше, Александр сообщил дочери, что из-за слуха, пущенного Орсини, ей не следует больше видеться с феррарским посланником. Лукреция вспыхнула ярким румянцем и принялась с жаром возражать против такого странного распоряжения. Впрочем, молодая женщина не решалась расспрашивать о неприятном слухе из боязни, чтобы это не повело к опасным допытываниям со стороны отца. Ее молчание и замешательство не говорили в ее пользу и еще более усилили подозрение папы, так что он, приказав сообщить двору, что Лукреция не выйдет больше в этот вечер, задержал ее при себе до позднего часа, как будто совершенно углубившись в шахматную партию, которую сумел, со всей своей испанской ловкостью, затянуть почти на неопределенное время.
В Ватикан пришло известие о беспорядках в гетто и об аресте христианина, явившегося туда проведать свою возлюбленную еврейку, однако, на это не обратили внимания, смута между евреями была усмирена самим сенатором, который нарядил следствие по этому делу. Но, когда Лукреция получила позволение удалиться, папа в ее присутствии отдал приказ доложить феррарскому посланнику, что завтра утром он сделает ему визит, чтобы сообщить свои последние распоряжения. Тут у молодой женщины мелькнуло тревожное подозрение, и она остановилась в нерешительности у входа в свои покои, спрашивая себя, не вернуться ли ей назад и не открыть ли всего отцу. Однако, выражение, замеченное ею в глазах начальника папской канцелярии, честность которого казалась ей сомнительной, удержало ее от этого.
Беспокойство Лукреции усилилось еще более, когда она, войдя к себе, заметила отсутствие своей кормилицы, против обыкновения не дожидавшейся ее в тот вечер, причем на все расспросы прислуга отвечала ей, что не знает того, куда девалась Фаустина. В своем беспокойстве молодая женщина даже не подумала о том, чтобы лечь в постель, и отпустила своих служанок, отказавшись от их услуг. Забрезжившее утро застало ее все еще погруженной в задумчивость, которая, несмотря на свою сладость, вызывала слезы на ее глазах. Тишина рассвета успокоила утомленное тело женщины, и она предалась дремоте, не вставая с кресла. Но вдруг ее потревожил посол от папы. Посол немедленно требовал к себе дочь, желая видеть ее одновременно с феррарским посланником.
Лукреция была удивлена, но ей не хотелось показаться перед своим возлюбленным истомленной и бледной после бессонной ночи, и потому она извинилась перед отцом, велев сказать ему, что не может прийти. Однако, на это последовал еще более настоятельный приказ явиться в папские покои, и Лукреция поспешила к отцу, даже не переодевшись. При входе и нему ее крайне поразил и встревожил его первый вопрос о том, куда девался иоаннит. С солнечного заката накануне он исчез из своих покоев, и перепуганный Бембо подтверждал это известие.
Страх и замешательство Лукреции при этом известии, казалось, усилили до крайности гнев папы. Александр высказал намерение отправиться лично на поиски иоаннита, чтобы узнать, по какой причине тот спрятался во дворце, но затем без видимой связи с предшествующими словами приказал позвать Фаустину. Лукреция запинаясь сообщила, что кормилица исчезла.
Это явно усилило волнение папы и он воскликнул своим страшным голосом, испугавшим даже Лукрецию:
– Ну, так где же он? Это невероятно, хотя до нас дошли странные рассказы о его лицемерном поведении и распутстве. Фиамма... молодая еврейка... ты слышишь?
– Клянусь своей жизнью и честью, – с большим жаром сказала Лукреция, – все это – отвратительные наветы, придуманные его врагами, чтобы вооружить вас против него.
– А кто сказал нам не дальше, как вчера вечером... Слушай, Лукреция, твоя Фаустина – так мне сообщили – искала защиты у Орсини. Нет ли у нее на языке чего-нибудь такого, о чем охотно послушали бы враги? Несчастная, где иоаннит?
– Клянусь всеми святыми, я сама желала бы знать это, чтобы успокоиться относительно его безопасности, – ответила молодая женщина с горячностью, поколебавшей подозрение папы.
– Однако, что означает твой все разгорающийся румянец? – продолжал он после некоторой паузы. – Послушай, Лукреция, я хочу узнать самое худшее и, пожалуй, это необходимо, чтобы спасти наше имя от величайшего позора. Мне говорят, будто иоанниту |было поручено разузнать здесь нечто такое, что могло |бы беспрепятственно содействовать твоему браку с его повелителем, английский рыцарь подтверждал это раньше, да и меня уверяют, Лукреция... Но если ты |в самом деле такая презренная, какою я не хочу тебя назвать, то сознайся, по крайней мере, вовремя, чтобы я успел помешать предателю вернуться со своими хвастливыми речами в Феррару и покрыть нас вечным стыдом и позором, сделать всеобщим посмешищем.
– Отец, что все это значит? – спросила до крайности пораженная Лукреция.
– У тебя только одно средство спасти свою жизнь: выдай мне иоаннита без всяких условий! Или ты хочешь заставить меня предать все огласке и ворваться в твои покои с моими швейцарцами, чтобы найти в них этого иоаннита?
Лукреция молчала с досады, стыда и горя. Однако, это молчание подтверждало догадку ее отца. Он был жестоко потрясен и опустился в кресло, точно силы покидали его и ноги отказывались ему служить. Закрыв лицо руками, он воскликнул:
– Вот истинная небесная кара!
– Умертвите меня, но не подозревайте в подобных вещах, – сказала Лукреция задумчивым тоном, словно ей не хотелось верить тому, что она слышала, и ее томило смутное предчувствие страшного несчастья.
В этот момент вошел Бурчардо. Он, дрожа от страха, доложил о приходе двух убогих старух из гетто, которые такими странными словами добивались доступа к Лукреции, что он пришел спросить, как она прикажет поступить с ними.
Не дав дочери распорядиться, чтобы евреек удалили, папа велел немедленно ввести их. Бурчардо тотчас явился назад с Мортой и Ноттой. Не замечая папы, или не обратив на него внимания, они бросились к Лукреции, ухватились за ее платье и принялись вопить, колотя себя в грудь.
– Мы снабдили тебя чудесным питьем, которое доставило тебе любовь твоего возлюбленного, – закричала Морта, – будь же и ты сострадательна к нам! В нашем доме схватили назарянина. Но ты пожалела наше дитя и сказала, что было бы святым делом показать бедняжке соблазнителя ее юности, чтобы успокоить ее отчаяние, ибо в своем безумии обманутая считала его мертвым, убитым предательской рукою. Мы сделали только это, но не более.
– Да, он расточает свое богатство, как приличествует воину, он очень богат, – подхватила Нотта, страшно ухмыляясь. – Но, прекраснейшая синьора, если ты согласна оказать милость ему и нам, то вот великолепнейший из его даров – эти драгоценные камни, доставшиеся ему при разграблении Капуи – возьми их себе.
– Венок с турнира! – воскликнула Лукреция, все себя от испуга и удивления, когда старые ведьмы, с плачем и жалобными стонами, положили к ее ногам венец из превосходных бриллиантов. – Что это значит? Не похитил ли арестованный в гетто христианин этих дивных драгоценных камней, чтобы подарить их своей возлюбленной?
– Нет, нет, только ты молчи, – возразила Нотта, и остальные слова были сказаны сестрами в один голос, как будто эти ведьмы не хотели уступить одна другой такого сладостного мщения. – Не разглашай о том, ведь пойманный синьор – рыцарь-монах, рыцарь Белого Креста Иоанна, которого назаряне называют святым.
У Лукреции вырвался полуподавленный крик, и, растерянно взглянув на папу, она воскликнула:
– Так его нет в вашем доме? Где же он, адские женщины?
– Его увезли узником из Рима, – отвечала Морта. – Сенатор сам судил его, и мы не можем узнать, что стало с ним и с нашим детищем – Мириам.
– Сенатор? Орсини? Узник! – задыхаясь, воскликнула Лукреция, а затем пошатнулась и упала без чувств к ногам папы.
Когда молодая женщина снова пришла в себя, то ее взор упал на Цезаря, который суетился, подавая ей помощь.
– Он казнен! Не ты ли убил его, палач? – закричала она. – Говори! Разбей мое сердце! Он умер?
– Этот бред действительно подтверждает рассказ Орсини, приведший меня в смущение, – ответил Цезарь, содрогнувшись перед злобой, которою сверкали глаза его сестры.
– Убийца! Прочь твою окровавленную руку! Но скажи мне, жив ли он. Если ты не скажешь, то заговорю я и покажу перед небом и землею, какое ты чудовище! – воскликнула Лукреция в сильнейшей ярости.
– Он не умер и ему не причинено никакого вреда, – поспешно ответил герцог. – Еврейка бредит. Просто нечестивые похоти иоаннита отдали его во власть Орсини, а последний воспользовался этим случаем для нашего позора и отправил его в цепях в Феррару к его оскорбленному повелителю с неопровержимыми доказательствами его измены, если только это не было выдуманной шуткой. О, какой злополучный день!.. Он покрыл нас таким стыдом!
Лукреция была изумлена этой поразительной цепью событий, которые так быстро содействовали всем намерениям зачинщиков, и долго смотрела перед собою, погруженная в молчание. Цезарь не понял значения одолевавших ее мыслей и не мог удержаться от горького смеха. Смех, к его удивлению, встретил отклик у его сестры.
– А, так значит, вы поймали соблазнителя еврейской девушки, которого, говорят, убил злодей, не имевший себе равного на земле со времен Каина! – сказала Лукреция, скрывая, насколько хватало ее сил, действительную скорбь под видом другой. – Прошу вас, – продолжала она, обращаясь к папе, – если вы любили меня когда-нибудь, то прикажите вернуть негодяя и подвергнуть его заслуженной каре за его чудовищное преступление.
– Можно предоставить наказание иоаннита его повелителю, – возразил Цезарь, – вернуть же его нет возможности, если посланный за ним вдогонку не помчится с быстротою ветра. Теперь светает, а он был увезен из Рима час спустя после солнечного заката на самой быстроногой лошади, какую только можно было найти.
– Ах, догнать его решительно невозможно? – сказала Лукреция, причем ее прекрасное лицо удивительно просветлело. – Пусть он стремится к своему наказанию в Ферраре, а я подожду своего в Риме. Не осуждайте меня, не выслушав предварительно моих оправданий. Пошлите за сенатором Орсини, и пусть он предъявит свое обвинение. Если же мне не удастся опровергнуть его явными для всех доказательствами, то пусть я погибну, не оплаканная даже родным отцом.
– Сенатор в замке Святого Ангела, куда он явился по моему желанию, – сказал Цезарь. – Но какой прок удовлетворять его жажду мести и радовать этого человека видом нашего отчаяния?
– Все равно, пусть придет, – возразила Лукреция. Цезарь посмотрел на нее, как на помешанную, однако, ей не противоречил, и за Паоло Орсини был отправлен посол.
– Никого не выпускать отсюда! – распорядилась Лукреция, заметив, что еврейки, стоявшие на коленях, хотели потихоньку ускользнуть ползком. – Вы не должны возвращаться к себе, в гетто, с половинными вестями обо мне: ведь их и так ходит слишком много. Вам нужно получить более справедливое мнение о своей внучке, прежде чем вы вернетесь к приготовлению своих ядовитых снадобий. Не удивляйся, Цезарь! Дай мне только убедиться в справедливости рассказа этих старух, а тогда я с радостью разделю всякую участь, какая постигнет феррарского посланника. Бембо был его товарищем. Пусть же он будет свидетелем его разоблачения. Пошлите также и за ним!
Сам папа начал думать, что страх отнял рассудок у его дочери, однако, твердый и спокойный тон ее речи опровергал подобное подозрение.
Орсини явился вскоре в сопровождении троих чиновников, членов его суда, двоих инквизиторов и одного писца. Радость мщения, которую он испытывал, носила спокойный характер, потому что Паоло чувствовал себя удовлетворенным с избытком. Он вошел со смиренной церемонностью, обычной при появлении перед папой.
– Господин сенатор, – заговорила Лукреция, – как вы осмелились нарушить законы Рима, когда вы призваны перед всеми строго требовать их соблюдения? Как вы осмелились избавить рыцаря иоаннита от возмездия, положенного законом за то преступление, в котором он был изобличен?
– А неужели вы разгневались так сильно из-за того, что к деятельности блудящих римлянок присоединилась и нечестивая еврейка? – со страшной улыбкой спросил Орсини. – Но у римского сенатора есть обязанность поважнее соблюдения законов, потому что общественная безопасность стоит превыше всего. Союз с Феррарой представляет политический вопрос такой важности, что я был совершенно прав, удалив мошенника, который испортил бы нам все дело.
– Славная шутка! – возразила Лукреция. – Но объяснитесь точнее.
– Как вам угодно, сиятельная синьора! Нотариус, прочтите нам то, что показала в нашем присутствии донна Фаустина, прежде чем была отправлена в качестве свидетельницы в Феррару, – сказал Орсини, дрожа от нетерпения и радости.
Нотариус вздрогнул и в испуге посмотрел на папу, но Лукреция подала ему знак читать документ, и он, упав на оба колена, повиновался ее воле.
Фаустина, бежавшая из помещения Лукреции, несомненно из-за угрозы Цезаря или по его приказанию, открыла все, что она знала о свидании Альфонсо с Лукрецией, или видела своими глазами, или подозревала. Хотя в ее словах не было прямого обвинения, но они указывали на опасность, грозившую в будущем. Кормилица утверждала, что, судя по обстоятельствам и жалобам своей повелительницы, она до последнего времени думала и знала, что феррарский посланник пользовался своим полномочием, чтобы действовать против Лукреции, но во время того свидания они как будто заключили между собою договор, результатом которого явилось предложение посланника на другой день. Затем, Фаустина рассказала все о ночном приключении и только не передала слов их разговора.
Подробности ее рассказа бросили в краску Лукрецию, а у папы вызвали громкий стон.
– Поэтому-то я и опасался, – сказал Орсини, – что союз с Феррарой не состоится, если не удалить своевременно этого человека. Если же я выследил его до самой потайной лазейки, то исполнил только свою обязанность.
– О, какой же негодяй и отвратительный изменник – этот иоаннит! – воскликнул Цезарь будучи не в силах дольше преодолеть свое торжество. – И самым подлым из всех его преступлений я считаю то, что он пользовался своей возлюбленной-еврейкой, чтобы распространять гнуснейшие наветы на мой счет. Надо сознаться, я постоянно замечал, как все его стрелы направлялись втайне против меня.
– Теперь, ваше святейшество, вы можете усмотреть, что я, не помышляя о предательстве, вправе сложить с себя навсегда свое презренное занятие, – сказал Орсини со спокойной улыбкой скрытой мстительности.
– Да, я усматриваю здесь карающую десницу, – простонал папа, удрученный скорбью. – Мой Джованни убит, Цезарь помышляет о восстании, а Лукреция... О, ты, худшая из всего твоего злого рода, что ты такое?
– Ваша дочь и невеста Альфонсо Феррарского, – спокойно ответила та. – Вся эти история, хотя и раздута болтовней старых баб, справедлива. Совершенно верно, что вплоть до продолжительного свидания со мною наедине феррарский посланник был против моего брака со своим принцем, но затем, он объявил о нем на следующий день. До той поры я не знала о клевете, возводимой на меня родным братом, и о том позоре, который навлекла на мое имя его шутка над английским рыцарем.
– Нам пока неизвестно, одобрит ли Альфонсо Феррарский те средства, которые были выбраны иоаннитом для доказательства вашей невиновности, синьора, – заметил Паоло Орсини.
– Презренная, неужели ты сама сознаешься в своей вине? – тоном отчаяния воскликнул папа.
– Если любовь – провинность, то я, разумеется, страшно виновата, – ответила Лукреция. – Но разве мне не приходилось слышать очень часто, что вы сами признаете за Альфонсо Феррарским высокое геройство и все достоинства правителя? Неужели он захотел бы сочетаться с позором? Неужели согласился бы дать своим детям мать, имя которой должно было вызывать на их лицах краску стыда? Чтобы показать вам, отец, что я ни делом, ни помыслом не виновна в том, что мне приписывают, чтобы убедить вас, Орсини, что посланник, отправленный вами в Феррару – не изменник, а тебя, Цезарь, что эти старые бабы не сделали по крайней мере ничего, чтобы опровергнуть обвинения, которые ты усмотрел в бреду их внучки, я скажу вам всем... – нет, только вам, мой любимый отец: «Иоаннит – это сам Альфонсо Феррарский».
Солнечный луч, внезапно проникший во мрак, не так быстро освещает все, что было темно и загадочно, как быстро подействовало это открытие на пораженных слушателей. Водворилась тишина, как после потрясающего громового удара.
Цезарь опомнился первый и пробормотал:
– Если так, то после приключения прошедшей ночи мы не скоро услышим что-нибудь о Ферраре!
– Мы должны немедленно отправить посла за ним вдогонку, чтобы принудить его к исполнению обещанного, – сказал папа, бросая на Лукрецию растерянный взор.
– Слава Пресвятой Деве, потому что, благодаря заботливости Орсини, его нельзя догнать, – со вздохом промолвила Лукреция. – Ни под каким видом принуждения не приняла бы я его руки. Только дай Бог ему благополучно прибыть в Феррару. А ты, Цезарь, вспомни катакомбы! Немедленное прибытие посла от Альфонсо должно подтвердить или опровергнуть мои слова, принести мне славу или бесчестье.
– Как давно знала ты обо всем этом, Лукреция? – спросил Цезарь, смущенный зловещими словами сестры. – Ведь в долине Эгерии я слышал, как он признался тебе, что его намерения враждебны нам.
– Ну, тогда я – величайший глупец, обманутый лукавством Борджиа! – воскликнул Орсини при таком неожиданном разоблачении обмана всей интриги Цезаря.
– Удалитесь все, – в сильнейшем замешательстве сказал папа. – Мы должны узнать всю правду, Лукреция. Что же касается вас, Орсини, то если звание, которым мы вас облекли, причиняет вам столько забот и труда, тогда мы снимаем его с вас, чтобы отдать этот столь неприятный пост одному из ваших врагов.
Вслед за этим Лукреция обратилась к брату:
– Не смотри так дико, Цезарь! Уведи этих ведьм, так дерзновенно поносивших имя моего Господа, в твои темницы, в замке Святого Ангела и успокойся на том, что мы не хотим причинить тебе дальнейший вред, если ты не замышляешь ничего дурного против нас.
Лукреция произнесла эти слова с твердостью, но даже ее смелый дух поколебался от страшного взора Цезаря и, отвернувшись с содроганием от брата, она упала в простертые ей объятия папы.
ГЛАВА XI
Лебофор покинул Рим в назначенный срок, к великой радости своей свиты и особенно старого оруженосца Бэмптона. Предполагаемой целью его путешествия была Венеция, но туда он направился несколько необычным путем, а именно, через Урбино, после того, как получил перед своим отъездом через неизвестное лицо письменное удостоверение от папы, что ему разрешено жениться на своей двоюродной сестре. Как слышал Бэмптон, рыцарь избрал этот путь, чтобы миновать область Феррары и сесть на корабль в одной из гаваней Умбрии, но, будучи незнаком с тайнами союзных дворян, в которые Орсини посвятил английского рыцаря, недоумевал, почему его юному повелителю вздумалось остановиться в Урбино, все еще сильно волновавшийся после предательского нападения Борджиа. Хотя многочисленная свита ограждала Лебофора от опасностей и оскорблений, однако, пребывание в Урбино, не представляло ничего приятного, и Бэмптон беспокоился до тех пор, пока Лебофор не решил продолжить свое путешествие.
Приближаясь к границам Урбино, Реджинальд прибыл со своею свитой на плоскогорье под диким горным проходом в Романью, над которым господствовала крепость Сан-Лео, главная твердыня в области Умбрии. На дикой тропе, вившейся к горному перевалу, шло множество поселян, гнавших волов, овец, везших на возах зерновой хлеб, а также кучки горцев, нагруженных урожаем, полученным со своей скудной почвы. Реджинальд был безучастен к происходившему, но Бэмптон узнал, что по всей окрестности производятся насильственные поборы на удовлетворение нужд гарнизона в крепости Сан-Лео, что не было редкостью при разбойничьих наклонностях наемного войска Борджиа. Лишь когда путешественникам попались дроги с тяжелыми бревнами, Реджинальд стал собирать сведения и вступил в разговор с крестьянами-погонщиками волов, предводителем которых был коренастый горец, по имени Пальтрони.
Собиралась гроза, когда английские стрелки приближались к вершине горы Сан-Лео, на которой была сооружена одноименная ей крепость. Подъемный мост через пропасть был спущен, и ворота отворены для пропуска крестьян с их кладью и убойным скотом. Гарнизон держал себя до крайности нагло, а его начальник с красным от пьянства лицом и яростным голосом бражничал верхом на лошади со своими офицерами, производил приемку привезенных припасов по списку, бывшему у него в руке, и ругал, даже бил несчастных крестьян, не исполнивших, по его словам, своих повинностей. Когда осмотр был окончен, крестьян впустили через подъемные решетчатые ворота башни во внутренний двор крепости, где они выгрузили свою кладь и получили подобие квитанций.
Реджинальд, приблизившись к подъемному мосту, приказал своим людям остановиться и, по обычаю, дать сигнал трубой, что означало желание вступить в переговоры. Однако, начальник крепостного гарнизона, услышав звук трубы, в первый момент замешательства крикнул: «измена!», а затем приказал немедленно поднять спущенный мост.
Реджинальд увидал, что его просьба не будет уважена. Впрочем, этого надо было ожидать как в виду суровости коменданта Пиетро Овиедо, так и в виду того, что было опасно впустить в крепость вооруженный отряд, потому что гарнизоны Цезаря были очень слабы в Урбино, а частью и совсем отозваны, чтобы послужить подкреплениями для союзных дворян при осаде Болоньи. Однако, Лебофор двинулся на своем коне к подъемному мосту и крайне вежливо попросил приюта и ночлега в Сан-Лео себе и своим спутникам.
Тем временем, подоспел и Пальтрони со своими бревнами и, понукая волов, обогнал рыцаря, так что волы и бревна очутились между комендантом и его непрошеными гостями.
– Прочь с дороги! – заорал Пиетро Овиедо. – Мы ответим на эту просьбу пушками, если нарядный господинчик не избавит нас сейчас же от своего присутствия. Чего вы рыщете по владениям моего государя, герцога Романьи?
– Если хочешь знать это, то не угодно ли тебе пожаловать сюда со своим копьем! – ответил Реджинальд. – Чего ты лжешь? Этот замок принадлежит не герцогу Романьи. Он лишь отнял его, как вероломный и бесчестный грабитель.
Горцы и крестьяне, столпившиеся позади Реджинальда, одобрили этот ответ громким криком, да и в крепости он нашел себе бурный отклик, так что комендант, сильно обеспокоившись, вторично приказал запереть ворота. Несколько солдат принялись гнать своими копьями волов дальше. Однако, когда бревна очутились как раз под опускными воротами крепости, Пальтрони внезапно схватил топор и, размозжив голову ближайшему из неприятелей, кинулся вперед с криком: «Вот и мой государь, герцог Урбино!» Этот возглас был немедленно подхвачен тысячью грозных и нестройных голосов внутри и снаружи крепости. Реджинальд со своими воинами тоже поскакал вперед с криком: «Святой Георгий!» В один миг Пиетро Овиедо был сброшен сильным ударом наземь, а затем Реджинальд, выхватив меч, вступил в рукопашную схватку с солдатами Борджиа.
Бой был жесток, но не продолжителен, потому что неприятеля удалось захватить совершенно врасплох. Этим был осуществлен план Паоло Орсини оживить мужество союзников, отвоевав обратно Урбино и возвратить эту страну ее законному герцогу.
Крепость Сан-Лео, имевшая важное стратегическое значение, пала. Из всего ее гарнизона только немногие и между ними комендант, спасенный Реджинальдом, избегли мщения народа, которое сами навлекли на себя жестокостью и вымогательствами.
Но теперь возникло затруднение, каким образом удержать за собою дорого доставшуюся добычу. Реджинальд занял крепость своими воинами, а Пальтрони распространил весть об одержанной победе и поднял восстание во всей стране. В то время, как Лебофор после побоища распоряжался уборкой бревен с моста, через него поспешно перешел человек, изнуренный усталостью, и кинулся к его ногам. Это был негр с запекшимся от страшной жажды языком. Едва владея собой, он вытащил из-за пояса письмо, а затем потерял сознание. Бэмптон узнал в нем скорохода Цезаря, носившего кличку «душитель». Реджинальд созвал солдат в свидетели того, что письмо, принесенное негром, было адресовано коменданту, и вскрыл конверт. Однако, послание было написано тайным шифром, и, желая узнать его содержание, Лебофор приказал привести Пиетро Овиедо, и предложил ему прочесть письмо. Тот отказался, ссылаясь на свою неграмотность, и с письмом удалось ознакомиться при помощи духовника коменданта, знавшего ключ к тайному шрифту. В письме заключалось сообщение об аресте феррарского посланника, и о тех причинах, по которым для Борджиа было необходимо разрушить план Орсини, хотевших доставить виновного посла в Феррару. Поэтому, комендант крепости получил приказ во что бы то ни стало захватить этого пленника Орсини, если же они уже проехали со своим пленником через Сан-Лео, то отправиться за ними в погоню, и скорее перебить весь конвой, чем пустить их дальше, причем в случае возможности привезти узника обратно в Сан-Лео, и держать под стражей до дальнейших распоряжений. Щедрая награда, обещанная Цезарем, доказывала, какую важность придавал он удаче этого дела.
Реджинальд тотчас поспешил расспросить негра и, узнав, что тому действительно удалось опередить путников, хотя и не на большое расстояние, разослать во все стороны разведчиков, которым было приказано привезти Орсини с их пленником в Сан-Лео.
К вечеру вся компания прибыла в крепость. Хотя Орсини слышали дорогой о восстании и нападении на крепость, однако рассчитывали на дружбу урбинцев и на их ненависть к роду Борджиа, а потому были убеждены, что им дадут свободный пропуск, чтобы повредить интересам Цезаря. Конвоем командовал Фабио Орсини, причем его сопровождали опытные приверженцы рода Орсини и свита из воинов, закаленных в боях.
Реджинальд нарочно не показывался, пока все прибывшие сошли с коней, а пленник был отведен в приготовленную для него комнату, но наблюдал через бойницу одной башни за прибытием всей партии, и его сердце волновалось разнородными чувствами, когда он увидал иоаннита, который в грубом плаще с поднятым капюшоном сидел связанным в седле, не теряя, однако, своей царственной осанки и спокойного достоинства. В отряде всадников оказалась и женская фигура. Всмотревшись в ее печальные черты, Реджинальд узнал Фаустину.
Фабио Орсини обнаружил некоторое удивление, встретив в лице завоевателя Сан-Лео английского рыцаря, однако, не почувствовал ни малейшего беспокойства, воображая, что Реджинальд кипит непримиримой враждой к Цезарю, которая была вызвана поступком герцога. Со своей стороны Реджинальд удивился перемене, происшедшей в душе Фабио. Молчаливый юноша, обращавший прежде на себя внимание только своею скромностью и кротостью, пылал теперь дьявольской жаждою мести и ненавистью к вероломному, как он думал, посланнику Феррары. Фабио, должно быть, воображал, что узника ожидает страшнейшая кара со стороны его ожесточенных повелителей, и у него самого являлось искушение лично покончить с ним. Юноша, приведенный в ярость собственным рассказом об успехе Альфонсо у Лукреции и о разбитых надеждах его брата, Паоло Орсини и вспомнивший, что Реджинальда томит тоже горе, неожиданно кинулся в объятия Реджинальда, и сознался ему, что и сам он уже давно сделался жертвою страсти к Лукреции.
Лебофор намеревался сначала объяснить молодому человеку опасность принятого им на себя поручения, и освободить пленника, но внезапное признание Фабио, а также уверенность в том, что урбинцы захотят удержать в своих руках заложником столь важное лицо, если обнаружится его звание, удержали его от этого необдуманного шага. Он быстро составит в уме план и посвятил в него лишь несколько из своих людей, без помощи которых не мог обойтись.
Около полуночи Альфонсо был разбужен светом факела и, вскочив с постели, увидел перед собою Реджинальда Лебофора.
– Не удивляйтесь, синьор Альфонсо, – заговорил англичанин мягким, но дрожащим голосом. – Не знаю, сообщили ли вам ваши стражи о том, что произошло в этой стране, но я считаю нужным сообщить вам, что я отбил и занял этот укрепленный замок для герцога Урбино.
– А теперь явились сюда, чтобы стать убийцей? Да, действительно, ваш кроткий нрав совершенно переменился, – сказал Альфонсо, выпрямляясь и с отчаянием взглянув на свои крепко стянутые руки.
– Эта горькая речь не совсем заслуженна мною, а потому я перенесу ее, – ответил Лебофор. – Но, клянусь, если бы кто-нибудь убил меня, когда я предался обманчивой надежде на райское блаженство, то я не изведал бы жестоких упреков совести. Не страшитесь однако! Я пришел освободить вас, избавить от рук Орсини. Да, вы получите свободу, но при одном условии, в исполнении которого вы должны поклясться мне своею рыцарской честью и словом государя.
– Назовите свое условие, – сказал Альфонсо, и тогда я отвечу вам.
– Судя по вашему странному поведению в Риме, по аресту в гетто, словом, по всему, вы стали равнодушны к Лукреции, и если бы... Впрочем, довольно! Поклянитесь мне, что вы не заплатите неблагодарностью за ее слишком расточительную любовь, что вы не покинете ее, чтобы осуществить тем низкую надежду Цезаря и Орсини, добивающихся того, чтобы она была покрыта стыдом и позором. Поклянитесь, что вы сделаетесь ее супругом, согласно принятому на себя обязательству.
Несколько мгновений Альфонсо молча смотрел на Лебофора, почти завидуя его рыцарской преданности и бескорыстию его любви, но все же запальчиво ответил ему:
– В таком случае, предоставьте меня моим врагам! Вы бесчестите Лукрецию и меня таким принуждением. Я отвечу вам вполне откровенно. Клянусь, если бы Лукреция уступила моей безумной страсти, в приливе которой я осыпал ее мольбами, находившими поддержку в ее собственной любви ко мне, я никогда не сделал бы ее – мою любовницу – своей супругой. Если же вы отпустите меня теперь на свободу, а я не попрошу из Феррары ее руки, то вы в праве счесть Альфонсо Феррарского малодушным изменником, я согласен на это, и хотел бы, чтобы наши мечи решили, справедливо ли я поступил, или нет.
– Я удовлетворюсь и готов поверить вам, потому что всегда видел ваше благородство и ваш возвышенный образ мыслей, подобающий царственному лицу, – ответил Реджинальд, после чего распилил железные обручи на руках своего соперника.
Будучи вполне побежденным великодушием англичанина и горя желанием оправдать себя и Лукрецию во мнении Реджинальда, Альфонсо правдиво рассказал ему, то, что привело его в гетто. Этот рассказ разоблачил еще много других вещей, и между прочим, принц открыл Реджинальду большую часть обстоятельств, убедивших его в невиновности Лукреции и в чудовищной преступности Цезаря. Для Реджинальда подобное открытие было благодетельно, так как оно убедило его в горячей любви Лукреции к своему жениху и в безнадежности его собственной страсти.
Избавив своего соперника от оков и веревок, Реджинальд дал ему вооружение и плащ одного из своих стрелков и беспрепятственно вывел из крепости, где изнуренная стража и Орсини бражничали или спали. Одна из лучших лошадей Лебофора стояла оседланной по ту сторону крепостных валов. Тут Реджинальд простился с Альфонсо и дал ему на дорогу два паспорта: один, подписанный Пиетро Овиедо, – для партии Борджиа, а другой, изготовленный Пальтрони – для урбинцев, на случай, если бы принцу пришлось столкнуться в пути с людьми того или другого лагеря. Феррара находилась лишь в нескольких часах езды от Сан-Лео, и, будучи хорошо знаком с местностью, Альфонсо, снабженный такими надежными документами, едва ли рисковал чем-нибудь, так как ему не угрожало более преследование Орсини. Вскоре бывшие товарищи по оружию расстались.
Побег иоаннита был обнаружен только на следующее утро. Все были поражены и изумлены, и стали подозревать измену, пока Лебофор не сознался открыто, что он сам освободил феррарского посланника. Он указал изумленным Орсини на ту опасность, какую они навлекли бы на себя, доставив в Феррару подобного узника, а урбинцам выставил на вид выгоду для них от возможности заручиться дружбой столь могущественного соседа или, по крайней мере, избежать явного разрыва с ним, который мог явиться следствием какого-нибудь насилия со стороны Орсини. В заключение, он сообщил, что иоаннит был сам Альфонсо Феррарский.
Это сообщение подтвердилось в тот же день. Немного спустя, в крепость прибыл епископ д'Энна. Он был преданным слугою Цезаря, и, вероятно, получил от преступного герцога известные распоряжения, однако, счел нужным умолчать о них, когда увидел, как сложились обстоятельства, и когда очутился сам пленником. Однако, он подтвердил то, что произошло в Риме, причем ложно сообщил, что прислан с приказом об освобождении столь высокопоставленного пленника, и о почетном обхождении с ним.
В приливе упорства и ненависти Реджинальд отправил негра, епископа д'Энну и Фаустину в ближайшую крепость Цезаря в Романье, приказав им как можно скорее явиться к своему повелителю с докладом о том, что его распоряжения опоздали. Фабио Орсини поневоле согласился с этим.
ГЛАВА XII
За взятием Сан-Лео последовало восстание по всей области Урбино, и герцог Гвидобальдо быстрее, чем лишился своего герцогства, снова получил его в свое владение, за исключением некоторых крепостей. Конечно, он поспешил немедленно осадить их. Реджинальд под влиянием жажды мщения Цезарю остался главной опорой восстания, и оно, благодаря его пылкому усердию и храбрости, вскоре произвело полный политический переворот.
Последствия событий в Урбино были чрезвычайны. Римское дворянство оправилось от внезапного испуга, в какой повергли его отпадение Франции и победы Цезаря. Вассалы церкви не приняли предложения Цезаря выступить с ним вместе на осаду Болоньи, предписанную ему папой, но на заседании в Малжионе составили между собою явный союз против партии Борджиа, и обязались помочь всем, изгнанным из своих владений дворянам водвориться в них снова. После такого решения герцог Гвидобальдо, Вителлоццо и Оливеротто да Фермо выступили со всеми своими боевыми силами в Урбино, чтобы отразить нападение значительного военного отряда, высланного туда Цезарем под предводительством Мигуэлото.
Сам Цезарь находился в Имоле, когда пришла первая весть о том, что счастье изменило ему. Он получил письмо, сообщавшее о захвате крепости Сан-Лео и об освобождении феррарского принца. Для Цезаря в политическом отношении было бы неизмеримо важно, если бы Альфонсо очутился в его власти, и на этом обстоятельстве основывалась большая часть его планов, задуманных им после того, как он попал в немилость у папы. Однако, события в Сан-Лео разрушили все его замыслы и поощрили дворян противиться его предложениям, и они приводили свои силы в полную готовность, готовясь к открытому сопротивлению господству рода Борджиа, а их главный советчик Паоло Орсини помышлял только о мщении.
Цезарь понял, что запутался в странных затруднениях и окружен опасностями. Вся Италия с изумлением узнала, что он заперся с ничтожными боевыми силами в Имоле, в недалеком расстоянии от повелителей Болоньи, снаряжавшихся для нападения на него, тогда как в Перуджии дворяне южной части итальянских владений собирали под предводительством ожесточенного Паоло Орсини свои войска, наводившие ужас на Рим и не намеревавшиеся отступить оттуда. Умбрия находилась в волнении. Романья колебалась. Феррара была раздражена, а на французов в Милане Цезарю было трудно рассчитывать, так как их вице-король был личным врагом Цезаря. Венецианцы тоже были его заклятыми врагами. Флорентийцы колебались между двумя, почти одинаковыми антипатиями. Одним словом, положение Цезаря было почти безвыходным, а поражение, нанесенное под Кальи Мигуэлото герцогом Урбино, Орсини и Реджинальдом, довершило злополучия римского полководца.
Победа союзников поразительно сказывалась в том беспокойстве, которое овладело всеми, имевшими причину бояться. Это особенно относилось к Флоренции, которая чуяла в этом повороте военного счастья торжество своих изгнанных тиранов, Медичи. Смущенная столь быстрым ходом политических событий и озабоченная тем, как Цезарь, отрезанный от Рима, не сдался Орсини, она решила отправить к нему посла с предложением убежища в своей области. Эта миссия была возложена на Никколо Макиавелли.
Посол могущественной Флоренции был принят в Имоле с почетом и ему было отведено помещение в большом здании, походившем на крепость и служившем некогда резиденцией изгнанникам Риарти. В нем жил Цезарь, и в виде особого благоволения здесь же были отведены комнаты послу. Готовясь к аудиенции, Макиавелли только что переменил свое дорожное платье на простой черный костюм, из которого состоял его чисто республиканский гардероб, как вдруг за зеркалом отворилась потайная дверь, и в комнату вошел Цезарь.
– О, Никколо! Неужели старейшины вашей республики не могут дать тебе ничего, кроме платья из черного генуэзского бархата? – заговорил он.
– Республиканцы не любят тратить свое золото на позументы, а мое личное состояние заключается преимущественно в виноградниках, которые сильно опустошены недавними набегами Вителли, – не без замешательства ответил посланник. – Однако, я весьма рад видеть вас таким здоровым и веселым, и спешу сообщить, что имею поручение от имени своих повелителей предложить вам во Флоренции защиту и убежище от окружающих вас врагов.