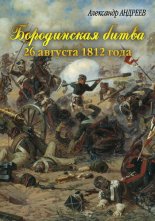Воспитание мальчиков Нестерова Наталья

От автора
Самые популярные вопросы писателям: «Почему вы начали писать?» и «Откуда вы берете сюжеты?» Космонавтов или летчиков не спрашивают, почему они летают. И так ясно: с детства мечтали. С писателями то же самое: многолетний неукротимый зуд марать бумагу. Когда я говорю, что сюжеты придумываю, что фантазирование – самая интересная часть работы, мне, похоже, не очень верят. Хотя лукавлю я всего на один процент: девяносто девять процентов – моя выдумка, один процент, чуть-чуть, – подсказки из жизни. В свою очередь, в этом одном проценте громадная доля принадлежит подсказкам из жизни двух моих сыновей, чье детство – неистощимый источник моего вдохновения.
В жизни всякого человека есть свои «до» и «после». До написания романов я занималась воспитанием мальчиков. После того, как младший сын поступил в университет, всерьез занялась писательством. Когда в семье два журналиста, не хватает только писателя. Потому что журналисты большей частью пишут дома, ночью, на кухне, а самая благостная обстановка в семье, как известно, бывает, если работу не тащат домой. В этом отношении повезло металлургам и артиллеристам. С другой стороны, вот уже восемь лет я наслаждаюсь возможностью ходить на работу в комнатных тапочках – к письменному столу.
Когда мои дети были маленькими, я терзала друзей и знакомых рассказами о проделках своих сыновей. И однажды мой учитель от журналистики Юлий Васильевич Сафонов сказал: «Тебе надо писать книги про счастливых матерей и детей, про счастливые семьи». В ответ я помотала головой: «Про счастливых писать неинтересно, да и трудно. Когда нет драмы, страстей и противостояний – про что вести речь? Сюжет держится на конфликте, а в счастливой семье можно найти только самый скучный из конфликтов – хорошего с лучшим». Но спустя много лет я обнаружила, что единственные герои, мне интересные, – это добрые, простые, душевные люди. Не злодеи, не убийцы, не воры и прочие преступники, а люди с неизвращенным понятием о чести, долге и ответственности. Этих героев рождала моя авторская фантазия, но и в реальной жизни их – подавляющее большинство.
Взявшись за книгу про взросление сыновей, я не стремилась ответить на вопрос: «Как надо воспитывать мальчиков?», а только написала, как у меня получалось справляться с их трудными характерами.
Иксы и игреки
О дочери я, кажется, начала мечтать, первый раз взяв в руки молочно-резинового пупса. Играла в куклы едва ли не до десятого класса. Потом мои любимицы долго покоились в пыльных коробках, пока не сгинули при очередном переезде. С годами мечта только крепла.
Когда у меня родилась внучка и я первый раз ее увидела – семидневную, черноволосенькую, с красным младенческим личиком, – спящую в коляске на лоджии в квартире родителей невестки…
Разрыдалась:
– Я мечтала о тебе пятьдесят лет!
За спиной раздался недоуменный шорох непроизносимых мыслей родных и близких. Пятьдесят лет – это слишком! Ей (мне) всего-то чуть за полтинник.
Именно так! Мне всю сознательную жизнь казалось: если удастся повторить мое общение с мамой, пред которым меркнут любые высокие слова, с которым не могут сравниться никакие дружбы, – жизнь моя пойдет правильно, состоится.
Не вышло.
Родился первый сын. Ладно, мужу приятно. Мужчины почему-то до сих пор пребывают в средневековом стремлении иметь наследника. Хотя не короли и не магнаты. На самом деле, грезят о преемнике. В высоком смысле – ученике, преемнике идей и теорий. Родные дети, как правило, преемниками не становятся. На них столько времени убьешь, пока научишь утром и вечером зубы чистить, домашние задания исправлять, что уж не до теорий.
В период второй беременности уже появилось ультразвуковое исследование.
Водит доктор по моему большому животу приборчиком и спрашивает:
– А вас не интересует: мальчик или девочка?
– Спасибо, я знаю.
– Как угодно.
Решил, видимо, что я из тех невежд, что определяют пол ребенка по форме живота. Но я руководствовалась совершенно другим. Во-первых, немного нагрешила, чтобы провидение обошлось со мной сурово. Во-вторых, уж сколько месяцев наблюдаю, как родня в застолье поднимает тосты за мою грядущую девочку:
– Теперь – за Тонечку!
И все дружно сдвигают рюмки, бабушки затыкаются, хотя принесли чай с домашними тортиками и были готовы решительно пресечь излишнее потребление спиртного. Но за Тонечку – это святое.
Выбранное имя – Тоня – в честь бабушки мужа, которая умерла незадолго до моего появления в их семье. Я столько добрых слов слышала о бабушке Тосе, что считала справедливым отдать дань её памяти. Да и нравилось обилие вариантов: Антонина, Тоня, Тося, Тонюля.
Тонюля практически жила в нашей семье. Когда меня тошнило по утрам, муж говорил: «Тоська чего-то несвежего поела». Старший сын, трехлетний Никита, постоянно тыкал в мой живот и спрашивал: «А что сейчас Тоня делает?» В зависимости от времени суток, Тоня призывала его убрать игрушки, или не размазывать кашу по тарелке, или отправляться спать без хныканья и капризов.
Из-за сложностей со здоровьем меня упекли в больницу за месяц до родов. В те времена общение с пациентками дородового отделения и роженицами было как с заключенными в тюрьме. Проще говоря, совершенно не было. Свидания отсутствовали, разрешалось обмениваться записками и видеть друг друга издали. Женщины прилипали к окну на пятом этаже, родные, задрав головы, стояли на земле. Летом спасали открытые форточки, зимой мучило отсутствие навыков общения глухонемых.
Никите тем холодным декабрем страшно надоело каждый день ездить с бабушкой или с папой к больнице, смутно видеть меня в окне пятого этажа.
Поэтому он вопил:
– Мама, выходи! Покажи Тонечку!
Как-то в нашу палату заглянула терпивица из соседней палаты. То есть – женщина на сносях, которая чувствует себя нормально, но анализы плохие, и врачи предпочли замуровать ее в госпитальных стенах.
Подошла к окну и протяжно, с тоской унылой, проговорила:
– Вот опять этот мальчик в черной шубке. Сейчас будет Тонечку просить.
И тут же звонкий Никитин голосок, долетев, ударил в стекла:
– Мама! Мама!
Подскочив к окну, я развела руки в стороны: никаких изменений.
– Где Тонечка? – орал Никита. – Сколько ждать? Чего она там сидит и не вырождается?
И вот, наконец, роды.
У меня еще зеленые круги перед глазами, дыхание как у тяжелоатлета, который без перерыва штанги рвал.
– Мальчик, – говорит акушерка.
– Ош-ош-баетесь, – возражаю, заикаясь.
– Смотри! – Ребеночку задирают ноги, показывая неопровержимое доказательство.
– Вс-вс-все равно! – упорствую я. – Де-де-девочку хочу!
– А этого куда денем? – веселясь, спрашивает врач акушерку.
– Может, обратно затолкаем? – подхватывает акушерка. – Авось рассосется.
Потом они возятся со мной, с ребеночком и говорят о том, что на нас не угодить. Вот туркменка Зыба у них седьмую девочку рожает. Муж Зыбы сына хочет, а туркменка каждый год по девице выдает. Он ей ультимативно заявил: будешь рожать до мальчика, хоть два десятка. Двадцать погодков-де виц в малогабаритной квартире – это, конечно, впечатляет.
Был поздний вечер, акушерка откликнулась на просьбу позвонить ко мне домой и сообщить о новорожденном.
Дальнейшее я знаю в пересказах.
Муж положил трубку, забыв поблагодарить. Уставился тупо в стенку. Мама, тетя, двоюродная сестра, свекор, который у нас гостил, смотрели на него выжидательно. Муж молчал.
– Наташа родила? – потеряла терпение сестра.
– Да, – пробормотал муж.
– Она жива? – напряглась мама.
– Да.
– А ребенок?
– Три восемьсот. Но мальчик.
– Опять? – ахнула сестра.
Некоторое время все переваривали информацию. Более всего их заботило мое душевное самочувствие: Наташа так мечтала о девочке. Словно ребенок – это новогодний подарок, выписанный по каталогу.
Паузу нарушил свекор, разумно спросивший:
– За внука и не выпьем?
Его поддержали. В смысле – поставили на стол резервную бутылку хорошего коньяка.
Наутро, физически пребывая в ослабленном состоянии, но морально – в клокочущем, я написала мужу злую записку. Я тебе не туркменка Зыба! Прекрасно знаю, что пол ребенка полностью зависит от мужчин! Они, конечно, не вольны управлять своими хромосомами. И все-таки пусть несут ответственность!
«Ты мне что обещал? – в частности, писала я. – Прежде чем обещать, сделал бы анализ! У тебя избыток игреков в хромосомах при трагическом недостатке иксов! Не то что у туркмена!»
Муж ответил, в частности: «Про туркмена не понял. Наш век – век специализации. Специализация – гарантия качества. Мы специализируемся на мальчиках».
Как в воду глядел.
Забегая вперед, скажу, что младшенький, Митя, с пеленок проявлял недюжинные интеллектуальные способности. Я сделала все возможное, чтобы затормозить его развитие, не превратить в вундеркинда, обеспечить счастливое детство. Но Митя все-таки перепрыгивал в школе через класс и в пятнадцать лет поступил на факультет вычислительной математики МГУ, который блестяще окончил.
Я крестилась:
– Господи, спасибо, что мальчик! Рост метр девяносто восемь, центнер веса, ум развитый, знания обширнейшие, чувство юмора убийственное. Будь он девочкой – никогда бы замуж не выдали. Кто бы взял?
С Никитой, старшим, та же картина. В девичьем обличье это была бы красотка-модель: длинноногая, с двумя образованиями – юридическим и экономическим, с успешной карьерой и большими претензиями. Она разбивала бы сердца, перешагивала через поклонников и в итоге вышла бы замуж за проходимца с хорошими актерскими способностями.
А у нас сложилось – счастливо! Мальчики выбрали девочек, в которых я души не чаю. Не совсем что бы дочери, но периодически хочется выхватить их, оторвать, чтобы пожили с нами, забыли про всех, принадлежали бы только мне с мужем. Вставали бы утром, со сна с пухленькими щечками, брели на кухню, наливали чай, отхлебнув, оставляли, шли в ванную и сидели там по часу (что столько времени отмывать?). Выходили, я новый чай грела бы. Они не давились бы моими бутербродами и яичницами, а капризничали:
– Сколько раз повторять? Только обезжиренные сливки надо покупать.
– Если из сливок убрать жир, – ворчала бы я, – то это будут вовсе и не сливки, а молочное пойло.
Легко ворчать на дочь. Но свекрови ворчать на невестку – записать себя в зануды.
Потом они собирались бы на работу. И по дому растекался бы чудный запах: духов, косметики – и чего-то неуловимого, юного и прекрасного, будоражащего, хмельного и отчасти нервного, эмоционального, – что может источать только красивая молодая женщина.
Но до невесток еще требовалось дожить.
Когда Митю принесли домой, развернули, Никита посмотрел на брата и сказал, скривившись:
– Обещали Тонечку, а тут пельмень какой-то. Хотите, два дня в углу простою? Только поменяйте на Тонечку.
Его в пять глоток стали убеждать, что братик – даже лучше, чем сестричка.
На что Никита справедливо заметил:
– А зачем все время про Тонечку разговаривали?
Кормление по науке
Любая мать, вспоминая о периоде, когда весь мир концентрировался для нее в новорожденном дитятке, расскажет вам про дикие страхи, про страшные подозрения в недугах, про немоту отчаяния и про вопли о помощи. У меня через три месяца после рождения Никиты появились седые волосы. Мне было двадцать два года.
Никита орал, не переставая. Спал три-четыре часа, днем, естественно. Остальное время вопил. У нас не закрывались двери – приходили врачи, глубокомысленно ставили диагнозы один страшнее другого. Нас трижды клали в больницы и выписывали как не оправдавших диагнозы. Никита кричал и кричал, видя его корчи, я сходила с ума.
Женя, мой муж, обладает развитым чувством юмора, которое не только помогает шуткой погасить зарождающийся конфликт, но и оказывается незаменимым в эмоционально тяжелой ситуации. Ночь мы делили по три часа: сначала я качаю Никиту, потом Женя, потом мама, затем снова я. Но какой сон, когда ребенок вопит? И вот сижу я на постели, раскачиваясь от громадного желания поспать и от невозможности его осуществить. Женя ходит с ребенком по комнате, трясет его как неодушевленное полено. Никита плачет, ему хоть бы хны, привык к перегрузкам.
– Наташ, а может?.. – спрашивает Женя.
Подходит к косяку двери и показывает, будто с размаху бьет головой ребенка об угол, роняет младенца на пол, смотрит радостно – замолк.
Это было настолько мастерски сыграно, настолько абсурдно, что я расхохоталась в голос, чувствуя, как тугая пружина перетянутых нервов отпускает. Многое забылось, но этот эпизод остался в памяти как маяк: иногда надо посмеяться, чтобы воскреснуть, даже благодаря черному юмору стряхнуть с себя путы тревог. Чтобы просто дышать. Потому что бездыханная мама ребенку не нужна.
Неуместный заливистый смех разбудил мою маму. Она выскочила из своей комнаты, хотя до дежурства ей оставался еще добрый час отдыха.
– Что тут происходит? Наточка, ты с ума сошла? Не вовремя, доченька. Почему ты смеешься? Ребенок-то плачет! Дайте мне его. Господи, веселятся! Если вы решили чокнуться, то, пожалуйста, подумайте о своем сыне. Иди ко мне, маленький! Иди ко мне, родненький! – Забирает у мужа туго спеленатого Никиту. – Ну, что ты плачешь, кровиночка? Бабушка тебе сейчас пустышечку даст.
Мы с Женей падаем на кровать: он – замертво, я – накрыв голову подушкой. Надо поспать, обязательно поспать, иначе сил для следующего дежурства не будет.
После врачей началось время знахарей, потому что Никита наорал себе грыжи.
Кроме меня и младенца, все были членами КПСС: муж, две бабушки, дедушка. Знахарей и колдунов поставляла моя свекровь. Остальные партийцы делали вид, что не замечают мракобесия. К тому времени я вызубрила учебник по педиатрии, огорошить меня плохими анализами было сложно, имелись описанные исключения из правил. И я прекрасно знала, что грыжи поддаются заговорам по простой причине: сами по себе зарастают в девяносто процентах случаев. Так что: заговаривай не заговаривай, успех практически обеспечен. Но оставалась иррациональная надежда (сродни вере в гороскопы или предсказаниям судьбы по линиям ладони), что очередной дедок или старушка помогут избежать операции. Тогда, кстати, корпулентные женщины-экстрасенсы с вычурными именами не забивали газеты предложением своих услуг, потомственные колдуны не предлагали излечить все и сразу, приворожить, отворожить и самое смешное – отрубить энергетический хвост. В то время ставка делалась на деревенских знахарей преклонного возраста, слава о которых передавалась из уст в уста.
Среди заговорщиков грыж типусы попадались презабавные. Помню дедка, который, после невнятного бормотания над Никитой-младенцем, пил чай и откровенничал:
– Женщина со мной живет. У нее рожа.
– Некрасивая? – уточняю.
– Рожа не на лице, а на ноге. Заболевание такое. Терпение у Дуси от моего характера кончится, она и уйдет, дверью хлопнет, а рожа тут как тут. Вспыхивает, нога язвами покрывается и боли отчаянные.
Про боли он говорит с изуверским удовольствием и хвастается:
– Только я заговорить могу!
Еще была старушка, которая потребовала для обряда заговора грыжи яйцо, которое курица снесла не позднее, чем два часа назад. Мы тогда жили в Ленинграде, в коммуналке (зато третий дом от Зимнего по Адмиралтейской набережной). Где, скажите, найти свежеснесенное яйцо? Но моя свекровь нашла. Если внукам что-то требуется у ядра земли, бабушка Алиса докопается до ядра.
Заговоры не помогли, операцию пришлось-таки делать, в девяносто процентов мы не попали.
В причине круглосуточного Никитиного крика мне признаться стыдно. Ситуация, когда науке веришь больше, чем здравому смыслу. Тогда была популярна теория одного академика от педиатрии, что все проблемы детей – в перекармливании. Районные и прочие доктора твердили: сто тридцать граммов еды за кормление! И ни каплей больше! Мы верили…
Сложность заключалась еще и в том, что у меня было мало молока. Не просто мало, а ничтожно. Редко завидую людям, чаще – радуюсь за них. Но к матерям, которые могли накормить собой, своим молоком, испытывала настоящую биологическую зависть. И пыталась исправить врожденные дефекты. Что со мной только ни делали! Массировали руками и ультразвуком, заставляли литрами пить жидкости, кололи гормоны. В результате, после гормонов, у меня потемнели волоски на ногах и под носом, а молока не прибавилось. Большое спасибо науке!
С ужасом вспоминаю моменты: Никита орет, извивается, мы с мамой качаем его, трясем, смотрим на часы: еще сорок минут до кормления. За двадцать минут все-таки не выдерживаем и даем младенцу рожок – строгие сто тридцать граммов, которые он засасывает мгновенно. Три секунды помолчал – и снова в крик.
Разрешилось все по ошибке. Я тогда училась на пятом курсе университета. Точнее сказать – числилась, на занятия, естественно, не ходила. Какие лекции или семинары, когда ребенок круглосуточно вопит! Руководитель диплома возмутился – полгода меня не видел! Передал через мужа пожелание наконец встретиться со мной. Я сгоняла в университет, отсутствовала два часа. Вернувшись, нахожу дома странную тишину и взволнованную маму.
– Что с Никитой?
– Кричит и кричит, – оправдывалась мама, – а пеленки в баке на плите кипят, убегают, соседские конфорки заливают… Словом, я нечаянно дважды его покормила. Дала из одной бутылочки, а потом забыла и снова из другой бутылочки покормила.
Я бросилась к детской кроватке. Никита счастливо спал. Взяв двойную норму, впервые за пять месяцев жизни наелся и отдыхал.
Стоит ли говорить, что в последующей жизни мы кормили детей со всем возможным изобилием? Сейчас, когда дылды – Никита и Митя – оказываются рядом с мамой и папой, которые тоже не хрупкие создания, нас спрашивают:
– Как вы вырастили таких богатырей?
Я, потупив взор, скромно отвечаю:
– Мы их кормили.
Чистая правда. Мои растущие сыновья были топками по переработке пищи, калорийной и сбалансированной настолько, насколько позволяли продукты из наших магазинов.
Когда, после эпохи дефицита, потом полнейшей бескормицы девяностых, проклюнулась эра изобилия, у меня еще долго оставался рефлекс: выбросили – хватай! Видишь замороженную селедку (странно, думала, только иваси в океанах остались) – хватай, засолить самой, подруги рассказывали, – объедение; зефир в шоколаде – беру; хвосты говяжьи (на холодец) – беру; сосиски, сардельки, сыр, колбаса (без разбора сортов и видов) – беру, на все имеющиеся деньги пробиваю в кассе. Однажды в магазине у метро «Красногвардейская» затоварилась – только в зубах сумки не несла. А с черного входа в магазин распродавали болгарский зеленый горошек. Вы помните? Банки по восемьсот граммов, крышки завинчивающиеся, потом для летнего консервирования отлично подходят. Горошек явно левый, иначе почему продают из двери подсобки и не ограничивают количество банок в одни руки? Но нам не до законности, когда можно продукты отхватить. Стоим мы с одной женщиной, точно как и я нагруженной под завязку, купить не можем – руки кончились, и уйти обидно – тут выбросили, а я прошляпила? Мы купили-таки запаянные в полиэтилен упаковки по восемь банок. И толкали их. Ногами. Зима, гололед, скользко, не так уж и тяжело, даже весело. На перекрестке возникла проблема. Футболить зеленый горошек по шоссе опасно. Что делать? Выкрутились, сообразили, определили последовательность действий: я сторожу, она переходит – бросает на той стороне улицы свою поклажу. Возвращается и берет мои покупки. Дожидается интервала в движении транспорта и перебегает дорогу. Теперь моя очередь переправить зеленый горошек. Сцена форсирования проезжей части советскими женщинами-добытчицами.
К моменту рождения второго ребенка, зная, что молока у меня не будет, я предусмотрела возможность покупки через детские молочные кухни донорского молока. До трех месяцев Митю кормили чужим грудным молоком. Далее не могли – денег катастрофически не хватало. В романе «Уравнение со всеми известными» я отчасти воспроизвела эту ситуацию. В книге описывается кормилица с неимоверно громадными молочными железами, сцеживающая молоко, которое пенится, точно из коровьего вымени выстреливает. При этом кормилица рассказывает, как зарабатывает на своем молоке: «Пальто зимнее купила, сервант мы справили, ребятишкам по мелочи, теперь на „Запорожец“ копим». В реальной жизни я никогда не видела женщину, выкормившую моего сыночка. Про ее заработки слышала от медсестры, которая и к нам приходила, и к ней. Меня тогда потрясла превратность бытия. С одной стороны – кормящая женщина – туповатая, недалекая, приземленная. Возможно, алчная и циничная. С другой стороны – мой сынуля, которого эта женщина кормила в крайне важный младенческий период. Мы получали ее молоко на детской кухне – уже в бутылочках, уже стерилизованное, платили в кассу. Незнакомка, благодаря которой Митя, возможно, выжил. Он заболел тяжелым бронхитом через неделю после того, как мы перестали покупать донорское грудное молоко.
Большая разница
Никогда не встречала родителей, которые утверждали бы, что характеры их детей схожи. Напротив, все говорят об обратном, даже родители близнецов. Мы находим общее в поведении, во внешности, в поступках с предками – мамами и отцами, бабушками и дедушками, но друг от друга братья или сестры, сестра от брата, брат от сестры отличаются заметно.
Отличия между Никитой и Митей стали проявляться с младенчества. Никита, как я говорила, орал благим матом с утра до вечера и с ночи до утра. А Митя спал. Ел и спал, практически не плакал. Мы перепугались не на шутку – что с ребенком? Особенно тревожно было ночью. Как я ни выматывалась за день, просыпалась среди ночи и расталкивала мужа:
– Он молчит. Почему он молчит? Вдруг умер? Подойди к нему, послушай, дышит ли.
Полусонный муж, в трусах и майке, не разлепляя глаз, брел к кроватке, склонялся, пытался уловить дыхание сына:
– Вроде дышит.
Лишь задремлем, осторожный стук в дверь. Мама.
– Что-то у вас тихо. С Митенькой все в порядке?
Так ночами и бегали проверять его дыхание. Педиатр, которой я пожаловалась на странно тихий нрав ребенка, устало сказала мне:
– На вас, мамаши, не угодить. Одна с ума сходит потому, что ребенок плачет, вторая – оттого, что молчит.
Врач не знала, что я первая и вторая в одном лице.
Наказание за плохое поведение в нашей семье оригинальностью не отличалось: «Марш в угол!» – и вся недолга.
Никита (от трех до семи лет) никогда не стоял в углу лицом к стенке, а только повернувшись в комнату. И через две минуты начинал возмущаться. Причем негодовал, подражая речи взрослых:
– Немедленно выпусти меня из угла! Я кому сказал? Сколько раз тебе нужно повторять? Быстро выпусти человека из угла! Тебе двадцать раз нужно повторять? Если ты сейчас же не выпустишь меня из угла, я буду разговаривать другим тоном!
– Это я буду разговаривать другим тоном, если ты не прекратишь молоть языком и не подумаешь над своим поведением, не попросишь прощения.
– Яподумалбольшенебудупростипожалуйста, – все в одно слово и с пулеметной скоростью.
– Говори медленно и четко. Что-то мне подсказывает, что ты не осознал, какой дурной поступок совершил.
– Это что-то тебе подсказывает неправильно.
– Иными словами, ты хочешь сказать, что бросать на прохожих картошку в окно – это забавное хорошее дело?
– Нет, я хочу сказать, что нехорошее дело ставить человека в угол. Я могу возгедовать.
– Чего-чего сделать?
– Возгандедовать.
– Воз-не-го-до-вать, – поправляю, по слогам говорю. – Повтори.
Никита повторяет правильное произношение, мысленно я радуюсь, что ему легко дается трудное слово, что он знает его значение, и не замечаю, что сыночек снова втянул меня в диспут, не имеющий отношения к проступку и неотвратимости наказания.
Когда Никита в конце концов просит прощения и обещает больше ничего не бросать на головы прохожих из окна, я ему не очень верю. Не исключено, что завтра с балкона полетит ящик с цветами, а Никита скажет, что ящик сам оторвался и упал. И наши объяснения: так можно убить человека! – вызовут только интерес. Совсем убить? Насмерть? И я увижу по-настоящему?
О, эти детские вопросы! Брат мужа, Павел, когда общался с племянниками, подкупал их: за полчаса без вопросов – конфета.
Митя мог подолгу стоять в углу. Повернувшись носом в стенку, стоит и стоит, десять, двадцать минут… Я чувствую себя цербером, когда говорю:
– Ты что там пальцем ковыряешь? Не порти обои.
Или:
– Почему ты присел? В углу стоят. Может, тебе еще и стульчик принести?
– Принеси, пожалуйста!
– Митя, это переходит все границы! Ты понимаешь, что тебя наказали?
– Понимаю.
– Ты понимаешь, что нельзя играть с документами? Нельзя трогать коробку, где лежат наши дипломы, свидетельства о рождении и прочее?
– Нет, не понимаю. Я даже не успел ничего в них нарисовать.
– Слава богу! Митя, документы – это очень важные бумаги…
В двадцатый раз я втолковываю, что испорченные документы могут осложнить жизнь, привожу примеры, но детская логика младшего сына не в состоянии увязать простые бумажки с серьезными проблемами.
Митя и сейчас не доверяет утверждениям, в которых нет логики или которые не подкреплены солидными научными доказательствами. Когда в октябре синоптики говорят, что зима будет суровой, Митя недоверчиво усмехается. Достоверность прогноза на неделю равна десяти процентам, на пять дней – пятнадцати, даже на сутки – всего тридцать процентов вероятности. Научного аппарата, способного предсказать погоду на несколько месяцев вперед, попросту не существует.
Между тем время обеда, а Митя по-прежнему стоит в углу. Потом для него отдельно разогревать? Кроме того, мне отчаянно жалко этого упрямца, у которого ноги подгибаются, а он не хочет просить прощения и осознавать свою вину.
Захожу с другой стороны. Метод, возможно, отдает педагогическим бессилием, но терпение мое на исходе.
– Митя, я хочу с тобой поговорить.
– Да.
– Повернись лицом, когда мама с тобой разговаривает. Митя, я хочу, чтобы ты просто поверил мне на слово – с документами играть нельзя. Поверь мне, потому что я твоя мама и зла нашей семье не желаю. Ведь не желаю?
– Конечно нет.
– Значит, ты даешь слово никогда больше не трогать коробку с важными документами? Митя, пожалуйста!
– Ладно.
– Вот и славно. Иди обедать.
Документы я, конечно, прячу в недоступное для детей место. Что следовало сделать раньше.
Если Митя дал слово, можно быть уверенным, что он его не нарушит. Если Никита что-то пообещал – это еще ничего не значит. У Никиты найдется десяток аргументов в пользу нарушения обещания. Не случайно из него вышел успешный юрист. Последнее утверждение – не более чем шутка, игра словами. И у Мити случалось в жизни, когда он наступал на горло своей правдивости, и Никита в профессиональных делах скрупулезно точен. Но о том, как мы ставим штампы детям, я поговорю позже.
Когда дети болеют, сердца родителей превращаются в воск. Лежит твой малыш с температурой под сорок, беспомощный, кашляющий, вялый, задыхающийся – и ты сама умираешь от щемящей жалости, от желания помочь крохе. У меня имелся непогрешимый показатель того, что кто-то из сыновей заболел, – они оставляли на тарелке еду или вовсе отказывались принимать пищу. Если Митя или Никита не хотят лопать – значит, заболели. Еще первых симптомов не наблюдалось, но я звонила на работу и говорила, что с завтрашнего дня на больничном. Ни разу не промахнулась. Три дня, острый период, я – с малышом, даже маме не могла доверить, а потом уж она сама справлялась. Дети болеют часто, и работник, который постоянно отсутствует на службе, никому не нужен, как бы прекрасно он ни трудился.
Никита во время болезни становился ласковым и ластящимся котенком, которого надо держать на руках, баюкать, кормить с ложечки, постоянно при нем находиться и всячески лелеять. Заболевший Митя превращался в колючего ёжика, просил выйти из комнаты и оставить его в покое. Терпел необходимые процедуры, вроде принятия лекарств, банок или горчичников, а потом отворачивался к стенке и не реагировал ни на какие сюсюканья, они его раздражали.
Замечу, что точно так же вела себя во время болезни мама, и я, хворая, терпеть не могу навязчивого внимания. Мы так злы на болезнь, на беспомощность, что едва сдерживаем рычание: «Надо будет, позову. Хватит меня спрашивать, как себя чувствую и что принести. Дайте выздороветь или умереть спокойно». Болезнь для нас – нечто крайне унизительное, с чем надо сражаться в одиночестве, внутри себя, а не на публике. Хотя я знаю очень много достойных людей, которые болеют театрально. Мой муж к этому типу людей не относится. Да и больничный он брал, кажется, не более трех раз. Но мне навсегда за помнились единственные слезы Жени, которые за тридцать два года совместной жизни я видела.
Прихожу домой, Женя лежит на диване, смотрит телевизор. На экране Людмила Зыкина поет: «Течет река Волга, а мне семнадцать лет…», по лицу мужа текут слезы! Я остолбенела. Женя! Критичный и жесткий, ироничный и подчас излишне суровый, человек, у которого под маской цивилизованной деликатности прячутся первобытные мужские качества, которого стреляй, но не поступится своими принципами, щедрый до безумия, но непримиримый к фальши. И он плачет?! Над старой песней?
Я несколько минут хлопала глазами, а потом нашла ответ: муж заболел.
– Да у тебя, наверное, температура! – воскликнула я и бросилась за градусником.
Не ошиблась. Температура тридцать девять и девять, жесточайший грипп. Во время болезни мой муж был тих и трогательно слаб, покорен и умилен – совершенно другой человек. Когда на четвертый или пятый день болезни он спросил: «Трудно было догадаться купить мне свежие газеты?» – я поняла, что муж выздоравливает.
Деление людей на «сов» и «жаворонков» мне всегда казалось выдумкой лентяев, поводом отлынивать от утренних или вечерних обязанностей. Ведь если требуется, и ночь не поспишь, и встанешь ни свет ни заря. Но Никита был и остается не просто «совой», а королем всех «сов». Никогда не разговаривайте с Никитой о серьезных проблемах утром, ни о чем не просите – говорю я родным. Не просто бесполезно, а вредно: Никита будет огрызаться, нагрубит, испортит вам настроение на весь день. А вечером придет – душка душкой, готовый на любые самопожертвования. Еще и букет цветов в покаяние принесет. К двум часам ночи его активность достигнет апогея – хоть вагоны разгружать, хоть диссертацию писать. Потом он с трудом угомонится, чтобы утром сползти с кровати в полукоматозном состоянии, злым на весь мир и особенно – на проклятые будильники. Насколько серьезна его «совность», я поняла, когда едва не случилась беда.
Никите лет десять. Утро, собираемся в школу. Никиту разбудили, подняли, заставили одеться и умыться – все с постоянными понуканиями. Я поставила перед ним тарелку с завтраком, дала вилку. Хорошо, что не отлучилась, вовремя заметила. Сидит он за столом, держит вилку вертикально – рукоятка упирается в стол, зубья кверху. И засыпает, и склоняет голову: глазом опускается точно на зубья вилки. Я подскочила, выхватила вилку, от испуга заорала:
– Проснись немедленно!
Но в нашей жизни был период, когда Никита поразительным образом избавился от утренней сонливости. В народе этот период называют жениховство. Никита и Аня не могли расстаться до рассвета. Анины родители смилостивились: пусть Никита у них ночует. Однако Никита держал марку: в шесть утра уезжал от невесты, мчался домой, принимал душ, переодевался в свежую одежду. Я все заранее готовила, в том числе и громадный бутерброд, и чашку крепчайшего кофе.
Счастливый влюбленный, дожевывая бутерброд, допивая кофе, вылетал из дома, а я говорила мужу:
– Может, когда хочет, когда припечет по-настоящему. Всякую «сову» любовь сделает «жаворонком». Если, конечно, это настоящая любовь.
– Конечно, это настоящая любовь!
И муж показывал пальцем на путь следования Никиты: носки, рубашка, галстук, майка – все быстро скинутое валяется на полу поочередно. В ванной – словно безумный, но чистоплотный вандал побывал.
– Ты бы намекнула Анечке, – советовал муж, – мол, это у него временное отклонение, чтобы не обольщалась.
– Как ты можешь страстную любовь называть отклонением?
– У тебя есть другие определения? Мы хорошо знаем Никиту. Кто обязан за ним убирать?
Кто-кто – конечно я. Занавоженные конюшни чистила бы, не разгибаясь, только бы увидеть, как мой сын не в луже мелких влюбленностей плещется, а плавает в океане настоящей любви. Дождалась – увидела.
Сегодня Аня лучше меня знает, каково с Никитой по утрам. Бедная девочка. Мне досталось его детство и юность, а ей – половозрелый несносный по утрам мужчина.
У Мити с рождения совиная или жаворонковская особенность отсутствовала. Он спал и бодрствовал в положенное, отведенное режимом время. Потом, в юности, перешел на молодежный график, когда ночью куролесят, а днем отсыпаются. Но Митя-ребенок никаких проблем с засыпаниями и просыпаниями не доставлял. Правда, когда научился читать, прятался с фонариком и книжкой под одеялом. Я караулила, подкрадывалась, откидывала одеяло, забирала «контрабанду» и говорила, что глаза испортит.
Глаза у всех испорченные – у мужа, у меня, у детей. Обладая от природы отличным зрением, мы ходим в очках. Близорукость слабая – минус полтора-два, ее называют школьной близорукостью. Следствие любви к чтению. Малая жертва за большое удовольствие.
Офтальмолог, выписывая очки моим детям, сказала:
– Хорошо, наверное, учатся. Двоечникам таких очков не прописываем.
И тяжело вздохнула. А я мгновенно придумала сюжет: у офтальмолога есть ребенок – мальчик, который плохо учится и не любит читать. На работе врач постоянно сталкивается с детьми, которые свое замечательное зрение испортили чтением или занятиями с мелкими предметами, вроде вышивания у девочек или автомоделирования у мальчиков. Доктор переживает смятение чувств…
Сюжет обрывается, мне нужно найти «Оптику», где продается детская оправа не чудовищного старушечьего дизайна.
Такие сюжеты вспыхивали в моей голове постоянно. Вспыхивали и гасли, забывались. До написания книг, в которое и не верилось, оставалось много лет. Требовалось не фантазировать, а разобраться: способна новомодная гимнастика для глаз восстановить детям зрение и насколько стремительна приобретенная близорукость? Книги – подождут. Дети ждать не могут.
Сама я надела на нос очки почти случайно. В десятом классе – какой-то профилактический осмотр, диспансеризация. Нас сняли с уроков, привезли в поликлинику, прогоняют по врачам-специалистам. Впечатление – для «галочки». Разделся, оделся, перед носом молоточком поводили, по коленке постучали, фонендоскоп доктор к моей груди приставила, а сама с медсестрой разговаривает.
По вредности характера и устав бездушной заводной куклой из кабинета в кабинет перебегать, я офтальмологу говорю:
– Зрение у меня прекрасное. Но как-то в кинотеатре взяла очки у приятеля, примерила. Фантастично! Потом в театре, к нам приезжала киевская труппа, вы не ходили? Тоже попробовала через чужие очки на сцену смотреть. Бинокль отдыхает. Но зрение у меня хорошее.
– Киевскую труппу обсуждать не будем, – сказала доктор. – А если ты в очках видишь лучше, чем без них, зрение у тебя плохое.
Она мне выписала очки, но я их не носила, потому что в моей родной Кадиевке найти стильную оправу было немыслимо. Только в Ленинграде, поступив в университет, я у спекулянтов достала то, что без потери для имиджа, а скорее для его улучшения, можно было нацепить на нос. Мир преобразился. Не в лучшую сторону. Одно дело – кино и театр, там просто на резкость наводится, лица актеров и декорации не расплываются. Но в жизни! Особенно женщины удручали: у них волосики на икрах ног и морщины на лицах! Со свойственной мне тогда снобистской лихостью я говорила приятелям, что для полной визуальной гармонии между мужчинами и женщинами надо запретить очки.
Вечная тема: отношения мужчин и женщин. И самое большое отличие в детстве между моими сыновьями, больших тревог и нервов мне стоившее.
Представьте, что у вас шестилетний ребенок, которого вы ведете из детского сада. Ваша голова забита бытовыми и служебными проблемами. Что там Никита лопочет? Прислушиваюсь.
– …ты чувствуешь, какие женщины?
– Извини! Повтори, что ты спросил, – прошу я.
– Почему от женщин всегда приятно пахнет? Ты чувствуешь, какие они?
– Естественно. Пахнет, потому что женщины пользуются духами, им нравится, когда от них исходит приятный запах. Женщины как цветочки, – неосторожно добавляю я.
– Мужчины тогда кто? Пчелки?
– Не совсем так, Никитушка. Разве тебе хотелось быть насекомым? Летать, жужжать, и каждый мог бы тебя прихлопнуть легким движением кисти?