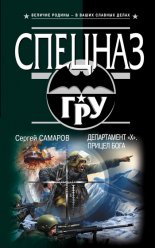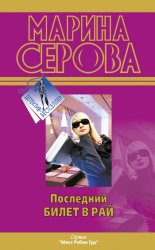Священная война (сборник) Андронати Ирина
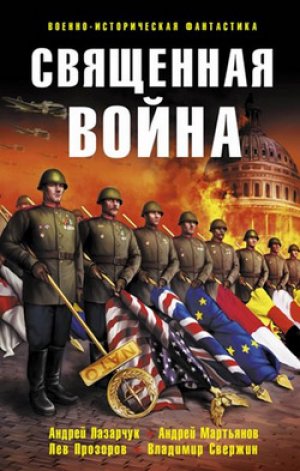
Владислав Гончаров
Зеркало для империи (вместо предисловия)
«Человек рождается без зеркала в руках и узнает себя, глядясь, как в зеркало, в другого человека», – сказал великий немецкий философ. Но страна, народ – как человек; чтобы понять свой смысл, им тоже надо отыскать свое зеркало в другом.
Когда-то для России таким зеркалом была Германия, затем – Англия, а едва ли не с позапрошлого века им служит Америка, Северо-Американские Соединенные Штаты. Даже осуждая или отвергая американские ценности, мы всегда ориентируемся на них. Как говорил министр в поэме А. К. Толстого «Сон Попова»:
- Искать себе не будем идеала
- И основных общественных начал
- В Америке – Америка отстала,
- Там собственность царит и капитал.
И в то же время именно Америка долгое время была (не только для России) символом и олицетворением свободы. «Одно лишь слово, и вы – матрос; море ничье, мир огромен, команда надежна! а Штаты Северо-Американские конституционеров не выдают…» (Лев Вершинин, «Первый год Республики»).
Более того, мнилось, что России для достижения успеха надо всего лишь стать такой, как Америка. Если же Америка может быть только одна – значит, надо превратиться в нее. Как в притче Андрея Лазарчука и Ирины Андронати, «Заяц белый, куда бегал?..»
«А вообще – решили разворачивать здесь, на Гаваях, в Жемчужной Бухте, агромадную базу, поболее Артура. И флот будет стоять, и мы, дальняя авиация. Про новые «Лебеди» Сикорского слыхали?»
Главный же враг был совсем другой. Еще один отблеск зеркала – и вот в повести Александра Тюрина «Вологда-1612» мы видим, как орды «европейцев» предают огню и мечу этот древний русский город, ляхи грабят алтари, черкасы волокут пленников, британец подсчитывает барыш, а агенты Святой Инквизиции рыщут в поисках тайного знания. И все это, естественно, не без красивых слов. «I have right to call my barrister, – без боязни сказал долговязый чужеземец и добавил, сильно коверкая слова. – Ктоу с миачом к уам придьет, от миача и погибнет. Я пришьел со свободой».
Однако же причудливо тасуется колода. Небольшой поворот зеркала, маленький сдвиг реальности – и те же самые события приводят к совершенно иному исходу. «Сама она десять лет назад взволнованно читала в газетах о подвигах российских летчиков-добровольцев, заставивших надменных бриттов, позабыв спесь, облачиться из ярко-красных мундиров в грязно-бурое хаки. Да устоял ли б без них Трансвааль? Не назывался ли бы теперь Киптштадт каким-нибудь Кейптауном?» (Лев Прозоров, «Первый император»).
Но ведь были времена, когда Америка и Россия являлись геополитическими союзниками, когда американский адмирал Джон Пол Джонс служил в русском флоте, а блестящий гвардейский полковник Иван Васильевич Турчанинов совершал подвиги на полях сражений междоусобной войны Севера с Югом.
Однако игра на мировой шахматной доске жестока, не победишь ты – победят тебя. А у Истории пощады просить бесполезно. «Победа конфедератов была предопределена. Здесь сказалась высокая идейная сплоченность южан и значительно лучшая военная подготовка, а также – бесперебойное снабжение, организованное Англией и Францией… После убедительной победы южан Англия получила широкий доступ к американским заводам, материальным ресурсам и рынкам сбыта». (Владимир Свержин, «Образ гордой дамы»).
Если мы не хотим оказаться такой Америкой – нам надо быть сильными.
- Подумайте, граф, толково:
- Отступишь всего на шаг —
- И станет русское слово
- Бессильной грудой бумаг.
- Осыпется слава пылью,
- Держава сгорит в огне.
- И Ригу сдадим, и Вильно,
- И Ревель уйдет чухне!
- Кайсаки линию спалят,
- Чеченцы Тифлис займут.
- Европа, впрочем, похвалит.
- Британцы, впрочем, поймут…[1]
Но нужна ли нам такая история и такое будущее – в котором Россия становится центром цивилизации, распространяя свою культуру и свое могущество, политическое и экономическое, на все остальные континенты?
Россия, российская культура всегда была «литературоцентрична». Литература, художественный образ и художественное слово, всегда играли в нашей жизни и нашем мировосприятии решающую роль. Возможно, это мешало нам по-настоящему уметь делать дело, поэтому мы всегда мечтали, чтобы наше слово – любимое, лелеемое слово – наконец-то превратилось в дело!
Но если это случится – останемся ли мы самими собой? Нужен ли нам мир, в котором Пушкин перестал быть поэтом и стал Джорджем Вашингтоном, как в притче Андрея Лазарчука и Ирины Андронати:
«Наверное, какие-то негодяи мутят ваш бедный разум. «Пушкин – нет! Китс – да!» Надо же до такого додуматься! Чем был бы наш мир без Пушкина?..»
Хотелось бы нам жить в таком мире?
Ирина Андронати, Андрей Лазарчук
Заяц белый, куда бегал…
– Елдыть тя, – горестно покачал головой Пафнутий Губин.
Зима, считай, только началась, а зайцев по лесам-долам было всего ничего, да и те тощие, быдлястые, что твоя саранча. Он вынул зверька из петли, бросил в торбу. Покряхтел, наново застораживая силок, потом выпрямился и побежал дальше. Морозец хватал за щеки. Издали, от дороги, несся перезвон поддужного колокольца. Тоись, барин, с досадой подумал Пафнутий. Не к добру, ох, не к добру…
* * *
Пушкин прижимался горячим лбом к ледяному стеклу. Под полозьями возка повизгивал убитый до льда лежалый снег, возок покидывало в стороны – кони бежали резво. В груди стыло отчаяние. Ещу никогда ему не было так томно и так безнадежно грустно. Крикнуть сейчас Ивану: эй, поворачивай! – да где там…
В слабом свете иззябшей луны проплыл мимо тихий призрак мужика в тулупчике и заячьей шапке. Завтра бы, подумал Пушкин. Завтра бы с ружьишком, с Разорваем и Покатаем, на лыжах, хрусткий наст, хрусткий воздух, а после… Добытых зайцев отдать дворне, пусть радуются и благодарят.
Он отслонился от стекла и тихо задумался. Потом представил глаза Рылеева. И Кюхли. Они ничего плохого не скажут, но как они будут на него смотреть…
Как на зайца.
Пушкин поправил полость, уселся поудобнее, протер успевшее подернуться узором стекло. Великие дела лежали впереди.
* * *
Две картечины так и застряли у него в бедре немного выше колена, он так и хромал до конца жизни, и когда его, совсем уже бессильного, старшие внуки выносили в носилках к океану, Пушкин долго молча слушал рокот огромных волн, всматривался в фиолетово-зеленые тучи у западного горизонта и чуть слышно что-то шептал.
* * *
– …а потом поднялся дедушка. Сам стоять не мог, его держали под руки. И начал говорить. Царь сначала и слушать не хотел, но дедушку разве уймешь! Да и любил его царь, только недоумен был сильно и всу повторял: «Саша, Саша, как же ты мог?» А потом вообще заплакал и сказал: «Есть у меня земля за Сибирью, за морем, отправляйтесь туда и творите что вздумается, хоть по Руссо, хоть по Дидро, только отчеты присылайте и подати платите». И посадили наших на корабли…
* * *
– Правей, правей наводи! – кричал так, что и сквозь канонаду широко разносилось, босой артиллерийский поручик. – Вон она, за сикоморой! Да куда ты смотришь!..
Он оттолкнул канонира и, схватив орудие за хобот, одним движением развернул.
– Пали!
Пушка выпалила; бомба взорвала черный фонтан земли и дыма.
– Не по нраву каша! – захохотал поручик. – Ишь, забегали, чертовы янки…
– Кто таков? – спросил Нахимов майора Панина.
– Граф Толстой, ваше сиятельство. Воюет – отважно!
– А почему не по форме одет?
– Отдыхал, а тут вылазка…
– Толстой, вы сказали? Это не тот, что «Очерки форта Росс» в «Отечественных записках» пропечатывает?
– Он самый.
– После дела, Павел Васильевич, направьте-ка его ко мне в штаб…
* * *
Скобелев придержал кобылу. Ехавший стремя в стремя с ним атаман Белый Башлык вынул из рта длинную трубку и чубуком показал на приближающихся всадников.
– Испано, – коротко сказал он.
Наконец-то, подумал Скобелев. С испанцами он планировал соединиться ещу неделю назад, но те застряли на переправах через плевую речушку Рио-Гранде (дикси сопротивлялись отчаянно), а с наличными малыми силами – двумя дивизиями стрелков да двумя же казачьими индейскими полками – выступать против старика Ли ни к чему, только людей положишь без пользы.
Он посмотрел на атамана. Семьдесят лет атаману – а по лицу и не скажешь: что из мореного ясеня вырезано, горбатый нос и тонкие неподвижные губы. Глаза, как у орла. И только волосы белые – такие же, как перья на голове. И как вершины гор позади…
Всадники приближались. Теперь и сам Скобелев видел усталые обветренные лица, повязки на лбах, пыльные плюмажи на шляпах. Но всадники сидели гордо и прямо. В них сквозила уверенность и победа.
– Ну вот, – Скобелев похлопал кобылу по шее. – Считай, Доротея, что мы уже в Канзасе…
* * *
По случаю скорого, чуть ли не завтра, приезда цесаревича Николая Александровича полы в трактире «Пузатый Гризли» были не только подметены, но и натерты воском, а окна чисто вымыты. Братья взяли столик у окна, заказали щи из бизоньей лопатки, запеченного шеда, пирог с брусникой – и большую бутылку красного калифорнийского от Голицына. Из окна видна была станция, памятник графу Резанову, хвост строительного поезда. Рабочие в оленьих дохах сидели у вагона, пили что-то из котла, зачерпывая кружками.
– А я, брат, женюсь, – сказал старший, задумчиво глядя куда-то в угол. – Вот замкнем стык, первые поезда пропустим, возьму я отпуск месяца на два – а компания-то мне полгода должна, все упирались, куда мы без вас, Александр Ильич! – нет, шалишь, хватит. Только маме пока не говори, я сам. О-кей? – он улыбнулся, сильно показав зубы. – Похож я становлюсь на янки?
– До отвращения. Кто она?
– Ты не поверишь. Француженка, из Парижа. Вдова одного нашего управляющего… да я тебе, кажется, рассказывал?
– Нет, – покачал головой младший. – Ну, еще расскажешь. Весь день впереди. А у меня тоже новость. Надумал я со службы уходить…
– Да ты что?
– Да, так вот. Хочу вкусить вольные хлеба.
– Это то, о чем я думаю? Клондайк?
Младший сдержанно кивнул. Потом заговорил, горячась:
– Я ведь, Саша, думал: служить закону – значит, служить людям! Ан нет! Тебя нанимают, чтобы ты выгораживал негодяя, может быть, даже убийцу. И ты знаешь прекрасно, что он негодяй, но все равно выгораживаешь, потому что так принято, так положено! А!.. – он налил вина себе, налил брату, поднял бокал. – И не вздумай меня отговаривать!
– Да я и не собираюсь… – старший смотрел на него, наклонив голову, улыбался. – Эх, Володька. Люблю я тебя!..
* * *
– Пап! Ты меня слышишь? Какие-то помехи на линии! Я тебе из Вены звоню! Помнишь давешний разговор про художников для проекта Владизапада – столицу переносить? Так вот, я их, похоже, нашел! Тут их целая колония! Молодые, сумасшедшие и гениальные! Города будущего рисуют! Там с ними Татлин сейчас – они друг от друга в восторге! Я соберу эскизы, привезу! Особенно один парень – Шпеер его фамилия, запомни! Он нам в самый раз будет, вот увидишь!
* * *
– Чкалов! Валерий Палыч! Господин полковник!
Голос показался знаком. Чкалов остановился, оглянулся. Его догонял, размахивая палкой, сухонький старичок в светлом полотняном костюме и сандалиях на босу ногу.
– Вот не чаял встретить!.. Какими судьбами в наших широтах?
Чкалов вглядывался и не узнавал. Потом щелкнуло.
– Сергей Исаевич!?. Не может быть!
– Может, Валера! Еще как может!
Чкалов выпрямился, щелкнул каблуками, бросил руку к фуражке.
– Господин инструктор, курсант Чкалов к выполнению задания готов!
– А я в тебе никогда и не сомневался…
Уточкин был ему по плечо; сейчас, остановившись резко, Сергей Исаевич не мог отдышаться. Чкалов подхватил старого учителя под руку, повел. Они сели на скамейку под навесом – оказалось, это кафетерия. Им тут же подкатили столик с лимонадами и пирожными. Чкалов спросил коньяку – принесли коньяк.
– …мне доктора прописали теплый климат, я и подумал – теплее, чем здесь, уже не найти. Собрал чемоданишко – на пакетбот – и сюда. И вот уже живу лишних – сколько? – лет двадцать. Благодать. А ты-то, ты-то?
– Ну, про то, что в газетах прописано, умалчиваю, – махнул рукой Чкалов. – А вообще – решили разворачивать здесь, на Гаваях, в Жемчужной Бухте, агромадную базу, поболее Артура. И флот будет стоять, и мы, дальняя авиация. Про новые «Лебеди» Сикорского слыхали?
– Шестимоторные?
– Они самые. Ох, хороши! На что я истребители люблю, но от «Лебедей» в полном восторге – просто поют в небе… Весь Тихий океан наш будет.
– Это да…
Уточкин смотрел куда-то вдаль, в далекое небо, почти не слыша собеседника. Потом спросил:
– Ты же здесь с аэропланом небось?
– Конечно.
– Прокати меня…
* * *
Пузырек с чернилами ударился о стекло, разбился. Образовалась черная клякса в виде треухого зайца. Стекло, конечно, выдержало…
Посол Вознесенский подошул к окну. Толпа уже поредела, и некоторые самые срамные лозунги исчезли. Полицейские в широкополых шляпах лениво оттесняли студентов от ограды.
Студентов можно понять – кому охота изучать на иностранном языке целые дисциплины? Но департамент образования действует в их же интересах – потому что куда потом из всех этих Гарвардов да Принстонов выпускники стремятся? Правильно, на Запад. А на Западе говорят по-русски. И вам, ребята, без свободного владения языком – труба. Но поймете вы это уже потом… а сейчас, наверное, какие-то негодяи мутят ваш бедный разум. «Пушкин – нет! Китс – да!» Надо же до такого додуматься! Чем был бы наш мир без Пушкина?..
Он вернулся за стол, вздохнул, открыл блокнот. Надо было писать докладную записку в МИД, но рука сама вывела: «Вместо флейты поднимем фляги…»
Александр Тюрин
Вологда-1612
«22 сентября, за час до восхождения солнца, разорители православной веры пришли на Вологду безвестно изгоном, город взяли, людей всяких повысекли, церкви Божии поругали, город и посады выжгли до основания».
Вологодский архиепископ Сильвестр о взятии Вологды польско-литовскими отрядами в 1612 году (СМ. Соловьев «История России с древнейших времен», том 8)
1
Четырехликий не появлял себя ночью. Токмо случался быть при свете солнца, как и в день, что предшествовал погибели вологодской.
Максим колол дрова, а Четырехликий держался у ельника, позади.
Не впервые было его явление и никогда еще вреда не наносило.
Не имел Четырехликий формы человеческой или звериной, напоминая отблески солнечных лучей на снежинках ино сосульках. А если приглядеться, то был схож с теми созданиями ангельскими, коих описывал Иезекииль-пророк. Семь или девять окружностей, из них четыре суть подобия ликов человеческих, но с чертами неясными. Остальные как колеса. И было невнятно, Четырехликий существо единое или же целый сонм чудных тварей.
Когда Максим приносил добычу от промысла лесного, белку или птицу со свернутой головой, Четырехликий, казалось, приближался немного и яснел.
А в те часы, что являлся Четырехликий, начиналось слышаться Максиму, как звенит сам воздух, коим дышишь, словно тот состоит из незримых глазу колокольцев. Из звона рождался Голос. Доносился оный из-под кровли, из-за печки и из кадки, и казалось, говорил на иных дивьих языках. А от Голоса занималось Дрожание, из-за чего весь нехитрый скарб в избенке трепетал трепетанием мелким. Бывало, что и лучина выпадала из светца, а вода в кадушке покрывалась зыбью. Случалось и Касание, словно притрагивались к коже пузыри мыльные. Иногда чудилось приближение теплой, будто женской, руки к его шее ино щеке. Поскольку обладало такое Касание приятностью, то Максим страшился дьявольского соблазна.
Однако не торопился Максим изгнать Четырехликого молитвой громкой или крестным знамением. Нечистый он дух или же ангел небесный – это мирскому человеку не ведомо.
Если нечистый, то запросто осатанеет и лютовать начнет. А бороться с бесом лютым только старцу божьему по силам. Келья же Савватия-инока в какой-то сотне шагов отсюда.
Когда вечерело, то будто бы удалялся Четырехликий к жилью старца…
В ночь, что предшествовала погибели вологодской, Максим изрядно замочил бороду в хмельной бузе – той, что снабдили его проезжие молодцы на прошедшей седмице. Верно, перепутали с послушником старца Савватия, а Максим отказываться не стал. Келья-то Савватиева стояла выше по склону холма и толико зимой была приметна с лесной тропы – по струйке дыма…
Но сон все равно бесспокойный выдался Максиму. Снилось давнее ратоборство против свейских немцев у Наровы, когда нашим воинством начальствовал князь славный Димитрий Хворостинин. Как из дыма пищального вышел воин чужой, огромный, будто валун, с мечом двуручным в руках. Идет немчур, людей словно траву косит. И во сне Максим понял, что не быть ему больше в живых – бежать позорно, а остаться гибельно.
Вот вздымается немцев меч и опускается, неотвратимо, как орудие казни. И ломает клинок Максимов, словно хворостину.
Во сне боль не почуялась, однако земля ударила в лицо сырой мглой. И запах земляной ощутился. И гнилость досок гробовых. Холодная земля вползала в гроб, как змей, набивалась в рот, в нос, душила, страшила.
Максим напрягся в усилии великом и… да и проснулся.
И даже лежа на лавке, ясно было, что зима пожаловала. Годы все последние приходили морозы еще до Астафия,[2] и только в этом году дали осени еще неделю. Сподручно оказалось, что ставни на ночь запахнул, однако ж плохо, что неплотно. Холод оглаживал изнежившиеся за лето щеки, и изморозь посверкивала на краю меховой ветоши, коей накрывался Максим – там, где на нее падало его дыхание. Наверное, удушье и прочая дрянь оттого снились, что ветошь набивалась ему в рот…
Вода в кадке у дверей закрылась ледяной коркой, пришлось двинуть ее ковшиком, прежде чем испить. Краюха хлеба вовсе закоченела и на вкус одна мерзлая трава чувствовалась. Там и взаправду хлеба меньше, чем отрубей, лебеды и мякины. В теплое время такой едой можно еще чрево набить, а в студеное – поистратишь остатнюю силу, чтобы ее переварить. Надобно сегодня ловушки расставить, может, какая птица недогадливая попадется на обед.
А дверь не сразу и отворилась, потому как снег обильно примело к порогу. С натужным скрежетом древних петель Максим вышел вон.
Небо было близким и грузным, как «воды небесные». Отчего и тяжесть на лице чувствовалась. Верхушки вековых елей, того и гляди, проткнут одутловатые низкие облака. А над кельей старца почему-то дымка не видно, хотя Савватий, не в пример другим инокам, уважал тепло, а кутаться не любил.
Максим набрал из поленницы дров и стал подниматься к Савватию по склону. Снег не казался студеным, однако наст при каждом шаге корябал босую ступню, за лето привыкшую к травке и мху.
Около иноковой двери замер Максим. Как преставился Савватиев послушник, отравившись нечаянно грибным ядом – а в сухое холодное лето и грибы извратились, – приходилось нередко пособлять старцу. Отчего ж не порадеть божьему человеку? Но был божий человек изрядно сварлив, неучтив и не шибко гостей привечал. Имел Савватий обыкновение стучать в дверь Максиму своим посохом – не без грохота – и молвить одно, редко два приказных слова, не расщедриваясь на большее. «Дров», «Малинки красной», «Грибов подберезовых». Иногда просто ограничивался окриком «Эй» или «Ну».
С той поры, как в почти вымершем ските не стало общих полуночных служб и литургий, Савватий с прилежным громогласием читал ночами канон в своей келье. Закончив, обходил свою постройку, постукивая деревянным молотком по доске-таланте, чтобы бесов шугать. Отчего думалось Максиму, что Четырехликий к Савватию-то наведывается. Уж старец нечистой силе спуска не даст.
Уделив совсем немного времени сну, пел старец заутреню срывающимся высоким голосом, переходя то и дело на греческий.
Отдыхает ли сейчас Савватий после ночной арены[3] или вдруг занедужил и изнемог от лихорадки?
Максим постучал в дверь кельи. «Эй, старче, не надобно ли тебе вспоможения какого?» Повременил. Не дождавшись ответа, распахнул дверь.
Не было старца в келье. Но ведь и никакого следа вокруг. А снег, судя по ровному насту, после ночи не шел вовсе. Куда ж мог подеваться старец темной порой, егда только зверю бродить пристало?
Максим, закрыв дверь, положил дрова у порога кельи. Хотел было повернуть прочь – ноги-то уже замерзать стали, но почувствовал Касание. Сейчас оное не нежило его маслянистыми потрагиваниями, а подталкивало войти внутрь.
Под скрип двери и половиц Максим вступил в жилище инока. Миновав крохотные сени, заглянул в малую клеть. Оказавшись посреди пустой кельи, посмотрел вверх. Гнилые доски кровли выломаны были, и на краях их острых виднелась запекшаяся кровь. Такоже на стропилах и на полу. Одна половица сдвинута была, Максим приподнял ее – топор лежал под скутом нетронутый. Посох же старцев стоял у двери.
Никуда не ушел Савватий. Враг ворвался в келью инока сверху, нежданно и безвестно, изранил ино умертвил старца, затем вытащил бессильное тело через крышу.
Максиму сделалось зябко. Не только ногам и тулову, но и внутри пробрало. В подложечье холодная сосущая пустота сполна открылась.
Немедля бежать в монастырь! Это ведь не тать лесной сгубил Савватия. Не медведь, не волк. Велик бысть враг, явившийся мглой полуночной к старцу. Велик и летуч. Знать, не убоялся адский гость ни креста, ни крестного знамения. Задул крылом нетопыриным свечу и уволок старческое тело в ночь на растерзание.
Максим, приняв в руку Савватиев посох из твердого южного дерева, оставил келью, и, безотчетливо подгоняя себя, стал резво спускаться по склону. Пока добирался до тропы, небеса утратили тяжесть свинцовую, потончали, залазурились, а там уже солнышко заиграло на снежных шапках, нахлобученных на верхушки елей и красноперые ветки рябины.
Савватий принял смерть на своей «арене», бренное тело не спас, но за истину постоял и божий свет в душе оборонил. И что, в самом деле в монастырь торопиться? Туда, по снегу, едва ли за полдня добредешь, да пока еще лодку отыщешь, чтобы через Вологду переправиться. А вдруг ледостав? Аще одолела Савватия темная сила, то навряд пара послушников, присланных игуменом, вернет старца из объятий ада.
А случиться может и так, что послушники ражие возьмут самого Максима, отволокут в глубокий монастырский подвал с дверями дубовыми, под замок железный посадят. Опосле приедет строгий дьяк от воеводы, да дворские и целовальники от волости.[4] Что порешат мужики на суде, удобрятся или ожесточатся – одному Господу ведомо. Так ведь и на плаху недолго загреметь.
Сам погиб Савватий, своим произволением на поединок с адскими силами выступя. А коль темные силы уволокли его в преисподнюю, то не так уж и крепок был старец в вере. Ибо тьма сильна только слабостью света. Или же бысть Савватий крепок в вере, потому и вызвал на борение адские силы, но не сумел устоять перед бесовской стаей и погиб с честью. Тело его бесами разорвано, но душа сподобилась вечности.
Обдумав это, Максим заметил, как заполнилась теплом дотоле томящая пустота в подложечье.
Но и ждать, пока кто из монастыря пожалует, нераузмно тоже. Надо самому на архиерейский двор сведаться, со знакомым дьячком словом перекинуться, а далее видно будет, в бега ли податься или на месте остаться.
Ежели б уделял он более времени рукомыслу, то сейчас снес бы в город изделие свое, игрушечных воинов из дерева, а на вырученный грош прикупил соли довольно. Когда-то и хлебом удавалось разжиться вдосталь, но нынче дорог он – осьмушка столько стоит, сколько раньше целый каравай. Яровые гибнут из-за суши и заморозка, а озимые, если не померзнут осенью, загнутся весной под наледью. Возле города мужики уже и сеять перестали, в серпень на полях только редкий тощий скот. Почти что весь поразбежался земледелец окрестный – бортничать, рыбу ловить, зверя бить и другим промыслом заниматься… Только на лесных перелогах и подсеках, после пожога, мужики еще растят рожь. Город же прежним купецким богатством жив, хотя новой прибыли давно нет – Русь подчистую разорена литвой и ворами, по дорогам бродит дикий зверь взамен купцов и коробейников. Одна погибель без истинного государя… Может, доделать сперва рукоделие, которое со Спаса незавершенным стоит?..
Когда затоптался Максим в нерешительности, вновь явился Четырехликий. Подумалось тут Максиму, что Четырехликий взаправду не тот ангел, который являлся еще Иезекиилю-пророку, а порождение сил адских. Мог оный и старца сгубить ночью темной. И что за личины у него такие? Не есть ли он зверь многоглавый, который, вышедши из ада, питается плотью и кровью людской на разоренной обессилевшей Руси?
Впрочем, на сей раз у Четырехликого ликов приметных не было вовсе видно, однако колес сделалось девять, и были они светлые, как нимбы на образах. Они навроде мчались неведомо куда с великой скоростью, хотя не удалялись от Максима ни на вершок… Сейчас подумал он, что не обманно движение Четырехликого. Хоть и зрим он, да не от мира сего, потому при удалении не кажется менее в размерах.
Капли тумана и солнечный свет свились в подобие коридора, который потянул Максима. Не стал он противиться, и было ему легко.
Бежал Максим среди стен солнечных, словно не мешал ему снег и не хлестали по лицу ветви, погрузневшие из-за наледи. И никоего усилия в ногах не ощущалось, словно скользил он с ледяной горки. И столь резв был бег, что иногда Максиму мнилось, будто он сразу в двух, а то и трех местах. За сосенкой и перед ней, после овражка и не доходя до него, за камнем и до. И все так с просверками казалось, что даже зеницам больно. А потом глазам отдохновение пришло. Бо земной мир сделался тонким, как фарфор венецьянский. Вещи все предстали искусным рисунком, нанесенным легкой кисточкой на стенки сосудов фарфоровых – по краскам больше сурик и охра.
Стенки сосудов тех фарфоровых еще поболее утончились, и стали совсем как пузыри. Мир земной, утратив твердость, сделался стайкой разноярких и многоцветных пузырей, которые летели мимо Максима.
Ангел с ликом медным и прозрачными крылами едва не задел острым перьем его щеку. И за пеной земной вдруг усмотрел Максим мир необъятный горний, свет глубокий.
По путям поднебным переносились сонмы ангелов наружности различной, с медно-желтыми, пурпурными и серебряными ликами, с телами звериными или же человеческого подобия. И власы их длинные как огонь веяли за ними. А над ними блистали, будто молнии, сотканные из пылающих, но непалимых нитей серафимы. И куда-то в золотую высь, к сферам далеких звезд, поднимались херувимы, с великим шумом бия хрустальными крылами…
Так легко вбежал Максим в град, стоящий на берегу речки Вологда, где за пряничными крышами Нижнего посада воспарял пятью золоченными главами Софийский собор.
Купола его отрывались от земли, обращаясь в сияние драгоценного камня. А сама земля представала ажурной узорчатой филигранью, которая плыла по волнам божественного дыхания.
Солнечные лучи, схожие с потоками золотистых вод, дробились в огромные светоносные капли, что прыгали с купола на купола, с церкви Елены и Константина на кресты Николы, с Иоанна Предтечи на церковь Покрова, с избяных крутоизогнутых коньков на стройные башенки теремов, с блестящих слюдяных оконниц на небесного цвета ставни, с резных наличников на расписные подоконники. Солнце насыщало изумрудом ярчайшим даже дерн, крыши покрывающий.
Бревнышки и досочки, из которых сотканы были хоромы, избы, харчевни, лавки, войлочные мастерские, кузницы, овины и мостовые, растягивались, истончались и превращались в вязь без конца и края между двумя океанами рая…
Нечто разорвало внезапно легкую вязь бытия – как шелк дорогого платья разрываем бывает злою рукой насильника.
Замер Максим, с недоумением глядя на собаку – облезлую, тощую, всю в подпалинах. Злоба так распирала ее, что лай превратился уж в хрипящий вой. То и дело ныряя впред головой, острой, как наконечник копья, пыталась она вцепиться в ногу Максима. Однако страх всякий раз останавливал ее, возгоняясь в еще большее остервенение. Едва удержался Максим, чтобы не поддать псине в бок. С трудом оторвав взор от подпаленной собачьей морды, от зраков ее очумело расширенных, оглянул Вологду.
Вокруг был ад. Насколько видел глаз – огнь пожирающий, багрянец угля, серый блеск пепла и праха. И дым над посадами, над градом и Заречьем, отравляющий красоту небес черной мерзостью.
Сделался град Вологда и посады его добычей мечу разбойному и пламени беспощадному. А жители вологодские, от мала до велика, достались чужому воинству на разорение. И гости, нежданные-непрошенные, круты да немилостивы оказались.
Догорал-дотлевал уже Нижний Посад. Жалким остатком от прежней жизни смотрелись лишь столбы печные и котлы почерневшие. В сгоревших хлевах и стойлах лежали прокопченные костяки скотьи. В пепелище обратились квасоварни, избы, риги, харчевни, корчмы, заведения канатные, колодцы, сараи, хлебные ларьки. Даже фашинник, улицу устилавший, собран был в кучи и сожжен. От церкви Покрова сохранились одни ворота, вход открывающие на раскаленные уголья. От кузницы остался одинокий крест, выкованный для новой церкви в Рощенье. Крест раскален был и горел красным светом.
На улице, а то, верно, была Козленская, в слякоти, бурой от истечения крови, лежали мертвые горожане, иссеченные клинком ино умерщвленные свинцом и зельем огненным. Промеж тел человеческих валялись сундуки и лари опустошенные, и разбитые люльки, и лавки с надлавочницами, и зело много тряпья, платки, рубахи, душегрейки – верный след от бесчестия и насилования жун.
И на деревьях висели тела человеческие – плоды насилия лютого. Одни были подвешены за ноги или за вывернутые назад руки. Иные скручены веревками – шея притянута к коленям – и так подвешены. Однако отмучились уже все, погибнув от удавления или боли смертной.
Что-то понеслось с другого конца улочки на Максима. С гиканьем и свистом. Максим, с испуга рванув из забора жердь, крутанулся вокруг себя с приседанием.
Хрустнула жердь, ломая себя и ноги налетевшего коня; свистнула вражеская сабля, не достав немного до темени Максима. Конь, подогнув переломанные ноги, стал падать, с пронзительным ржанием вздымая круп и бороздя мордой грязь. Из седла полетел черкас-разбойник, да и грохнулся головой в тын.
Баранья шапка свалилась с разбойного человека, открыв засаленный оседелец; из трещины на бритой голове выходила толчками густая, почти черная кровь. «Мати, почекай мене, матінка, не йди»,[5] – прохрипел черкас и сильно дернул ногами в сафьяновых сапогах. Голос его, ослабнув, утонул в нутряном бульканье. Напоследок протянул насильник руку, украшенную женскими перстнями, ухватил комок грязи, да и затих.
Максим бросился бежать от трупа, в сторону от улицы, по проулку между двумя дворами, такому тесному, что и плечам не развернуться было. И хоть сердце билось в нем, совсем как лесной зверек в силках, Касание вскоре остановило его. Максим раздвинул руками сломанные доски забора и вступил во двор.
Низина тут была, снег накопился, так что ноги приходилось перетаскивать с усилием.
Касание привело Максима к щели, полуприкрытой ветками и охапкой прелой листвы. Похоже на колодец, брошенный из-за того, что проникала в него гнилая болотная вода. Однако в колодезной глубине вроде скрывался кто-то. Максим представил было, что там, внизу, затаился нетопырь, погубивший Савватия. Но сразу устыдился своего представления. В колодезе притаилось нечто слабосильное, едва дышащее и безобидное, аки щен или агнец. А враг, враг оказался… сзади.
Оборотившийся Максим увидел воина, стоящего в каких-то пяти шагах. Был тот в кости широк и дороден, а подошел поступью бесшумной, как рысь. Нездешний воин, гость нежданный, не напоминал оный и заднепровского черкаса, расколовшего себе голову на улице. Облачен человек был на немецкий лад – шляпа, ботфорты, камзол, накидка теплая – шаубе. А пуховый платок, который он повязал для тепла на шею, да безбородые пухлые щеки делали его нечаянно схожим с бабами, продающими сметану в молочном ряду.
– Чего надобно? Какую-такую нужду здесь имеешь? – от страха пробормотал Максим и прикрикнул на пришлеца, как на пса одичавшего: – Пошел, пошел отсед. Не отягощай душу злодейством, Бог все видит.
– «Пошель», «пошель», – повторил человек, слегка коверкая звуки. Находясь словно бы в задумчивости ино вслушиваясь во что-то, неспешно вытащил он палаш из ножен.
Максиму все еще невнятно было, живое ли существо в колодце или только Голос. Но немец явно доискивался именно того, что там укрылось.
– Los, hau ab oder ich toete dich,[6] – заторопил немец Максима, будто даже с заботой в голосе. Убедительности ради провел чужак толстым, будто колбаса, перстом около шеи, а потом ткнул им в сторону Максима.
Бежать иноземного человека – несмотря на бабий платок, скор он на кровопролитие – бежать скорее. Однако из щели снова донесся звук скулеж, не скулеж?
– Да что ж ты гонишь меня, хоть и сам не хозяин? Не сын, не дочь, не женка хозяйская. Или женка? Дороден, щеками упитан, весьма подобен.
– Mann, ich werde nur nach dem Besuch aller rheinischen Weinkeller sterben.[7]
Максим взял покрепче посох обеими руками и махнул им в сторону иноземца.
При первом выпаде немец и не шелохнулся вовсе, видно, почувствовал, что конец посоха не дотянется до него. Второй удар легко отразил палашом. По отдаче Максим понял, что чужеземец – воин не только сильный, но и многоопытный. Впрочем, не торопился немец, сберегая силы, авось Максим и сам побежит.
А Максим не чувствовал в себе лютости, потребной для борения ратного и человекоубийства. Как в самой первой своей рати на Нарове. Тогда задор передался ему от соратников, но сегодня был Максим один. И на краю окоема усматривался путь к отходу поспешному. Перемахнуть с одного маха через кучу валежника, а там припустить мимо избы, на соседнюю улицу. Не полезет немец через эту кучу, чтоб какому-то голодранцу башку снести. Другое приманивает иноземца, именно тот колодезь.
– Ти – пошель, – потвердил немец. – Ти – после, поживи чуть-чуть. Weg, na los.[8]
Максим уже сделал шаг в сторону, но отчетливо услышал плач из колодца. Не агнец это, не котенок, не щенок. Максим снова обернулся к немцу.
– Теперь ти – мертвый, – приговорил ласковым голосом иноземец. – Unaufaltsam rinnt die Zeit in das Meer der Ewigkeit.[9]
Максим сделал еще выпад посохом, да все так же неуклюже. Перехватил немец левой рукой деревяное орудие, а затем ударил палашом.
Останься Максим на месте, отлетела бы его голова, да только отпустил он посох и бросился в ноги иноземцу. Немец, хоть и грузен, однако перепрыгнул через подкатившееся тело и уже оборачивался, вознося клинок для рассекающего удара. Максим споро перехватил своим босыми ступнями его ногу и толкнул под колено. Немец, взмахнув руками, пал вперед. Придавил Максим своим коленом его палаш, но противник быстро перекатился на живот, приподнялся и выхватил из малых ножен колющий кинжал, дагом именуемый.
Кинул Максим снег в лицо иноземцу. Немец, дурно видя, неловко ударил дагом, тут и ухватил его Максим за запястье бьющей руки.
Широко было запястье, не удержать, немец и вырвал руку, но из-за усилия повалился назад.
Максим, быстро ухватив палаш, вогнал острие немцу в грудь. Бжикнула твердая сталь, протачивая грудную кость. Ухватился немец за лезвие, приподнялся было, но острие клинка пошло дальше.
Застыл раненый немец, с трудом удерживаясь под натиском клинка. Словно сдерживая отрыжку, молвил:
– Mach es wie die Sonnen Uhr, zahl' die heiteren Stunden nur,[10] – и повалился в мокрый снег.
Максим сделал один только шаг к колодезю и полуобернулся, почувствовав Касание.
Немец опять стоял позади, хотя из отверстия в груди его обильно выходила кровь, которую он пытался поймать в пригорошню. Другой рукой поднимал он палаш.
– Да вразумишься ты насовсем, супостат?
Максим, не оборачиваясь далее, ударил немца пятуй в горло. Враг пал на спину, при ударении о поленницу голова его оказалась свернута набок, так что ухо приникло к плечу. А после того немец и не шелохнулся уже, сделавшись безвредным.
Максим подошел к колодцу. Сейчас видно было, что оттуда пар поднимается и слышится не Голос, не писк или скулеж звереныша, а дыхание детячье, усиленное страхом.
– Эй, вылезай. И не писаться от страха-ужаса, а то порты заледенеют и греметь начнут.
2
Было сирот трое. Две девочки, Настя и Даша, и мальчик Иеремия. Все с виду лет семи, а ежели и постарше, то щуплые из-за бескормицы последних лет, когда летние заморозки губили посевы. Девочек от мальчика отличали только медные кольца в ушах. А вот бедствия прежде времени состарили их понимание.
Мальчик потрогал пальцем отверстие на груди мертвого немца и уважительно коснулся палаша.
– Ты его этим, дядя? Сильно надо ударять? А тело вражеское как масло протыкается или как хлеб? Почему дырочка в немце такая маленькая? Этого хватит? А почему башку ему не срубил? Когда голова отрублена – надежнее будет. А то вдруг упырь.
На лицах у детей налипла копоть пожара, да и замерзли они порядком. Только на Даше был подпаленный зипунок, мальчик и вовсе в одной рубахе.
Максим снял с убитого иноземца накидку и, немного отерев снегом кровь и грязь, отдал Иеремии. Понравилось огольцу новое одеяние, хотя рукава волочились по земле, как у скомороха. Настю Максим облачил в немцев камзол, да намотал на нее пуховый платок, чтобы новая одежда не сидела мешком. Девочка вытащила из кармана камзола малые часы, но ничего в них не смогла понять и швырнула в грязь, отчего получила заслуженную затрещину от Максима.
А за отогнувшимся воротом рубахи у мертвого немца оказался след ожога. Должно быть, иноземец клеймо с себя сводил, сделанное палачом. На висках же виднелись отпечатки вечные от тисков, на шее крепкие следы колодок, которых ливонцы называют «Хальсгайге». Впрочем, вызвало это меньшее любопытство, чем фляга с южным вином, полным нездешних ароматов. Из фляги Максим пригубил изрядно, прежде чем выбросить, а холщовый мешочек с имбирными сухариками отдал детям. Мальчик сразу, по-хомячьи хозяйственно, набил сухариков за обе щеки и стал ждать, пока натечет слюна. Девочки принялись грызть свои кусочки по-беличьи, торопливо.
Не дав сиротам спокойно подкрепиться, Максим потащил их по распутице промеж дворов.
Путь оказался недолог. В конце проулка поджидали их двое длинноусых жолнеров в ляшских жупанах и шароварах да кудрявый солдат из фрягов. Максим обернулся – с того конца проулка внушительно въезжал конный воин на высоком статном жеребце.
– Finita, amico,[11] – фряг улыбнулся приветливо, будто разглядел в Максиме старого знакомца. – Che io faccio in questo paese del freddo eterno? Io faccio denari, nessuno piin, Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita.[12]
– Дядя, – потеребила Даша Максима за рукав, – я их знаю. Они живьем едят, как звери. Мамку мою ели и сосали, хоть она и кричала, и молила, и плакала жестоко.
– Будет тебе придумывать, гадам этим жрать, что ли, больше нечего? Смотри, как все повыели.
– Правда, правда, – поддержал девочку мальчик, – жрут живьем. Но не как звери, хуже. Это у них наука такая, они желают выведать доподлинно, что у человека внутре. Братца моего зело мудрено распотрошили. Все кишочки из живота его до единой вытянули.
– Вот что, вы к огороже подайтесь, там у забора встаньте. – Максим распихал детей по сторонам и понял, что совсем не знает, как ему быть.
Конь под всадником шел медленно, трое пеших тоже не торопились, будто притомившись от злодейств. Максим не боялся смерти, но представлял ее приход совсем инако – под иконами, под звон колоколов. А, знать ведь, пришельцы, порешив его, детей истерзают…
Максим втянул паленый воздух и побежал на пеших иноземцев, вздымая над головой палаш. От троицы отделился лишь один поляк, в его руке сверкнул металл, и через мгновение оружие было выбито искусным приемом из руки Максима.
– Il colpo eccellente,[13] – похвалил фряг свого товарища. Лях не стал немедленно повторять удар и дал Максиму отпрянуть назад.
Левая ладонь, держащая посох, вспотела, несмотря на пронизывающий ветер. Вдруг Максиму показалось, что деревяное навершие движется. Или не кажется это?
Потянул Максим навершие посоха и увидел рукоять! Следом выпрямились подпружиненные дужки гарды, а там золотом блеснула черная дамасская сталь. Савватий, кем же ты был во дни молодости своей, коли в посохе хоронил меч-кладенец? Похоже, был сведущ ты не только в битве духовной.
Вновь приблизился Максим к троим чужеземцам, пригибая голову, словно в знак почтения.
– U kolana, psia krew,[14] – велел поляк с вислыми как сусло усами.
Максим опустился в слякоть.
– Да хоть на чело пред вами упаду, вельможное паньство. Не потому, что от вас, дьяволов, житья нет, а по глупости драться начал. Виноват, не осознал. Вы ж нам науки несете и вольности, дотоле нам неведомые. Больше не буду.
– Bedziesz nie,[15] – подтвердил лях и лениво поднял клевец. Вряд ли таким голову проломишь, лишь оглушишь жертву, чтобы затем домучить.
Мгновением спустя смотрел лях расширившимися зрачками на свой живот, где словно рот открылся и пустил слюну кровавую.
Раскроив жолнеру живот, Максим, не останавливая клинка, пронзил им сбоку фряга и, вскочив на ноги, нанес наискось удар по другому ляху.
Этот жолнер успел поднять свою саблю, но лишь немного изменил полет меча. Булатный клинок, войдя ляху чуть ниже скулы, голову прорубил наискось до основания черепа. Постоял еще жолнер с меркнущим взором, пока верхняя половина головы не упала назад, будто крышка от ларца, тогда и сам рухнул.