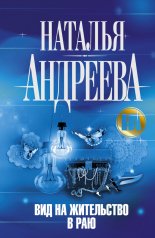Фамильный оберег. Закат цвета фламинго Мельникова Ирина

Глава 5
- – Как проходит, братцы, лето теплое,
- Настает, братцы, зима холодная,
- И где-то мы, братцы, зимовать будем?
- На Яик нам пойтить —
- переход велик… —
гаркнула, словно по-над ухом, добрая сотня луженых глоток.
Мирон поднял тяжелую голову с подушки, огляделся.
- – А за Волгу пойтить – нам ворами слыть,
- Нам ворами слыть, быть половленным,
- А мне, Ермаку, быть повешену…
– не унимались певцы-молодцы, но уже в удалении от избы, в которой князь Мирон Бекешев с трудом продрал глаза после тяжелого сна.
Он абсолютно не помнил, как оказался на широкой лежанке возле облицованной изразцами печки, на роскошной перине под пуховым одеялом. Но не печь и не перина были причиной того жара, что заставил его сбросить одеяло. Рядом храпела дородная девка с тугим белым телом и разметавшейся по подушке черной косой. Она лежала на спине, непотребно раздвинув ноги. Полная грудь поднималась и опускалась в такт дыханию, тяжелому, как у мужика, весь день гнувшего спину на пашне. Пылала она, как самовар, но и потом от нее разило, будто от того же мужика, весь день не снимавшего онучи!
Мирон окинул ее брезгливым взглядом. Мерзкая баба! Откуда она взялась? Ведь он хорошо помнил, как письменный голова подсаживал его на коня возле съезжей избы, а затем Захарка помогал сойти у высокого крыльца. Впрочем, последнее, что отчетливо отпечаталось в памяти, было даже не само крыльцо, а широкая ступенька, которая стремительно неслась навстречу…
Он осторожно ощупал нос, щеки. На лбу – свежая ссадина, да и нос распух. С чего вдруг? Неужто и впрямь приложился к ступеням? Но подобное с Мироном случалось редко. Даже напившись до положения риз, голову он не терял. Здесь, видно, сказалась усталость. От Томска скакали с короткими передышками неделю, чтобы успеть до того, как вскроется река, преодолеть ее по льду.
Девка с трудом повернулась, обхватила Мирона рукой и, тесно прижавшись, принялась елозить рядом, не открывая глаз. Толстые губы шевелились, пальцы скользнули по его животу вниз. Мирон вовремя схватил ее за запястье, отшвырнул руку, а затем турнул девку с кровати.
Она тяжело плюхнулась на пол. Открыла глаза – темные, запухшие, то ли от сна, то ли от щедрых возлияний.
– Чёй-то? – просипела она. – Чё дерешься, сокол? Ночью ласкал, заездил совсем, а счас гонишь… Али не мила стала?
– Пошла вон! – Мирон натянул одеяло и повернулся лицом к стене, бросив через плечо: – Чтоб духу твоего не было!
Девка что-то ворчала, роняла, затем снова подошла, постояла мгновение. Мирон не повернулся, сделал вид, что задремал. И вдруг одеяло рванулось с него, а наглая тварь с хохотом ущипнула его за ягодицу. Крепко ущипнула, с вывертом. Мирон взвился от боли, схватился за сапог. Негодная баба успела метнуться в дверь, и сапог, отлетев рикошетом от косяка, свалился в ушат под рукомойником.
Мирон ухмыльнулся и с довольным видом огляделся. Впрочем, его лицо тут же приняло кислое выражение. Да и что хорошего было в том, что он увидел? Шляпа, кафтан и епанча валялись неряшливой грудой на лавке, а камзол и исподнее – на ковре. Один сапог красовался на столе, накрытом изорванной в клочья скатертью. Второй торчал из ушата. Шпагу кто-то воткнул в цветочный горшок, скосив под корень пышную герань.
Свет с трудом проникал в горницу сквозь слюдяные оконницы, обитые белым железом. И все же Мирон рассмотрел, что устилавшие пол китайские ковры с драконами изрядно затоптаны. А валявшиеся подле лежанки сапоги лакея покрыты толстым слоем красноватой, успевшей засохнуть глины. Лакей же Захарка странным образом куда-то испарился, оставив барина в одиночку воевать с крючками и пуговицами камзола. Мирон, верно, и грязные сапоги стаскивал сам? А лакею даже в голову не пришло их почистить, что случалось крайне редко даже во время их долгого и опасного пути из Москвы в Краснокаменск.
Как же такое случилось? Мирон нахмурился. Почему он ничего не помнит из вчерашних событий? Откуда провалы в памяти, черные, как угольные ямы? Даже собственное прибытие вспоминалось смутно, словно затянутое мороком. Что ж никто не привел его в чувство? А ведь состояние, в котором он пребывал, грозило хозяевам дома большими потерями. К счастью, только слегка погрозило. Кроме скатерти заметно пострадала медвежья шкура, которую содрали со стены вместе с деревянными клиньями, крепившими ее к бревнам избы, и тоже бросили на пол… Промелькнули в голове неясные видения: разъяренная медвежья морда, смрадный запах из клыкастой пасти и нож, который вошел в грудь зверя на все лезвие.
Ага, вот и нож рядом валяется! Мирон вздохнул. Надо же! Личный посланник царя Петра Алексеевича, ревизор его величества, и так опростоволоситься в первый же день пребывания в Краснокаменске. С чего вдруг кинулся сражаться с медвежьей шкурой, похоже, охотничьим трофеем хозяина? А тот, несомненно, человеком был состоятельным и чистоплотным. У порога – дубовые сундуки с добром, резные, желто-красные, с окованными железом углами и огромными замками. Напротив входа – поставец с фаянсовой и фарфоровой посудой. В красном углу – икона святого Николы Чудотворца; от горевшей лампады живые отблески падают на серебряный оклад. На стене – огневая пищаль с пороховым прикладом, над изголовьем – мушкет с серебряными насечками.
Мирон сел, потянулся, отчего одеяло снова сползло и упало на пол. Пить хотелось неимоверно. Просто адски! Голова трещала. Эх, сейчас бы водицы холодной с брусникой испить или кваса ледяного!
Как был, голышом, он доковылял до стола и, наступив на скатерть, чуть не упал. Из-под ног выкатилась пустая баклага. Мирон поднял ее, понюхал и сморщился. Хлебное вино! Дешевое пойло! Возле стены на лавке стоял жбан для кваса, тоже пустой. По нему ползали мухи. Одна, зловредная, с лету ударила Мирона в лоб. Он отмахнулся и, борясь с головокружением, цепляясь за стенку, двинулся к выходу.
– Захарка! – гаркнул на всякий случай.
В ответ ни звука.
– Ах ты, собачий сын!
Ноги подкашивались, тянуло на свежий воздух, к колодцу, к проточной чистой воде. Но страсть как не хотелось натягивать вчерашнее исподнее. У лакея в сундуке должна сохраниться последняя чистая пара. Но куда его черти занесли, покуда хозяин спал?
Держась за косяк, Мирон выглянул в сени. Ну вот, ясень-пень! Лакей дрыхнул на скамье, подложив кулак под щеку. В кудрях и бороде запуталась солома, на лбу набухла приличная гуля, но он так безмятежно и счастливо улыбался во сне, что Мирон только покачал головой. Парню тоже изрядно досталось! Но кто ж их так отходил, не страшась последствий?
Он толкнул Захарку в плечо. Тот что-то промычал и перевернулся на другой бок. Рубаха на спине была порвана. Сквозь прорехи виднелась крепкая мускулистая спина и могучие плечи.
– А, чтоб тебя! – выругался Мирон и, схватив Захарку за шиворот, стащил его на пол.
Лакей согнул ноги калачиком. Из портов торчали босые ступни, все в грязи и прилипшей к ним соломе.
Недолго думая, Мирон схватил деревянный ковш, зачерпнул из стоявшей рядом бочки и обрушил водопад холодной водицы на буйную голову лакея. Тот даже не шелохнулся. Мирон пнул его в бок, пожалев, что нет на нем тупоносых башмаков с серебряными бляхами. В походе хороши лейб-гвардейские сапоги. Но от сапога удар по ребрам слабее. А босой ногой вроде и не ударил вовсе, только слегка пощекотал.
Захар всхрапнул в луже воды и почмокал губами, ну чисто младенец, потерявший мамкину титьку. И Мирон вмиг вспомнил, чего искал в сенях. Заглянул в бочку. По поверхности воды плавали какие-то жучки или мошки. Мирон разогнал их ковшиком. Вода отдавала деревом, имела странный привкус. Но он наконец утолил жажду, залив в ссохшееся горло два ковша воды. А уж изгнать ее насовсем попробует возле колодца. Ведро ледяной воды на голову – и сразу жизнь засияет яркими красками.
Мысленно поклявшись отправить Захарку на дыбу, Мирон вернулся в горницу и тут же увидел свой сундук, стоявший за дверью. Надо же! Он почесал в затылке, отметив, что длинные, до плеч, волосы уже не слипались в космы. И хоть с трудом, но вспомнил, как парился в бане, как лупцевал его веником дюжий казак, как окатывал из ушата чистой водицей… Да, очень кстати он заметил сундук! Есть во что переодеться!
Минут через двадцать Мирон стоял на высоком крыльце-рундуке и жадно тянул носом воздух, настоянный на сосновой хвое и березовых почках – чистый, прозрачный после пропитанной пьяным духом горницы. Над крыльцом раскинула ветви огромная береза, которую, видно, посадили при закладке крепости, а может, и сама она выросла задолго до строительства, потому что вымахала выше башенного шатра. Сережки на ней трепетали от слабого ветерка. Сквозь сетку ветвей виднелись клочки неба такой безупречной синевы, что казалось, там, в вышине, опрокинули бочку с лазурью.
И ни облачка, ни малейшего белого перышка в таинственной глубине, подсвеченной мягким апрельским солнцем. Только черные после ночного дождя шатры крепостных башен выделялись на его фоне. От них веяло страхом. Вроде ничто не предвещало опасности, но огромные, высотой до пяти саженей сооружения были возведены, чтобы уберечь людей от тревоги за жизнь, уверить их, что они надежно защищены.
Невольно Мирон остановил взгляд на хоромах, в которых провел ночь. Знатный домина! Похоже, воеводский! Но тогда он совершил очень большую ошибку, оставшись на ночлег у того, кого Петр Алексеевич давно подозревает в корысти и мздоимстве, иначе не отрядил бы в Краснокаменск ревизора! Но, видно, подсыпали в еду или питье дурное зелье, отчего потерял Мирон голову, да еще девку непотребную подсунули… Только не привыкать Мирону Бекешеву из переделок выходить победителем. Не зря отец называл его выкормышем Петровым. Доверял ему государь безоговорочно, хотя задание для двадцатитрехлетнего князя на первый взгляд казалось невыполнимым. Но Мирон не слишком об этом задумывался. Несмотря на молодость, он слыл человеком осмотрительным. К каждому поручению государя относился с тщанием бывалого служаки и с огоньком, что присущ юнцам, с равным старанием совавшим свою голову и в огонь, и в полымя.
С крыльца виднелись пять башен крепости, шестая находилась за спиной Мирона. Именно к ней прилегали хоромы, в которых он ночевал.
Мирон сбежал вниз и направился к пятиугольной, самой высокой башне, смутно припоминая, что накануне проезжал через ее ворота. Над воротами с наружной стороны виднелась навесная часовня с маковкой, вершенной крестом. Обитая белым железом, часовня сверкала в лучах солнца до боли в глазах. Проезжая башня – самое слабое место в крепости, поэтому ей и нужно покровительство святого.
Перекрестившись на Спасов образ – Божие Милосердие под крышей часовни, Мирон перевел взгляд на другие башни. По верху каждой была устроена крытая шатром сторожевая вышка – караульня с галереей, огражденной перилами. В одной из них, угловой, он разглядел колокольню с большим набатным колоколом. На каждой вышке виднелось по часовому, вооруженному пищалью. Не стояли на месте сторожа, обходили караульню по галерее. И лишь иногда останавливались, осматривали из-под руки горизонт – не видна ли вражеская конница? Все ли спокойно на реке? При хорошей погоде в степи можно разглядеть врага верст этак за тридцать. Близкие скалистые сопки тоже как на ладони: знай смотри, не зевай! На маковке каждой караульни или жестяный флюгер, или двуглавый царский орел. Сразу видно, откуда ветер дует!
С четырех сторон окаймляла крепость, соединяя башни, двухрядная срубная городня, сажени в три высотой. Над стеной возвышалась двускатная крыша. Под ней – галерея для защитников острога и бойницы для затинных пищале [15] и легких медных пушек.
В стене Мирон разглядел свежие бревна, а на крышах, крытых гонтом – деревянной черепицей, – светлые заплаты. Это значило, что молва о приезде государева ревизора намного быстрее его обоза достигла Краснокаменска. Конечно, сие могло быть совпадением, и воевода на самом деле рачительный хозяин, исправный служака, город и уезд содержит в порядке. Правда, слухи, что достигли Москвы, сообщали обратное. И даже невероятное: мол, воевода краснокаменский, дворянин московский Иван Костомаров, надумал вести переговоры с богдыханом, чтобы уйти под его защиту и покровительство…
Мирон беспрепятственно миновал воротную башню. За стенами крепости кипел жизнью посад. Его узкие улочки и переулки, застроенные крепкими, на подклетях избами, мангазейными амбарами, казенными складами и лабазами, вели к Соборной площади. Где-то там находилась съезжая изба – канцелярия воеводы.
Знакомясь с городом, Мирон попутно приводил в порядок мысли и сопоставлял увиденное с тем, что ему поведали «сказки», выданные в Сибирском и Посольском приказах в Москве, а позже, уже в Томске, разъяснил разрядный воевода Илья Фадеев.
По дозору письменного головы Краснокаменска, присланного в Сибирский приказ в прошлом 1701 году, выходило, что город состоит из трех частей – крепости, острога с посадом и слободами, окруженными двойным частоколом, усиленным земляными валами и рвами, и заострожного поселения, где ютились в жалких хибарах пришлые бугровщик [16] лесомыки да прочие гулящие люди.
Весь дозор Мирон Бекешев знал назубок. Бумага бумагой, в дальней дороге что только не произойдет, а память надежнее, тем более молодой князь на нее не обижался.
Но то были строки казенной грамоты, а город, что лежал перед ним, давно проснулся и жил привычной жизнью, как жил вчера и позавчера, как десять лет назад, когда на высоком утесе была заложена и построена на сибирской земле новая русская крепость Красный Камень.
Весенняя распутица, лужи… Острог тонул в грязи. Сновавший кругом городской люд: стрельцы и казаки в кафтанах, монахи в стеганых рясах, торговцы в зипунах, армяках и азяма [17] бабы в душегреях и шабура [18] длинных сарафанах и юбках, подолы которых они задирали выше колен, сверкая белыми гладкими ляжками, – все ловко перепрыгивали с пенька на пенек, с камня на камень, с кочки на кочку. На Мирона в его непривычном для местной публики зеленом кафтане, красной епанче и щегольских сапогах с раструбами косились, но не задирали. Он и сам чувствовал себя неловко среди этих людей, одетых по-простому, но тепло и удобно. На дворе – апрель, но ледяные ветры с севера могли еще принести метель и снег вполовину с дождем. По этой причине многие горожане расхаживали в меховых шапках, похожих на татарские малахаи.
Грязь заливала телеги поверх ступиц. Орали возчики, хлопали бичи, дико ржали лошади. Громко смеялись девки возле казенной лавки – над ним, наверно: в ту секунду Мирона угораздило провалиться в лужу, чуть ли не по колено. Вдобавок проезжавший мимо ямщик лихо свистнул, лошадь рванулась вперед. Из-под копыт вылетел фонтан грязи, и все – на щегольский кафтан.
Мирон раздраженно стряхнул перчаткой грязные капли, вытер лицо батистовым платочком в кружевах и с монограммой «Э.Р.» в уголке. На девок Мирон не взглянул, лишь чертыхнулся про себя, представив, как будет выглядеть, когда появится в съезжей избе.
Какая-то баба, покосившись на него, сплюнула в лужу:
– У-у-у, анчихрист, гола рожа, чтоб тебе повылазило!
– Чё к младеню лезешь? – заступилась другая, помоложе, с широким лукавым лицом. – Чисто азанка кидашься! Чё злисся-то?
– Сама азанка! Понесла без весла! – откликнулась та, что старше. – Смотри, чтоб глазыньки не вылезли, на чужой уд глядючи!
Молодая что-то крикнула в ответ и захохотала, но уже за спиной Мирона. Он предпочел ее слова не расслышать.
Где-то звонко стучал молот по наковальне; девичий голос нежно звал ягненка: «Бася, бася…»; перекликались часовые на вышках; лаяли собаки; громко квохтали куры и голосил петух, обнаружив, что круживший в небе коршун плавно пошел вниз. На высоком заплоте сварливо орали сороки, а из скворечников неслись звонкие песни пернатых новоселов. Скворцы прилетели, значит, тепло не за горами!
Впереди Мирона по кривому закоулку брели два инородца – скуластые, с бронзовыми от степного загара лицами, в лисьих шапках с хвостами и в бараньих, крытых сукном шубах. Их узкие, по-рысьи быстрые глаза ни на чем не останавливались и в то же время все замечали. Мирона тоже заметили. И тут же приняли по-детски наивное выражение. В ухе одного из них, возрастом постарше, Мирон заметил серебряную серьгу – барс свернулся кольцом. Большим искусником был мастер: барс, казалось, свился в пружину, чтобы – хоп! – мгновенно распрямиться в броске.
Рядом с инородцами крутился дюжий кривой мужик с плечами молотобойца.
«Кузнец, – определил Мирон по кожаному фартуку, прожженному во многих местах. – Да и глаз, наверно, искрой выжгло».
Инородцы несли медный котел. Остановились посреди закоулка, выбрали место посуше возле плетня, на котором висели глиняные горшки да корчаги, присели на землю, неторопливо закурили трубки. Потом склонились над котлом, долго его осматривали и ощупывали, а кузнец размахивал руками, бил рукояткой ножа по котлу, чтобы звенело. Инородцы смеялись.
«Ишь, как дети малые! – подумал Мирон. – Радуются этакой безделице».
Он медленно миновал живописную троицу. Кузнец покосился на него, но ноги подтянул, освобождая проход. Инородцы вынимали из мешка соболиные шкурки, ловко их встряхивали, чтоб мех играл на солнце, и бросали в котел. Кузнец провожал каждую шкурку жадным взглядом. Когда котел наполнился, провел закопченной рукой по его кромке: вровень идет – значит, договорились.
Ударили по рукам, и инородцы, что-то весело балабоня на своем языке, поволокли котел за дужку к проезжей башне острога. А кузнец, быстро затолкав шкурки в мешок, ринулся через улицу к покосившейся избенке – «ивану елкину». Мирон опознал кабак по еловой ветке, болтавшейся на дверном косяке вместо вывески.
Возле шинка возился в грязи человек в рясе – то ли поп, то ли монах. Он порывался встать, но раз за разом валился в мерзкую лужу. Фыркал, творил крестное знамение и снова падал. Опять творил крестное знамение и опять падал. Наконец подполз на четвереньках к гнилому крылечку, опустил голову на ступеньку и запричитал дребезжащим голосом:
– Господи, прости мя, Господи! Во грехе помру, сложу голову окаянную! Что тебе, Всевышний, стоило подбросить Фролке деньгу на опохмелку? Нет, не пожалел алтын. И надрался Фролка, как хряк-кладенец, как… – и захрапел на полуслове, стоя на коленях в грязи.
Кузнец тем временем скрылся за дверью кабака. Мирон направился дальше. «Пропьет ведь рухлядь, – размышлял он, сетуя на бестолковость и разгильдяйство кузнеца. – Вот ведь низкие людишки, живут одним днем. Нет чтобы продать шкурки, а на вырученные деньги закупить меди да слудить еще несколько котлов. Так, глядишь, и потекли бы денежки в карман».
По узкой дорожке навстречу ему шагал работный человек, рослый, широкоплечий, в домотканой рубахе, в портах из ровдуги, затертых до дыр, на ногах – разбитые опорки, за спиной вязанка дров – огромная, в три-четыре обхвата. Мирон невольно замедлил шаг: «Какова силища, а!»
Парень покосился на него, но уступил дорогу. Правда, долго смотрел вслед, открыв рот. Как говорится, и дух перевел, и любопытство потешил.
– Где съезжая изба? – спросил Мирон у паренька в рваной кацавейке, надетой на голое тело. Тот перестал подбрасывать ногой зоску – свинчатку, обшитую заячьей шкуркой, глянул исподлобья, махнул рукой вперед, а вслед злорадно прокричал:
– Зеленая лягуха, дурак – три уха!
Поверх тына сидела ворона и жадно клевала обглоданную кость.
«Дурная примета», – подумал Мирон и огляделся по сторонам, подыскивая, чем бы запустить в нахальную птицу. Бредущая впереди старуха захлопала в ладоши, но ворона даже не повернула головы в ее сторону. Стрелец, справлявший малую нужду возле частокола, подтянул штаны. Ворона подняла голову, скосила на него глаз и вновь принялась долбить кость, лязгая по ней крепким клювом. Стрелец быстро стянул с плеча самопал. Долго целился. Наконец вспыхнул выстрел. Эхо прокатилось глухо, отрывисто. Ворона, распластав крылья, кувыркнулась вниз и, цепляясь за выступы бревен, шлепнулась на землю.
Над башнями и стенами острога поднялись тучи ворон. С громкими криками они стали носиться над погибшей товаркой. Несколько птиц налетели на стрельца, обильно поливая его пометом. Сконфуженный служивый, закрывая голову руками, бросился в открытые ворота казенного амбара. Возле него два хмурых мужика сгружали с телеги мешки с зерном.
Мирон быстрым шагом миновал опасное место. Но возбужденные птицы долго еще носились в небе и гомонили на всю округу.
Глава 6
В съезжей избе с раннего утра и до заката солнца рьяно скрипели гусиные перья писцов. Готовые грамоты переходили в руки подьячих, которые, не разгибая спин, трудились за ясачным, хлебным, денежным, торговым столами. Подьячие скрепляли бумаги и отдавали на подпись дьяку. А тот уже решал, куда их направить дальше: письменному голове или самому воеводе Ивану Даниловичу Костомарову, правившему в Краснокаменске третий срок подряд, что для Сибири было более чем удивительно.
На воеводство дворяне соглашались охотно – и честь большая, и корм сытный да обильный. Мало того, обивали пороги Сибирского приказа, подносили щедрые почести, лишь бы достучаться до сердца приказного дьяка.
А как последует царский указ, то уж радости не передать. И сам дворянин на седьмом небе от счастья; и жена в полном восторге: ей тоже будут приносы; радуются дети: после батюшки и матушки всякий желающий подсластить воеводе зайдет на праздниках и к ним с поклоном; ликует вся дворня – ключники, подклетные: будут сыты; прыгают малые ребята: и их не забудут; пуще прежнего несет вздорные речи юродивый, живущий во дворе: ему точно что-нибудь да подадут. Все родственники и свойственники, вся челядь – поднимаются и, торжествуя, едут в огромном воеводском обозе на верную добычу…
Обычно хватало трех-четырех лет, чтобы выдворить воеводу обратно в Россию, чаще с позором, намного реже – со славою. А тех, кто задерживался дольше, чтили не один десяток лет, хоть и поминали частенько недобрым словом.
В избе было людно, тесно, душно и сумрачно. От воскового чада и книжной пыли слезились глаза. Степенно переговаривались ражие русские купцы в поддевках и толстые бухарские торговцы в халатах и тюрбанах на бритых головах; с шумом толпились пашенные крестьяне, мелкий ремесленный и служивый люд. В разномастных кафтанах, армяках, шубейках, фуфаях шлепали они побитыми сапогами, ичигами, торбазами по каменным плитам, оставляя за собой комья грязи. У каждого за пазухой или в холщовой суме либо петух, либо курица, либо поросенок; у иных кусок отбельной холстины, узорчатое полотенце или другие «поминки».