Познание России. Заветные мысли (сборник) Менделеев Дмитрий
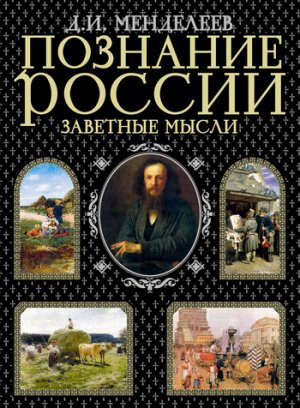
Войн России пришлось в прошлом вести множество, но большинство их носило характер чисто оборонительный, и мое мнение скажется ясно, если выражу уверенность в том, что, несмотря ни на какие мирные наши усилия, впереди России предстоит еще много оборонительных войн, если Россия не оградится сильнейшим войском в такой мере, чтобы боязно было затевать с ней военную распрю в надежде отхватить от нее часть ее территории.
Что завоевательных войн Россия сама не затеет, в том уверены не только все мы, русские, но и все сколько-либо знающие Россию, которой у себя дома дел кучища, начиная с необходимости продолжить усиленно размножаться; но поползновения на нас самих, на наши земли и народы, на нашу целость и силу с татарами, поляками и Наполеонами не умерли, а развиваются и при стечении обстоятельств (их-то и должна дипломатия проследить) могут, если мы не будем сильны в военном смысле, дорасти до войны против нас, подобной натиску Наполеона, и в этом смысле кроме полного соглашения с Китаем союз с Англией при посредстве Франции был бы сильным предохранителем. Делить нам с Англией нечего. Поход в Индию — бессмысленный в прошлом — просто нелеп для нас в будущем, а соглашение, особенно при полном открытии Дарданелл, не только возможно, но и очень желательно. Возможно же оно только тогда, когда мы в военном отношении будем готовы вполне, иначе с нами в союз не вступят.
Военная наша оборона, очевидно, была и быть должна преимущественно сухопутной, а морской быть ей следует, по моему мнению, сильной ныне только в Черном море и на берегах Восточного океана. Что бы кто ни говорил, все же в настоящее, а тем более в предстоящее время перевес нельзя получить одним воспитанием духа воинов, как в былые времена, и не столько ружья, сколько пушки и мины в этом деле должны занимать одно из первых мест.
Это последнее дело мне знакомо близко, и я с полной уверенностью говорю, что начинать заботы об улучшениях в обороне следует с пороха и вообще взрывчатых веществ. Как во всем другом, надо совершенно бросить и тут систему подражаний и пойти самостоятельно. Теперь дело это стало чисто научным, тут можно и должно идти путем опытов, руководимых теорией, и коли мне при первом приступе к делу удалось уже найти кое-что существенно новое, то я уверен в том, что русские специалисты могут в деле взрывчатых веществ идти сами еще много дальше вперед.
А за порохами следом (не наоборот, как делают теперь) должны идти пушки и минные приспособления. Тут все еще надо много и много разрабатывать, и своих сил найдется немало, хоть и не вдруг. Надо при этом, а особенно при заказе пушек и мин свое иметь прежде всего в виду.
Спешка, которой обыкновенно оправдываются иностранные заказы, — только отговорка, нередко пристрастная и связанная со злыми личными интересами. С этим надо так и сяк покончить, т. е. дать и место, и соответственные вознаграждения русским изобретателям{172} и русским производителям, потому что из-за границы мы все же получаем лишь поскребки и полное военное обеспечение возможно только с обзаводством дела всем необходимым.
Так, ничего не жалея, надо тотчас же приступать на берегах Тихого океана к своему военному судостроению, к получению своей местной стали, своих пушек, своего каменного угля. Что-либо лишнее, что придется при этом истратить, останется дома, крупные доли выпадут своим же техникам, рабочим, изобретателям и предпринимателям, а это послужит только к развитию края.{173}
Государственная дума не выполнит своей задачи, если не выскажется в этих делах категорически, потому что жизненнее и абсолютнее дел этого рода найти трудно. Если замирение с Японией по воле царя и по благороднейшему искусству С. Ю. Витте обошлось без экстренных денежных уплат Японии и без каких-либо ограничений в развитии наших сил на берегах Тихого океана, тем больше поводов, ничего не жалея, быстро на этих берегах создать новые русские силы, а они без промышленной поддержки развиться не могут, начало же ей проще и всего естественнее положить, развивая на месте все необходимое для усиления обороны.
На этом кончу свои заметки по делу обороны, потому что они для «блага народного» дело неизбежное, а быть не может без затраты сил и средств народных, они же, по существу, дела должны служить исходным ресурсом народному труду и развитию благосостояния своей же страны. Так связуются разные стороны дела, и необходимость этой связи столько же очевидна, как невозможность основать оборону страны на войске наемном.
V. Народное просвещение, понимаемое в обычном смысле, т. е. как обучение юношества тому, что может быть так или иначе полезным в предстоящей жизни, связано с общественной и правительственной деятельностью повсюду там, где оно вышло из пеленок и стало действительной более или менее широкой общественной потребностью.
Понятие о свободе со многими своими условностями выясняется, когда представить свободу народного просвещения от какого-либо отношения к правительству, как то было когда-то, в оные времена и как это не будет уже никогда, как бы «свобода», понимаемая в нашем условном смысле, ни развивалась.
Отношение правительства к народному просвещению вовсе не составляет чего-либо подобного простой благотворительности, а определяется вначале потребностью иметь в администрации подготовленных служащих, а потом сознанием великого влияния должным образом направленного просвещения на все успехи страны, для службы которым (т. е. «благу народному») правительство и начинает сознавать себя назначенным.
Переход от первоначального отношения к последующему у нас только что недавно начался, и этим одним немало выясняются многие стороны всего нашего учебного строя, например служебные права окончивших определенные курсы, административные экзамены, казенные стипендии, сословные преимущества при приеме и т. п. Тут должно ясно сознавать, что без учебных заведений, приспособленных к административным специальностям, обходиться еще нигде не могут, так как иначе пострадала бы исполнительность, а потому у нас нечего пока и думать о коренном преобразовании таких заведений, каковы, например, военные корпуса и семинарии.
Реальное училище и Педагогический институт Шелапутиных на Девичьем поле
Для современного образования кроме военных и духовных академий надо даже желать умножения специализированных высших школ, назначаемых для служебных целей, особенно педагогических, потому что служебная карьера учителей и профессоров неказиста и к ней надо много подготовлять и много привлекать народу заранее, чтобы можно было из них выбирать лучших. Но об этом предмете я уже более подробно говорил в VII главе, а потому теперь считаю долгом громко взывать о том, что между многими настоятельнейшими современными нуждами России не должно, прежде всего, забыть необходимости специальных педагогических институтов, и если примера ради сопоставить такие две надобности, как увеличение окладов учителей и устройство педагогических институтов, то, ни минуты не сомневаясь, должно второе предпочесть первому.
Если средств народных не хватает сразу на все необходимое, эти педагогические институты надо по времени предпочесть даже расширению железнодорожных или улучшению водяных сообщений, устройству новых судебных и т. п. учреждений, даже основанию каких-либо иных лечебных заведений — низших, средних или высших, потому что правильное, а особенно исправленное по содержанию и направлению обучение юношества без массы хорошо подготовленных наставников может быть злом непоправимым и, что всего хуже, самообманом, ведущим к гибели, так как без света истинного просвещения мы попадем, того гляди, в южноамериканское положение, оттого только уживающееся со своими пронунсиаментами, что они не окружены близкими более подготовленными соседями, а природные условия для жизни даны им в таком изобилии, что знай да бери готовенькое без усилий.
Отдав в деле народного просвещения все должное такому переходному состоянию, в каком теперь находится Россия, т. е. сохраняя, даже расширяя специальную подготовку для чисто служебно-административной деятельности, Россия дожила до того состояния, в котором народное просвещение стало необходимым не только для сельских хозяев всех степеней, купцов и промышленников, но и для всех жителей, ничуть неприкосновенных к администрации. Не потому только это нужно, что так это есть у наших соседей, с которыми нам необходимо равняться, если желаем сохраниться, а потому по преимуществу, что нужды народные во всех его классах явно растут уже просто от умножения числа жителей, а усиленное удовлетворение этих нужд немыслимо ныне без приложения истинной образованности.
Пусть даже прав гр. Л. Н. Толстой, что все дело в улучшении нравов или морали личной, но ведь эти предметы надо выбирать из многих предлагаемых, а выбор правильным быть не может без должной оценки предлагаемого, так как рядом стоят одни, говорящие, что надо бить, другие, говорящие, что надо шею морали ради подставлять; одни советуют: «Не учись, так будет лучше», — другие: «Учись, это всего нужнее». Надобен светильник личного просвещения, чтобы разобраться, что черно и что бело. А когда дело-то доходит до хлеба, до необходимости прокормить не одного себя, но и близких со стариками и детьми включительно, да вспомнится долгая зима, да узнается, что для получения работы, дающей достаточный хлеб, везде уже требуется учебная подготовка, становящаяся потребною даже при добыче самого хлеба в таком количестве, которое сколько-нибудь покрывает затрату времени, средств и сил, тогда о сколько-либо прочном обеспечении, в огромном большинстве современных положений выступающем, нельзя и помышлять помимо долгого предварительного обучения.
Оно становится прямой хлебной потребностью жизни, способом ее развития и роста. Без правительственной помощи обойтись тут, очевидно, нельзя, и заботы о просвещении составляют честь, даже гордость правительств, потому что выступают свободнейшим образом из-за побуждений «общего блага». Нельзя и думать, что, когда совокупный разум народных выборных более или менее заменит волю единоличных правителей, в одном деле народного просвещения, говоря вообще, улучшений существенных не произойдет, тем более что тут все возможно, улучшение ли или ухудшение, и они не могут делаться иначе как медленно, постепеновски.
В этом последнем и видна величайшая трудность той правительственной функции, о которой теперь говорится. Зло, введенное в наше народное просвещение покойным графом Д. А. Толстым, сперва вовсе и не могло быть заметным, а та «свобода преподавания», о которой так много трубили тогда приспешники Толстого, давала облик, каким обманывали и обманут еще не раз много, много народа, хотя соблазняла лишь немногих из нас, тогдашних деятелей, огульно и голословно обвинявшихся графом в смешении науки и ученья с политикой. Выдумал и провел граф Д. А. Толстой такие приемы и меры, которыми, по его разуму, должно было искорениться воображаемое зло. Десятки лет, протекшие с тех пор, приносят теперь плоды, и между ними на первом месте стало именно то, что воображали искоренить, т. е. плачевное смешение науки и обучения с политиканством.
Да и как этому следствию было не явиться, когда корнем просвещения стали считать латинское резонерство и аттестаты «зрелости» и «благонадежности». Говорю об этом не для того, чтобы вновь поднимать устаревшее разноречие, а лишь для того, чтобы внушить мысль смотреть на просвещение народа только со стороны передачи юношеству знаний, необходимых и полезных в жизни страны, оставив всякие иные, так сказать, косвенные задачи совершенно в стороне.
Внушили юношам, во-первых, понятие о том, что «зрелость» достигается латинскими упражнениями да решением простеньких задач, а во-вторых, что все дело учения сводится к политической благонадежности, вот и стали «зрелые», конечно, не все, а все же в массах усматривать и обличать «неблагонадежность» и полагать, что мир на латинской точке отправления застрял.
Не окунувшись в жизнь, не узнав еще ничего специального, что к ней приближает, не искусившись при помощи опыта в оценке достоинства идей, воспитанное по гр. Д. А. Толстому юношество, в сущности, стало говорить: «Не хочу учиться, а хочу политиканить», — как говорило когда-то: «Не хочу учиться, а хочу жениться».
Поправка (но она может быть в деле просвещения не иной как медленной) тут, по мне, одна: в деле народного просвещения иметь в виду исключительно только одно просвещение юношества, т. е. сообщение ему добытых наукой (изучением или сочетанием разума с опытом) приемов, или способов, и выводов, или истин, могущих облегчить пути жизни. Нравственность придет сама собой, если наука поставится выше всего и для этого учителя будут подбираться не по «благонадежности», а исключительно по научному цензу, потому что между истинной наукой и моралью, как между истинной наукой и жизнью, есть связь живая и крепчайшая.
А узнать науку истинную, т. е. отличить ее от лживых наук, или — так как собирательно лживых наук не может быть надолго — от ложных учений, могут только действительно люди современной действительной науки, какие, благодаря тому, что система гр. Д. А. Толстого действует сравнительно недолго, все же есть в России, а если почему-либо их и не станет, то таких, как Лейбница, Эйлера и Палласа, можно «на время» пригласить и из других стран, все же будет лучше, чем отдать все дело в руки канцелярий или газет. Пусть главный администратор или министр народного просвещения будет и не из ученых, ему и книги в руки, но его суждения относительно научности или ненаучности должны быть целиком основаны на приговоре научных советников, иначе опять легко попасть мимо, как это блистательно доказал дилетант от науки гр. Д. А. Толстой.
В этом главное, что хотелось сказать сверх того, о чем говорил в главах VI и VII по отношению к народному просвещению. Сколь возможно полнейшая автономия не только может, но и должна вести все дело народного просвещения к благим для народа результатам лишь при условии как сверху, так и снизу не подмешивать к чистой науке ни внешней, ни внутренней политики. Науки с жизнью связаны очень тесно на все предбудущие времена. Пусть это относится к самой науке, да к ученью-то у политиканства нет отношений, а тем паче к учащимся. Политика — дело текущей жизни, и в ней могут иметь голос только выдержавшие ценз действительной жизненной зрелости. Ну, пусть их, если есть на то охота, политиканствуют профессора на стороне от учебного дела, но к учебному-то делу, к автономии его касательства никакого нет; ученикам же просто грех политиканствовать, потому что надо сперва поучиться да жизни попробовать. Путаница здесь и вредит, и с толку сбивает.
VI. Промышленность в истинном, или широком, смысле слова (см. главу VIII, т. е. производство, добыча, переделка и доставка всего того, что физически надобно, полезно или спрашивается другими людьми) занимает все более и более народы, вышедшие из первобытных состояний, в которых все немногое необходимое люди стараются добыть и произвести сами или около себя, в домашнем обиходе, подобно тому, например, как обыкновенно у нас варят дома варенье из собственных в своем саду ягод.
Мало-помалу и Россия, особенно же быстро после освобождения крестьян, входит в тот разряд стран, в котором промышленные отношения становятся на первом месте и во главу «блага народного», начиная с торговли, с добычи хлеба не для себя только, а для продажи, с перевозки, с горного дела и всяких ремесленных и фабрично-заводских дел.
Но как мы далеки еще от среднего уровня тех стран, с которыми хотим и, наверное, можем равняться, становится видным уже из того, что вся сумма ценности нашего фабрично-заводского производства едва ли превосходит в год 3 млрд руб., что дает на жителя в среднем менее чем по 25 руб. в год, а в С.-А. С. Штатах те производства дают товаров более чем 25 млрд руб., что отвечает в среднем на жителя более чем по 330 рублей. До заработков испанских или итальянских, потом до немецких, французских и английских, а тем паче до американских нам очень далеко — по цифрам, а не по времени, которое можно сильно сократить при согласном и решительно-благоразумном действии не только правительства, но и нас всех, всех от политиканов и газетчиков до учеников и ученых, даже до литераторов и аристократов.
Возможность народу быстро богатеть природой нашей нам дана, только в обиходе нашем не имеется по сих пор основных условий, для того необходимых, более же всего самодеятельного трудолюбия, решительной предприимчивости и ясного понимания современного положения экономических обстоятельств, допускающих быстрое увеличение общего среднего достатка. Раньше, чем идти дальше, нельзя оставить без объяснения три указанных условия.
Даже допустив, что из 140 млн жителей России 100 млн живут земледелием и промыслами, с ним связанными (охотой, перевозкой по грунтовым дорогам и т. п.), все же не следует из этого выводить, как то обыкновенно делается, что для обеспеченности увеличения общего достатка народного необходимо иметь в виду исключительно земледельческую деятельность России, тем более что и земель-то много, и урожаи-то можно и должно увеличить. С двумя последними утверждениями согласен вполне, но с исключительностью, даже смягченной до преимущественности, нисколько не согласен и даже утверждаю, что тут кроется великое заблуждение или печальное отсутствие ясного понимания современности.
У нас при наших нравах, несмотря на полную для всех очевидность утверждаемого, все же необходимо назвать обвиняемых, потому что на всякое общественное явление мы привыкли смотреть как на особый вид судьбища, при котором обвиняемые должны быть налицо, а мы-де присяжные судьи. Хоть мой взгляд совершенно иной, судьи или прокурора из себя я изобразить и не думаю, но покорюсь и выставлю требуемых виновных, только не поименно — места для того недостанет, — а нарицательно: это большинство помещиков и литераторов.
Первые хоть за свое стоят, а свое добро защищать ведь, не правда ли, законно и разумно. Вторые же либо пропитаны началами первых, из которых и вышли, либо живут еще когда-то передовыми началами XVIII в., либо относятся к числу ретуширующих фотографов, т. е. пишут с неприглядной натуры, только стараясь быть ей верными, не зная никаких задач повыше простой точности типического образа, в который и не желают вкладывать предвидения, столь возвышающего образ Дон Кихота. Этих главных виновных я ничуть не хочу осудить, потому что они плод нашей истории, наша общая плоть и кровь. Хочу только сказать, что они не понимали и доныне не понимают того начально-служебного зависимого положения, которое занимает все земледельческое и сельскохозяйственное в кругу тех многочисленных промышленных дел современности, на которых основывается предстоящее, даже нынешнее среднее народное богатство, определяющее не только возможность успешно обороняться и прочно просвещаться, но и обзавестись хорошими законодателями, администраторами и судьями, так как на все это надо уделять много средств, а у бедняков все это поневоле бедновато.
Они не разумеют того, что на одном росте земледелия невозможно богатеть такому многолюдству, какое наше, потому что, вообразив все возможное достигнутым, получим такой избыток хлеба, что его цены, а потому и общие достатки упадут до полного отчаяния тех, кто над ними трудится.
Они не разумеют и того, что сельское хозяйство, совершенствуясь во всех своих частях, начиная с механических молотилок, требует все меньших и меньших рук, а в наших широтах даже при полном и желанном развитии скотоводства не может ни под каким видом дать достаточные заработки в зимнее время, а достатки могут расти не иначе как с умножением общего количества труда. Вся предлагаемая книга для того, между прочим, и писана, чтобы увеличить существующую у нас меру понимания условий для возможности увеличения средних народных достатков и для показания того, что на одном сельском хозяйстве, даже при его преобладании, этого желаемого и необходимейшего увеличения среднего народного достатка достичь невозможно. Недостаточность понимания тут очевидна не только по цифрам III и IV глав, но и по многому другому, содержащемуся в моих «Заветных мыслях».
Конечно, от недостатка в понимании зависит и недостаток промышленной предприимчивости, несомненно у нас существующей. Да, надо немало решимости, чтобы затеять у нас какое-либо промышленное предприятие, чтобы принять в нем участие, даже чтоб ясно встать за него, потому что прикосновение к промышленности обозвано «кулачеством» и «эксплуатацией» и ничему, кроме огульного осуждения в разговорах интеллигентных кругов и в печатном слове, взятом в преобладающем большинстве, не подвергается. Оттого наибольшая предприимчивость помимо завещанной от родителей является у нас преимущественно в кругах, удаленных от начал нашей преимущественно помещичьей интеллигенции, а ее участники такими делами заниматься ничуть не охочи. Тут, без сомнения, немало пережитков того отношения, которое законы и особенно администрация приняли у нас в распределении занятий жителей, глядя на все виды промышленности совершенно иначе, чем на сельское хозяйство, а тем паче на службу в правительственных учреждениях. В гоголевском «Ревизоре» это оттенено словами «аршинники, протоканальи». Закон для промышленников образовал сословие купцов и мещан, а права их мало чем отличил от крестьянских, много умалив по сравнению с дворянством, по существу служилым. Для этого последнего о какой-либо, кроме сельскохозяйственной, промышленной предприимчивости не могло быть и мысли, потому что в ней порода ничего не давала и не даст, а нельзя же было не использовать того, что предоставляется законом.
Отсюда ведет свое начало общее стремление занять служебное положение, предоставляющее прежде всего обеспеченность без каких-либо задатков предприимчивости, без следа внутреннего стремления к способам увеличения народного благосостояния, а только с требованиями личными, без каких-либо обязанностей, кроме «страха и совести», даже до забвения прямых общегосударственных интересов, «страха и совести» ничуть не касающихся.{174}
Вся наша «интеллигенция», вначале исключительно из дворян и служилых людей состоявшая, в эту сторону и пошла, тем более что даже обязанность служить или заниматься сельским хозяйством была снята.
Изменить тут надо многое, начиная с деления сословий до устава о службе гражданской, но я не приглашаю менять резко не по одному тому, что постепеновство во всем предпочитаю, но особенно потому, что, прежде всего всемерно содействуя развитию промышленной предприимчивости, вначале необходимо дать много мест или промышленных заработков постоянно прибывающей интеллигенции, иначе из огня будет в «полымя». Без подготовки учением и изучением, без риска и решительности, как и без особых и явных выгод, даже и снабженная капиталами, промышленная (да и никакая иная) предприимчивость не может быть прочной и плодотворной, увеличивающей средние народные достатки.
О капиталах много заботиться не следует, они придут сами туда, где выгоды предвидятся, а они для России с ее едва затронутыми природными богатствами нуждаются только в законодательном «покровительстве» (глава VIII) да в расширении иностранного сбыта (глава III), который без широкой предприимчивости, конечно, успешным быть не может.
Чтобы сделать это последнее утверждение не голословным, приведу лишь один случай (а таких много) из моей практики в качестве участника в экспертизе на Парижских всемирных выставках 1867 и 1900 гг. Он касается самых обычных у нас карамелек — ландрина. Они на выставках были в том самом виде, в каком по 30 коп. за фунт продаются в каждой у нас лавочке, и эксперты-иностранцы, присуждая за них высшие награды, заверяли, что громадный массовый сбыт товарам такого качества (и цены) обеспечен во всем мире. Если переделанный у нас каучук (резина) давно находит на миллионы рублей ежегодный сбыт за границей, то уже никак нельзя сомневаться в том, что разумно поведенная торговля изделиями, подобными карамелькам, где все свое и где возврат акциза с сахара при вывозе может сильно сбавить цену, должна становиться выгодной не тому одному, кто поведет эту заграничную торговлю, но и всем тем прибывающим при увеличении сбыта рабочим, домовладельцам и землевладельцам, приказчикам и всякого рода техникам, которые не прямо, а косвенно, однако жизненно заинтересованы в этой промышленной предприимчивости.
Выбранный пример, согласен, не крупен, но все же покрупнее большинства французских предметов внешнего сбыта, а из суммы малых состоят всякие большие величины. Надо же помнить, что еще в 70-х годах Россия ввозила керосин, а давно уже его вывозит на десятки миллионов рублей, что тут, как и во многом другом, рядом с возбудительными мерами наделана кучища ошибок{175}, которые немало повлияли на уменьшение результата, и в числе тех ошибок важнейшие относятся к недостаточности частной нашей предприимчивости и к великому пристрастию наших законодателей и администраторов до «казенного интереса» минуты, забывая общие интересы «блага народного», не могущего осуществляться помимо развития промышленной предприимчивости.
Мне на моем веку пришлось кроме нефтяного дела особо много вникать в железное, каменноугольное и химическое наши производства, вникать в живом деле, начиная с азов, т. е. с природного сырья, до концов, т. е. до возможности развития иностранного сбыта и с ним тесно связанных цен. Общий вывод везде был тот же самый: мы можем, коли хорошо сумеем да хорошо захотим, довести стоимость до такой низкой, какой нигде в мире, где ни бывал, а изъездил я много, достичь нельзя, стоит только умножить добычу, производство и торговую оборотливость, которая сумеет избытки втиснуть в тесноту умножающегося всемирного спроса.
В том, что сталось с нефтяным нашим делом, мировой рост которого я предвидел в 60-х годах, видно, что это не одни «профессорские мечтания», а есть тут и основания твердые, из живой русской природы взятые, для чего желающие найдут немало доказательств по отношению к железному делу в моей книге «Уральская железная промышленность» (1900 года).
А тем, кто мне скажет, что предприимчивость не умножается и не рождается в стране, лишенной известной суммы гражданских прав, отвечу, во-первых, что я стою за развитие этих прав только в постепеновском стиле, во-вторых, что гражданских прав для развития предприимчивости давно и теперь есть в России довольно, коли предприимчивость давно успела ввоз ну хоть сахара и керосина довести до вывоза, в-третьих, что только с развитием промышленной предприимчивости народный достаток может прибывать, а потому все прочее не столь существенно сравнительно с этим и должно быть сию-то минуту поставлено на вторую очередь при каком-либо желании пособить «благу народному» и, в-четвертых, что бы кто ни говорил, все же сравнение цифр общего среднего достатка в 40 рублей для России с 450 рублями для С.-А. С. Штатов иначе не может определяться и поправляться как ростом промышленной предприимчивости, что ею определились и все виды «свобод» во всем мире и что она не может расти как ей должно, пока «дворянские» наши привычки не перестанут выставлять ее в гадком виде да влечь нашу интеллигенцию к политиканству, как влекли до сих пор к казенной службе. Промышленная предприимчивость тем и взяла в мире верх, что, служа эгоизму (только не всегда и не везде), в то же время служит и благу общему, да не в каких-либо отдаленных абстрактах, а в реальных цифрах средних заработков. Вникните только в числа, собранные в главе IV.
Пусть промышленная предприимчивость сложна и условна, все же ее начала кроются в чистом трудолюбии, потому что только трудолюбец от добра добра искать станет, так как ни с чем ничего затевать нельзя, а в промышленность предпринимаемую надо вложить добро нажитое и много рисковать. А у нас и поговорка такая готова, что «от добра добра не ищут», которая беспечность оправдывает в корне, и сенсацию такую уж Третьяковский сочинил: «Блажен, кто малым доволен», — а кое-кто чуть не в догмат возвел. Конечно, мнения — вольное дело, но действительность идет по пути, на котором от добра ищут еще большего, да без конца. Причина этой кажущейся ненасытности кроется в том, что на свете нет и не будет равенства (а быть-то оно бывало, как есть, хоть и несовершенное, у животных), да в том, что основой неравенства в человечестве давно стал, в сущности, труд, хотя есть еще много переживших время остатков старой неправды, труд считающей злом.
Знаю, что останусь непонятым, но от уяснения отрицаюсь, потому что тома да утопии при этом неизбежны, а мне хочется остаться кратким и реалистом, хотя и желательно закрепить на бумаге мысли, в голове засевшие. Простая, чисто реальная наблюдательность привела меня к тому, чтобы видеть у нас, особенно же у нашей современной интеллигенции, не только нелюбовь к труду, т. е. стремление к ничегонеделанью, но и своего рода презрению к труду. Перечислять и доказывать противно, но не сознавать и того гаже. Дикарь, как зверь, хоть про себя работать должен по инстинкту самосохранения, а про труд, т. е. работу на спрос других, не слыхивал.
А все-то «благо народное», как и все достатки современности, определяется только суммой трудов, и проще или нагляднее всего это выражается в том, что ценность уже главной массы потребного определяется исключительно количеством затраченного труда, чего опять я не желаю здесь доказывать, так как желающие найдут доказательства не у меня одного. Напомнив опять, что я пишу не трактат, а только изложение своих заветных мыслей, годами накопившихся от наблюдений и размышлений, скажу для ясности, что, по мне, не только нет без явно усиленного трудолюбия ни талантов, ни гениев, но что без него никакие улучшения правительственного строя и никакие права и обязанности, законом закрепляемые, ничего сделать для приведения России к уровню Запада не в силах.
Затем скажу, что к трудолюбию привести может только школа, в которой наука (а отнюдь не что-либо подобное простому «развитию», а тем паче политиканству) стоит на должной высоте, и учащиеся трудолюбием действительно и явно для учащихся проникнуты, а в высших школах прилагают это трудолюбие ни к чему иному, как к науке. Нетрудящиеся ученики — чистая бессмыслица, а не привыкшие к постоянному труду учителя не могут быть подходящими. Наконец, скажу еще, что успехи разных отраслей промышленности в корне определяются исключительно трудолюбием, и тем более, чем они дальше от простой первичности и механической работы.
Поти, станция Закавказской железной дороги. Гравюра XIX в.
В конечном выводе, как предшествующие соображения, так и вся моя эта книга сводятся к тому, чтобы убедить в необходимости широкого роста русской промышленности, если есть мысль о «благе народном» и желание довести нашу страну до уровня более высокого, чем современный. Дело это общее для всех нас, и только чрез это посредство оно входит, и войти может в круг дел правительственных. Интеллигентные забастовки, уличные беспорядки и всякие виды и формы занятного, но бесполезного времяпровождения, понятного только как отдых, тут ни на волос не помогут, а только того гляди составят своего рода отклонение от единственного правильного пути, по которому нам идти следует, потому что, как ни важно моральное развитие личности, все же надо кормиться, и внешним образом жить, и вперед идти, без чего и мораль не предохранит от опускания.
Мировая трагедия на том и основана, что духовное, внутреннее и личное не существуют сами по себе, без материального, внешнего и общественного и сими последними в такой же мере определяются, как и обратно, с тем явным ограничением, что материально-внешнее, что бы ни говорили Платоны и всякие иные мудрецы, возникает раньше, начальнее и назойливее духовно-внутреннего (даже личное «Я» немыслимо без общения, начинаемого различием полов и стадностью){176}, а потому и удовлетворяемо должно быть первее всего. В войнах это и бросается прежде всего в глаза.
Какая же может быть роль правительства в делах промышленности, по существу определяемых личными побуждениями? По мне, та роль весьма важна и должна состоять в разумном содействии, в предвидении и в прямом материальном участии при добыче капиталов, для промышленности совершенно необходимых.
Объясню последнее примером освобождения крестьян, тем более что в благости этого акта правительства не сомневаются даже архискептики и архипессимисты. Выкуп земель при освобождении крестьян был делом такой исторической справедливости, о которой и говорить не надобно, потому что без земли оставить миллионы людей было просто немыслимо. А для выкупа земли как основного орудия сельскохозяйственной промышленности необходим громадный капитал, а он есть один из плодов труда (не одной работы личной, а труда для других). Предвидя его умножение после освобождения крестьян, правительство дало его своим кредитом и разложило на «выкупные платежи». Если получилось, в конце концов, не столько добрых плодов, сколько вправе было ожидать правительство, то причину тому должно искать никак не в очень нуждающемся крестьянстве, которое, несомненно, труд свой умножило и выкупы платило, а в помещиках, капитал получивших, так как они, взятые в массе, лодырничать не перестали, а, напротив того, лодырничество усилили и доставшиеся капиталы к умножению промышленности не приложили, а просто-напросто прожили, даже перехватили и кругом задолжали.
Тут видно с ясностью, что недостатки большой доли нашей интеллигенции могут поправляться только сызмала, учением, школой. Надо, однако, выяснить не только смысл «добычи капиталов», но и «разумного содействия» и «предвидения» правительства в деле промышленности, чтобы дальнейшее стало понятным и само собой выступило.
Возьму опять примеры из нашего же прошлого. Разумное промышленное содействие оказано было в свое время явнее всего в нефтяном деле, хорошо мне лично известном, для показания чего достаточно только хоть перечислить: прекращение монопольных откупов на бакинскую нефть, продажа нефтяных участков в частные руки с торгов, проведение Закавказской железной дороги, давшей выход избыткам продуктов за границу, и т. п.{177}
Тут и предвидения много, но его еще больше в систематическом, умеренном протекционизме всем видам промышленности, оказанном преимущественно Миротворцем, императором Александром III, наперекор тем фритредерам, каких у нас в администрации и в интеллигенции и посейчас целая уйма и для которых неубедительны факты действительности и примеры, собранные в моем сочинении «Толковый тариф», так как их не убеждает даже и то, что стальные балки, стоившие у нас в 1891 году выше 3 руб. за пуд, чрез 10 лет можно уже было иметь ниже двух рублей с провозом в Петербург, и ни то, что в 1888 году чугуна добыто в России 4 млн пудов, а в 1898 г. 131/2 млн пудов. Быстрота достижения Россией части желаемых результатов в отдельных примерах просто поразительна и убеждает в том, что нива для посева готова, надо только пахать да засевать, а то бурьяном зарастет и обработка будет затруднительнее.
Но что же делать-то надо еще, коли и так есть результаты, да еще поразительные? Ох, делать надо еще очень много, и результаты поразительны лишь относительно или в проценте к давно отжившему, а не в пропорции к богатствам природным и к количеству народа, много болтающегося более всего потому, что дел-то им ближе заработков нет, никто об этом и не думает и все только кивают на одно сельское хозяйство. Для ответа более обстоятельного перечислю то, что считаю тут наиболее важным для общего движения всей промышленности. Однако и тут всемерно постараюсь быть кратким, чтобы закончить эту и без того чересчур удлинившуюся последнюю главу, публиковать которую заставляют спешить многие из тех немногих, кого занимает течение моих заветных мыслей и их отношение к правительственным мероприятиям.
Прежде всего необходимо переменить и сделать всему свету очевидным угол зрения правительства на все дела промышленные, а то они очень у нас оказенены, как видно даже из того, что сельское хозяйство и горная промышленность соединялись с государственными имуществами, а другие виды промышленности и торговли — с финансами. И в этом не простая случайность, а своя историческая последовательность ясно сказывается, потому что не очень давно добыча металлов была государевой регалией, подобной чеканке монеты, а на промышленность и торговлю смотрели в правительственных сферах исключительно как на объекты обложения.
Взгляды и отношения давно изменились, но пока промышленность не будет совершенно объединена и обособлена в одном или нескольких особых правительственных учреждениях, устарелое отношение нет-нет да и окажется, а народу все будет казаться, что правительство относится к интересам промышленности не иначе как к интересам казначейства. Как заглавие книги, само название учреждений должно быть продумано и отвечать содержимому. Мне кажется, что, сосредоточив дела всех видов промышленности в одном министерстве и назвав его Министерством содействия народной промышленности, выкинули бы такой новый и яркий флаг, что много сердец повеселело бы. Сокращая, можно оставить — «Министерство содействия промышленности» или «Министерство народной промышленности»; все же будет думаться, что тут свежим веет, не новыми поборами, а новой подмогой.
Мне кажется притом, что не следует выделять в особое «Министерство содействие земледелию» — и вообще сельскому хозяйству, чтобы народу стало наконец ясным, что нет у земледелия никаких резких отличий от иных видов промышленности, что все они теперь одинаково нужные кормильцы народные, что все они заботу царскую и общенародную составляют. Конечно, как в историческом, так и в техническом отношениях много есть разности между земледелием, скотоводством, видами охоты, горными делами, заводскими, ремесленными, фабричными, банками, перевозкой, подрядами, издательством, мореходством, торговлей и т. п. видами промышленности, но связей и переходов конца нет, а потому все это связать в одном ведомстве и только внутри его формально подразделять.
Само собой разумеется, что не в названии и не в формальностях подразделений выразится сущность отношения правительства к делу промышленности. Сущность — в заботе и содействии совершенно точно так, как в деле народного просвещения. Связь с земством и дружное ему содействие не в сборе налогов, а в организации снабжения народа земледельческими к всякими иными орудиями труда, в устройстве образцовых хозяйств, в помощи кустарям, в переселении, в снабжении всякими товарами, в сбыте продуктов, в улучшении, а где надо или желательно, и в организации или переделке общинного, артельного и всякого кооперативного хозяйства и в целой уйме подобных дел. Тогда народ поймет скоро, что новое учреждение — друг, а не новая помеха.
А если музеями, начиная с центральных до местных и разъезжающих, подобных тем, какие уже кой в чем начаты, разведками, особенно геологическими и торговыми, издательством практических руководств, где надо лекциями, прямо техническими советами, пособиями в сношениях и целой массой подобных видов помощи посодействовать всяким видам промышленности, интересующим разные классы жителей, то признание пользы нового учреждения станет возрастать быстро.
Здесь, как и в деле просвещения и как по существу всюду, направление изменений зависит не только от законодательных указаний и постановлений, но очень много от подбора исполнителей. Их надо не только подготовлять, но и разыскивать. Не вся же наша интеллигенция такова, какой показывают себя разные забастовщики, бомбардиры и бойкотиры, есть немало и добрых, и труда не боящихся, а его ищущих, только они молчат и прячутся, в черную толпу крикунов не вмешиваются. Отыскивать их можно, и опыт, проба скоро их выкажут. Дело в закваске, в начале, в руководстве и в средствах, которые будут даны в распоряжение хорошо подобранным руководителям.
Имея перед глазами маленький опыт при организации выверки мер и весов в разных частях страны, я говорю предшествующее не зря, а по современной действительности: людей, охотно, разумно и с любовью исполняющих дело, народу явно полезное, чистое и благожелательное, всегда при охоте да при соответственных средствах найти можно в желаемом количестве, а если просвещение не застрянет, как теперь — по заветам гр. Д. А. Толстого — ожидать временно и возможно, прибывать такого народа будет многое множество, а из них легко выбирать только не по выслуге лет и не по внешним признакам должных руководителей. Начала бы только легли здоровые, а там «сама пойдет», потому что, как тяжесть, действует везде непрерывно и неудержимо охота народа покормиться и разжиться, для чего промышленность и службу свою служит.
Но невольно спросишь: да откуда же взять на все это средств? Ведь они необходимы не только для организации учреждения, содействующего промышленности с ветвями по всей матушке России, но и для реального содействия частной промышленной инициативе, особенно кооперативной, какую я со своей стороны считаю наиболее у нас по примеру артелей обещающею содействовать «общему благу». Мне, как кому угодно, кажется ясным, что за этим, т. е. за добычей средств для быстрого промышленного роста России, остановки не может быть даже помимо миллиардного народного вклада в сберегательных кассах, собравшегося в последний десяток лет.
Государственный кредитный билет. Начало XX в.
Тут-то, в отыскании средств на промышленность, более всего и необходимо правительственное предвидение, о котором упоминал ранее. Читайте цифры — увидите сами, что предвидеть легко оплату промышленных затрат самой же промышленностью. Ранее было показано, что к 1890–1900 гг. в С.-А. С. Штатах израсходовано (без погашений) почти 16 млрд рублей основного капитала на переделочные (фабрично-заводско-ремесленные) промыслы, а в год на них получено товаров более чем на 211/2 млрд рубл. Оплатить процент интереса и погашение основных затрат, очевидно, есть из чего. Немного глаголя, прямо должно видеть, что промышленность сама себя содержит и содержать будет тем легче, чем больше станет кооперативной, на складчине, на союзе, на артельном начале основанной. На промышленные дела России какой угодно заем правительство сделать может и, если распорядится умненько, может быть, даже и в «казенном интересе» выгодно, если не сию минуту, то уж очень скоро, поскорее, например, чем при займах на железные дороги. Избегается тогда и прямое участие «иностранных капиталов», которые уж вовсе и не так страшны, как их малюют, благодаря тому отношению к промышленности, которое у нас еще, увы, господствует, но свой век почти отживает и тотчас помрет, коли выкинется знамя «Министерства содействия народной промышленности». Да и целого миллиарда рублей занимать за границей тут незачем, довольно, пожалуй, будет и половины; «сама пойдет», коли дружно за лямки возьмутся. Это потому, что сам народ даст на то дело средства, коли увидит его дельность, так как ссудные свидетельства — под залоги, конечно, и только отчасти по доверию — особого, «эмиссионного», чисто промышленного банка, для того назначенного, будет покупать, как покупались выкупные свидетельства, понимая, что «промышленные свидетельства» мало чем уступят обычным закладным листам.
А коли проценты по «промышленным свидетельствам» будут чуть-чуть повыше обычных, да с их дивидендов не будет 5 % казенного сбора, да коли начинающим промышленное обзаводство, особенно же кооперативное, даны будут ввиду передового их значения для возвышения среднего народного достатка особые льготы, сбавки и отсрочки, то дело пойдет, должно полагать, ходко.
Только при всем этом понимать надо под промышленностью не одни чисто капиталистические фабрично-заводские дела, но и всю торговлю, весь близкий к земле труд, всю кустарную мелочь, всю народную изобретательную предприимчивость. Начинать надо не только устройством правительственного содействия всякого рода, но и переделкой многих законов, особенно относящихся к открытию фабрик и заводов явочным порядком, к фабрично-заводской инспекции, к продаже казенных земель и заводов и ко многому иному, явно сюда соприкасающемуся.
Незачем мне все это вступно и перечислять, если Государственная дума, канцлер и новый министр народной промышленности проникнутся желанием и волей поднять «народное благо» при помощи не только духовного подъема народного, но и чисто материального, в промышленности, взятой в целом, выражающегося.
Тогда нельзя будет обойтись без роста многих видов свободы, хотя легко можно обойтись без забастовок и всяких обычных видов уличного политиканства. Свобода для труда (а не от труда) составляет великое благо. Для тех, кто труд и долг не ставит на должную высоту, кто их обязательность мало понимает и невысоко ценит, — для тех свобода рановата и только лодырничество увеличит.
Россия, взятая в целом, думается мне, доросла до требования свободы, но не иной, как соединенной с трудом и выполнением долга. Виды и формы свободы узаконить легко прямо статьями, а надо еще немало поработать мозгами в Государственной думе, чтобы законами поощрить труд и вызвать порывы долга перед Родиной.
Тут конец моих заветных, чисто постепеновских мыслей, относящихся к правительственному строю. Надо его подправлять, а не начинать, потому что не только фундамент, но и капитальные стены и балки в нем прочности много большей, чем кажется по взгляду на облупившуюся штукатурку, на покривившиеся полы и на потускневшие стекла. Крыша уже больно плоха, ее лучше сызнова перекрыть, хоть отчасти из старого же материала, да по новой обрешетке. Когда в доме живут, крупную его ремонтировку неизбежно начинать надо с кровли. Такую кровлю в правительственном строе составляют народное просвещение и промышленность. За них и надо взяться всеми силами и, не отлагая, а то не пол, а самые балки гнить начнут.
Дело просвещения, очевидно, плохо, коли учиться товарищам классическая зрелость запрещает, объявив забастовку, коли с этим еще кокетничают, коли — ведь слышишь и видишь — на первой лекции в первом курсе студентам с кафедры сообщают, что теперь-де доказано, что простых тел нет и что все они оказались сложными, забыв, что слушатели-то ничего еще о простых телах не слыхали, коли начинающим излагают не начала наук, а только такие части предметов, которые составляют лишь отделку, подробность, желая доказать воочию справедливость давнего стиха:
- Что ему книжка последняя скажет,
- То на душе его сверху и ляжет, —
сказанного про время Рудиных. Поправлять эти дела просвещения нельзя иначе, как воспитав новых учителей, т. е. устроив как можно поскорее да все хорошенько обдумав Педагогический институт нормальный да много и других, потому что спрос на просвещение не только уже имеется, но и растет, и того гляди все от мала до велика начнут понимать, что все здоровое, которым еще кой-как держится наше обучение, составляет лишь слабые остатки и пережитки от изведенного гр. Д. А. Толстым и все по его шаблону «свободы университетского образования» возникшее и сложившееся, кроме разве счастливых исключений, ничего не дает ни просвещению страны, ни ее успехам, приобретая содержание более всего из фельетонов текущей литературы. О нашей промышленности говорить уж и не стоит, коли не может она построить нынче России корабли, коли вся она дает товаров в год всего рублей на 20–30 на душу, а в С.-А. С. Штатах — на 300–400 руб.
Вот они две первейшие надобности России: 1) поправить, хоть довести бы сперва до бывшего еще перед Д. А. Толстым, т. е. лет 25 сему назад, состояния просвещение русского юношества, а потом идти все вперед, помня, что без своей передовой, деятельной науки своего ничего не будет и что в ней беззаветный, любовный корень трудолюбия, так как в науке-то без великих трудов сделать ровно ничего нельзя{178}; и 2) содействовать всякими способами, начиная от займов, быстрому росту всей нашей промышленности до торгово-мореходной включительно, чтобы рос средний достаток жителей, потому что промышленность не только накормит, но и даст разжиться трудолюбцам всех разрядов и классов, а лодырей принизит до того, что самим им будет гадко лодырничать, приучит к порядку во всем, даст богатство народу и новые силы государству.
Во всем ином еще кое-как подождать можно, хотя сам-то я более не за ожидание, а только за постепеновство, но тут ни минуты ждать нельзя, потому что оба те дела скоропалительно, указом да приказом сделать нельзя, хотя без них начаться и они не могут. В этой неизбежной медленности двух указанных важнейших дел, латинцам совершенно неведомых еще, причина появления постепеновщины, за которою я следую. Не в личном характере тут дело, а в существе, в том понимании природы, которое самое поднятие гор и самые вулканы стремится объяснить медленно текущим и непреоборимым накоплением маленьких на первый взгляд влияний.
По мне, было время пользы и от революционных передряг, пока просвещение и промышленность не стали в числе верховных правительственных отношений, пока греко-латинщина служила знаменем «возрождения», пока судом да войнами ограничивались высшие задачи правительств. А теперь, когда просвещение и промышленность стали во главу правительственных функций, когда даже военные успехи и поражения связываются с развитием просвещения и промышленности, а они составляют дела, совершенно чуждые очень быстрого течения или скачков (каковы, например, сражения в деле военном, приговоры суда и т. п.), теперь роль и значение революций прошли и одно постепеновство будет брать верх.
Мне думается, что так было и с землей: вначале действовал сильнейшим образом революционный вулканизм, а потом постепенно стали брать верх эволюционные силы, воде свойственные, и внутренние перемены в сложении горных пород, т. е. силы на взгляд маленькие да слабенькие, а, в сущности, только медленно действующие. Конечно, и поныне вулканизм дает о себе знать, что не пропал, но общая сумма перемен, от него происходящих, ничтожно мала сравнительно с тем, что делают постепеновские силы природы.
Так, по мне, есть, но сравнительно мала уже ныне роль всяких революционных передряг, будут ли они в виде приказов и указов или в форме революций и пронунциаментов, а главные перемены все с постепеновско-эволюционным характером, а между ними просвещение и промышленность стоят ныне на первом месте. Признавая, что свобода в ее основах много приобрела от революций, утверждаю, что только развитие просвещения и промышленности ее развило, развивает и развивать будет, от тирании предохранит, незыблемой поставит и права с обязанностями уравновесит.
Согласен, что в этом моем определении течения «новейшей истории» есть своего рода предвзятость, идеализм, пожалуй, даже утопизм, что судьбы истории человечества еще темнее судеб земных форм, еще не охвачены разумом, а потому гадать далеко вперед и вообще рискованно. Но по отношению к России, да в настоящем ее положении сама очевидность действительности говорит за то, что состояние просвещения и промышленности определяет и ближайшее и отдаленное ее будущее, требует первого общенародного и правительственного внимания, составляет настоятельнейшие надобности. Государственная дума с них должна начинать, и только тогда она покажет разум народа, его голос выразит.
27 сентября 1905 г.
Глава X
Послесловие
Для конца книги написал краткую главу о мировоззрении — конечно, лишь о своем личном, дающем мне возможность оставаться постепеновцем при всем стремлении к признанию неизбежного превосходства надо всем, а потому и торжества разумного труда в его разнообразнейших приложениях к общей внешней пользе и к внутреннему благу — тоже общему, и лишь в том числе — личному.
Написал, но не печатаю, потому что изложение показалось мне недостаточно полным, требующим многих выяснений, а местами впадающим в критику и отчасти раскрывающим то, что лучше оставлять про себя. Хочется-то мне выразить заветнейшую мысль о нераздельности и сочетанности таких отдельных граней познания, каковы:
вещество, сила и дух;
инстинкт, разум и воля;
свобода, труд и долг.
Последний должно признать по отношению к семье, родине и человечеству, а высшее сознание всего этого — выраженным в религии, искусстве и науке. Выкиньте одно из каждой троицы — будет лишь анализ без полного синтеза, получится неустойчивая и слащавая шаткость, а в образовавшуюся пустоту того гляди проникнет отчаяние либо ворвется какой-то вздор, не выдерживающий первичной критики.
Быть может, когда-нибудь и попробую переделать написанное, но только не в переживаемое нами время. Теперь лишь образы, подобные Дон Кихоту, могут сколько-нибудь влиятельно действовать, только смех сквозь слезы, только отрицательная, хотя и снисходительно-брюзгливая, жалость.
А так писать не могу и не умею. Картины люблю, даже по-своему их понимаю, но учиться писать их мне поздно. Поэтому просто кончаю, сожалею о том, что пообещал то, чего выполнить теперь не в силах. Нашему брату постепеновцу молчание ведь привычно, а теперь оно хоть не в моде, да, кстати, и отвечает несомненному русскому большинству, с которым оставаться желаю.
4 октября 1905 г.
Манифест (17 октября 1905 г.) доброго, великодушного царя даровал уже народу все виды свободы и объединение правительства. Ответим на свободу усиленными трудами и твердостью воли, направленными разумно на благо Родины.
Д. Менделеев
18 октября 1905 г.
Глава XI
Приложение
Не могу, даже просто смелости у меня такой не хватает, закончить изложение своих «Заветных мыслей», не попытавшись передать своих исходных положений, выработавшихся всею совокупностью испытанного и узнанного в жизни, так как этими положениями не прямо, а косвенно определяется все мое изложение. Считаю это тем более необходимым в наше время, что оно явно занято «переоценкою» и сосредоточенным стремлением найти вновь как-то затерявшееся «начало всех начал», исходя то из субъективной самостоятельной точки зрения, то из какого-то абстрактного единства, будь оно энергия вообще, или, в частности, электричество, или что-либо иное — только не древнее исходное начало, Богом наименованное. От физики до метафизики теперь стараются сделать расстояние до того обоюдно ничтожно малым, что в физике, особенно после открытия радиоактивности, прямо переходят в метафизику, а в этой последней стремятся достичь ясности и объективности физики. Старые боги отвергнуты, ищут новых, но ни к чему сколько-либо допустимому и цельному не доходят; и скептицизм узаконивается, довольствуясь афоризмами и отрицая возможность цельной общей системы. Это очень печально отражается в философии, пошедшей за Шопенгауэром и Ницше, в естествознании, пытающемся «объять необъятное» по образцу Оствальда или хоть Циглера (в Швейцарии, например, в его: «Die wahre Einheit von Religion und Wissenschaft». Von I. H. Ziegler, D-r philos. Zrich, 1904, и еще лучше в его: «Die wahre Ursache der heilen Lichtstrahlung des Radiums». 1905), в целой интеллигенции, привыкшей держаться «последнего слова науки», но ничего не могущей понять из того, что делается теперь в науках; печальнее же всего господствующий скептицизм отражается на потерявшейся молодежи, так как ей самой, как она знает, зачастую приходится разбираться в явных противоречиях между тем, что она читает и слышит в разных аудиториях одного и того же факультета, что и заставляет молодежь считать себя судьями, а своих учителей, либо одного, либо обоих, — отсталыми, у них опоры ищущими, и только ценить «свободу», понимаемую в виде свободного халата. Известно, что скептицизм-то и сгубил казавшиеся столь крепкими устои Древнего мира, и немало мыслителей, думающих то же самое про устои современности. Не думая так, постараюсь, насколько сумею, высказать свою точку зрения, причем, во-первых, надеюсь «гусей не раздразнить», а все же сколько-нибудь выяснить те основания, на которых созидается скептицизм научного или философского свойства, и, во-вторых, начну прямо с вывода, чего советую краткости ради придерживаться и в готовящихся обсуждениях нашей Государственной думы.
Современный научно-философский скептицизм берет свое начало из вековечно существовавшего и долженствующего вечно существовать стремления людей признать единство всего внутреннего и внешнего мира, что и выражено в признании единого Бога и в стремлении это исходное понятие о «едином» по возможности реализовать или узнать ближе. Первое признавать правильным, по мне, совершенно необходимо, а второе во всех отношениях неправильно, недостижимо и к скептицизму-то и приводит.
Одни видели это единство в солнце, другие — в самодержавии, воображаемом и вечном старике, третьи — в единоличном людском разуме, четвертые — в некоем отвлеченном высшем разуме, пятые видят в какой-то единой материи, шестые — в энергии или силе, седьмые — в воле, восьмые — в индивидуализме, девятые — в человечестве, да мало ли в чем. Стремление реализовать так или иначе «единое», или «единство», есть естественное следствие пытливости, и за последнее время оно приобрело особую напряженность, когда успехи в реальных науках стали не только явно возрастать, но и быть видными даже в ежедневной жизни. Формализм, придаваемый обыкновенно всем религиозным вероучениям, не исключая ни шекеров, ни бабидов, ни протестантов, есть тоже известная реализация того, что реальным требованиям разума очень мало отвечает, потому что вечное, общее и единое во всяком случае логически выше реального, которое познается лишь во временном, частном и многообразном лишь разумом и в отвлечении обобщаемом, что и составляет область наук, а в их числе и философии, еслиона не становится на ходули науки наук. Науки, в сущности, отвлекают от прямого реализма, и если они либо по сюжету реальны, либо реально полезны, потому что дают полезные предсказания, то тем самым только подчеркивается необходимость отвлечений, их значение и полезность. Очень должна быть велика путаница мысли, когда с научными приемами хотят найти реализацию высшего единства, одним реальным выразить множество реальностей или отвлечений. Вот и выходит белка в колесе. А как это увидят, сейчас и бросают, сейчас и впадают в скептицизм по отношению ко всем и всяким обобщениям, конечно, кроме слов, которые сами по себе не что иное, как первичные обобщения. Реализация, какая бы там ни была, обобщения, столь отвлеченного, как общее «единое», или «единство», просто-напросто противоречит самому духу наук и ни к чему, кроме сомнений скептицизма, приводить не может. Порок тут вовсе не в самой идее единства, а только в стремлении его реализовать в образы, формы и частные понятия.
Никогда этого не достичь по самой логике дела, а общее «единое» не следует и пытаться представить ни в таких материальностях, как вещество или энергия, ни в таких реальностях, каковы разум, воля, индивидуум или все человечество, потому что и то и другое должно охватываться этим общим «единым», и то и другое составляет лишь предметы обобщающих наук.
Итак, я объясняю скептицизм тем, что неразумность заставляет науку, обобщающую реализм и выводы предсказаний его покоряющую на пользу людскую и тем к реальности возвращающую, — заставляет науку относиться с теми же приемами к своим крайним обобщениям. Да этого делать-то не следует, потому что научные обобщения не есть уже меняющаяся безграничность или реальность, а ограничены тем, что удалось изучить (а изучены лишь «песчинки на берегу океана неизвестного», как сказал Ньютон) до того, что стало возможным кое-что предсказывать, и эти научные обобщения должны оставаться неизменными, пока само изучение реальности не заставит их изменять, расширять и совершенствовать. Оттого-то ничего толкового и полезного и не дала и не дает вся метафизика{180}, на которой и покоится весь скептицизм.
Но довольно о нем. Во всяком случае признать громадность массы совершенно неизвестного — неизбежно необходимо. Есть или нет в той или в этой данной области познаний какая-либо грань, которую нельзя перейти, я и рассматривать не стану, потому что для передачи того, что составляет предмет моих исходных мыслей, вовсе это решать и не надобно. Дело идет о данном времени и лишь о том, до чего может ныне достигать разумное обобщение, на чем должно или может соглашаться, хоть временно успокоиться лично, вовсе помимо «начала всех начал», для которого почва создается не изучением, а тем, что называется верою и определяется инстинктом, волею, чувством и сердцем. Ведь где-нибудь да кончаются же обобщения разума? Не сводится же вся его веками собираемая в науке работа на одну разработку частностей? Где же грань современных разумных обобщений, если не в «едином» общем? Вот тут вопрос мировоззрения, задача того разряда мыслей, по которому сыздавна отличают такие просто прикладные науки, как медицинские, инженерно-технические и юридические, от философских, куда относят не только саму философию, филологию и историю, но и все математические и естественные науки. Первые со вторыми связаны так тесно, что в этой тесноте запуталось много умов, но простой здравый смысл ясно сознает, что прикладные науки движутся философскими и в то же время что философские науки разрабатываются только потому, что их хотя бы и тусклый свет все же освещает пути жизни, т. е. служит на пользу и прямо и косвенно — через посредство прикладных наук. Уже одно первичное и явно не могущее никогда закончиться искание новых частей истины, отличающее науку, прямо указывает на стремление ее к усовершенствованию и на признание бездны неизвестного; короче, служение науке учит скромности, соединенной с настойчивостью, и отучает от скороспелой заносчивости и рабства предубеждения. А так как наука исходя из действительности или реальностей постепенно все же доходит до некоторых положений или утверждений, несомненно, оправдывающихся наблюдениями и опытами, то считать их частичной истиной или «законами» право имеют. Этого-то от науки, кажется, никто и не отнимает. Но так как в республике науки «свобода» мнений обеспечена до такой степени, что нет и попыток спрашивать большинство ни тайно, ни явно, то говорить от имени науки волен не только каждый, чему-либо учившийся, любой писатель, писака и фельетонист, но и простой проходимец, а потому заблудиться в «последних словах науки» чрезвычайно или до крайности легко. И не сыщется тут, пожалуй, никаких, кроме разве отрицательных, признаков для отличия всяких форм узурпации от действительного голоса науки, так как и чутье, здесь могущее руководить, не прирожденно и приобретается только долгим и горьким опытом. Он показывает, однако, что спокойная скромность утверждений обыкновенно сопутствует истинно научному, а там, где хлестко и с судейскими приемами стараются зажать рот всякому противоречию, истинной науки нет, хотя бывает иногда и художественная виртуозность, и много ссылок на «последнее слово науки». Почитайте-ка, как Коперник или Ньютон проводили найденные ими истины, — убедитесь. Наука истинная как будто говорит или советует: «Пожалуйста, не верьте на слово и постарайтесь только проверить», — оттого со своей стороны не могу не высказать совета: за науку настоящую считайте только то, что утвердилось после сомнений и всякого рода испытаний (наблюдений и опытов, чисел и логики), а «последнему слову науки» не очень-то доверяйтесь, не попытавши, не дождавшись новых и новых поверок. Новое искание истин — это только и есть наука, но из этого вовсе не следует, что она сводится к «последним словам». Действуя в науке более 50 лет, убеждаешься в необходимости этой осторожности. Доказывать этого здесь не буду, хоть и не закаиваюсь возвратиться к этому предмету в другом месте или при другом случае. Случаев-то благо теперь множество, больше чем когда-нибудь. Да, «переоценку» хотят иные сделать и в науке, такое уж теперь время, всюду — не у нас одних — бродит закваска, и требуется ясно писать «Заветные мысли» хотя бы для того, чтобы избежать хоть части огульных недоразумений. Вот для этой-то цели и считаю необходимым вновь{181} сказать, что, по моему разумению, грань наук, доныне едва достигнутая и, по всей видимости, еще и надолго долженствующая служить гранью научного познания, грань, за которою начинается уже не научная область, всегда долженствующая соприкасаться с реальностью, из нее исходить и в нее возвращаться, эта грань сводится (повторю опять для избежания недоразумений — по моему мнению) к принятию исходной троицы несливаемых, друг с другом сочетающихся, вечных (насколько это нам доступно узнавать в реальностях) и все определяющих: вещества (или материи), силы (или энергии) и духа (или психоза). Признание их слияния, происхождения и разделения уже лежит вне научной области, ограничиваемой действительностью или реальностью. Утверждается лишь то, что во всем реальном надо признать или вещество, или силу, или дух, или, как это всегда и бывает, их сочетание, потому что одинаково немыслимы в реальных проявлениях ни вещество без силы, ни сила (или движение) без вещества, ни дух без плоти и крови, без сил и материи. Развивать здесь эту тему вовсе не думаю, даже предпочитаю остаться неясным, но высказать ее в «Заветных мыслях» считаю необходимым, потому что не один граф Д. А. Толстой, а с ним целая куча людей полагают по неведению, конечно, что, занимаясь веществом и силами, ему свойственными, естествоиспытатели не признают духа, все сводят на вещество и силы. Такие бывают и есть, не отрицаю, но только преимущественно-то они и выросли на классицизме, что доказывать — скучища страшная, да и выяснено давным-давно, хотя часто забывается.
Этими замечаниями кончаю книгу, зная или, лучше сказать, понимая, что теперь не такое время, чтобы постепеновские мысли, подобные моим, могли сколько-либо влиять на взбудораженные умы той молодежи, для которой книга эта преимущественно писана. Можно действовать тут только образами, как действовал Сервантес своим Дон Кихотом. Его вчуже и жалко, и у него чистоту побуждений нельзя не признать, а повторять его все же перестали, потому что уж очень ясно увидали, как ему подобные люди делают только вздор и смешное. Надо уметь написать о том, как, ища свободы, действуют против свободы. Увы, у меня нет этих талантов, их не вызывал и не воспитывал. Несмотря, однако, на то, что так отношусь к выходящей книге, не только не раскаиваюсь в том, что ее писал, но радуюсь тому, что ее закончил, потому что, как бы то ни было, все же будет из моей книги, надеюсь, ясно, какими мыслями проникались профессоры времен покойного графа Д. А. Толстого, которого, уж признаюсь, считаю первопричиною многих современных русских бед и образцовым умелым бедокуром и смутьяном.
Д. Менделеев
27 сентября 1905 г.
Заметки о народном просвещении России
Жизнь людей, особенно у нас в России в последние десятилетия, становится — очевидно, для всех — новою, по формам, хотя основы, состоящие в господстве христианских и государственных начал, сохраняются, даже совершенствуются. Слово — было и осталось исходом, но дело стало иным, чем было.
Все это доказывать и разъяснять считаю ненадобным для цели, которую назначил себе в прилагаемых заметках. Но тем, кто не согласен с вышеприведенными утверждениями, кто отрицает или не видит значения перемен, совершающихся на глазах современников, тем лучше не читать ничего дальнейшего, так как оно основано на завете: «Вино новое да не вливается в мехи ветхие».
Многие формы жизни стали новыми, а формы обучения до того уже обветшали, что пришло время подумать об их усовершенствовании. Вот тема моих беглых заметок педагогического свойства. После немногих общих положений (об экзаменах, о цели обучения и т. п.), я, именно, полагаю в ряде статей высказать несколько мыслей о четырех отдельных предметах, касающихся обучения или педагогики, а именно: о подготовке обучающих, т. е. профессоров и учителей; о высших, или специальных, учебных заведениях; о средних, или подготовительных, учебных заведениях и, наконец, коснуться общенародного, или начального, обучения. В своем изложении хочу идти сверху вниз, а не наоборот, не только потому, что все у нас шло и пойти успешно может только этим путем, а не обратным, но и потому еще, что лестницы лучше мести этим способом, а не обратным.
Мне надобно затем сказать, что предметы, излагаемые мною, по их значению для будущей жизни страны, требуют многотомного изложения, если все обставить в них с возможною полнотою и доказательностью. А у меня нет ни возможности, ни охоты писать такие тома; все, что могу сделать, — дать намеки, указания на тот род мыслей, который сложился в отношении к педагогическим вопросам в моей голове. Поэтому я должен ждать кривотолков и обещаю обращать мало на них внимания, поглощенного разными другими делами, которые еще желал бы успеть доделать. Пусть уж судят и даже осудят, а мне все же станет легче, когда выскажусь о деле, издавна меня занимающем.
Последнее предварительное субъективное замечание — о том, что я сам был учителем в двух гимназиях и в двух корпусах и профессором университета и разных высших специальных учебных заведений, — прибавляю для тех, кому может показаться, что я говорю только как отец и дед или как кабинетный ученый, измысливший что-то в часы досуга — больше из соображений отвлеченного свойства, чем из прямых требований современной жизни, за судьбами которой давно слежу, потому что на плечах у меня 66 лет. Не до полемики и не до общих мне мест, а назрело в жизни, хочется успеть сказать
9 мая 1899 г.
Глава I
ЭКЗАМЕНЫ
Первое общее положение, которое мне желательно выставить во главе всего последующего, формулируется до крайности просто: устные, массовые экзамены (т. е. переходные и выпускные) при обучении следует уничтожить, а на вступительные (состязательные) следует смотреть только как на неизбежную необходимость, определяемую отношением спроса (т. е. числа желающих поступить) к предложению (т. е. к числу принимаемых).
Не станем говорить о муках физических и нравственных, испытываемых во время экзаменов как отвечающими, так и спрашивающими; они всем известны по отношению к ученикам, а испытывающим я был 35 лет и всегда мучился совокупностью ответственности, лежащей на экзаменаторе, с необходимостью быстро решать, чтобы не задерживать весь ход испытаний.
Приходилось прибегать к разным компромиссам. Из них я лично выбирал вот какой: тех, кого я за год знал как способных и знающих, — спрашивал лишь ради формы; другим, которых не знал, если отвечали на первый вопрос хорошо, тотчас давал второй и третий, а когда и на них отвечали ладно — поскорее ставил хорошую отметку, чтобы иметь много-много времени на тех, кого знал плохо работавшими за год, или тех, которые ответили на первые вопросы плохо: им сменял вопросы, давал время надуматься и старался, — упрощая высоту требований, — доводить до того, чтобы они сами сознавались в недостаточности подготовки. Но и эта манера и разные другие, мне известные, не могут дать, при краткости устного испытания, возможности верного суждения о знаниях ученика никакому экзаменатору, если он не знает хода занятий своих учеников за длинный срок учения или если он не получил, чрез задачи или письменные ответы, твердого убеждения в том, что ученик действительно знает то, в чем его экзаменуют. Из своих гимназических испытаний очень хорошо помню, что в немецком я был всегда плох, а отметка вышла годная для выпуска, потому что я удачно сумел в ответе на выпускном экзамене вставить знакомые стихи Шиллера:
- So willst du treulos von mir scheiden
- Mit deinen holden Phantasien, —
которые мне понравились по звучности и смыслу, мне кем-то объясненному. В действительности, экзамены, особенно устные, всегда более или менее — лотерея, как часто и говорят; пора с этим покончить. И от этого дело обучения только улучшится, а лишние муки пропадут.
В начальных школах и низших классах средних школ уже давно и повсюду практикуется перевод и выпуск — без всяких особых массовых устных испытаний, по годовым отметкам — по крайней мере, тех, кто учился за год хорошо.
Преподаватели 1-го кадетского корпуса. Петербург. 1901 г.
Следовательно, тут отмена экзаменов не будет большим нововведением, а потому стоит говорить о возможности такой отмены в старших классах гимназий, в университетах и в других средних и высших учебных заведениях.
В старших классах гимназий и других средних школ обучение основано всюду на объяснении уроков, на задании упражнений и на том или ином виде проверки знаний учеников во все продолжение курса. Поэтому более 30, много 40 учеников в классе не держат, учителю иначе не успеть всех узнать. А такое число учеников и должно и можно знать учителю. Отметка служит помощью учителю, указателем ученику. Зачем еще сверх того экзамен со всеми его муками? — Знаю я и слыхал только две отговорки: надо — дескать — проверять учителей и полезно лишний раз дать возможность слабым подтянуться или попытать счастья. По мне, эти отговорки стоят мало, формальны и путают все дело до крайности.
Проверять учителей, испытывая учеников, можно было бы, если бы проверку вели помимо учителей и если бы за худые результаты экзаменов можно было винить только учителей, т. е. им ставить свои отметки. Но, по существу дела, нельзя ничего этого проделывать, особенно с учениками того критического возраста, о котором идет здесь речь, т. е. в 13–18 лет, когда самостоятельные мысли начали развиваться, и особенно по отношению к предметам старших классов средних учебных заведений.
Что бы ни делали, каких бы учителей ни давали, какие бы программы ни писали, в известном возрасте всегда будут одни ученики более способны и склонны к физико-математическим наукам, другие — к изучению языков или истории и т. п. Дельный учитель и разумные советы учителей всегда принимают это во внимание. Учителю нельзя также не принять во внимание прямо личные качества учеников. Иной застенчив и легко сбивается, а между тем прекрасно учится, — к нему одно отношение, а другой боек и горазд на слова, — к нему надо отнестись иначе. Это знает всякий, кто учил и учился. Поэтому без учителей, знающих лично своих учеников, судить правильно об успехах учения невозможно. А проверка учителей, конечно, необходима, но ее, прежде всего, следует делать при выборе учителей и помимо того напряженного положения, в каком находятся ученики и учителя во время экзаменов. Да и где набрать судей, способных делать правильную проверку учителей?
Помню я, как шел экзамен химии для выпускных кадет 2-го кадетского корпуса, где я учил. Тому будет более 40 лет, и говорить теперь об этом можно. Председательствовал всем тогда известный высокоуважаемый начальник военно-учебных заведений Ростовцев. С самого начала он сказал, что все предоставляет мне, потому что совершенно не знает химии и только желает узнать кадет. Сидело немало и других генералов, и они ни слова не сказали во все время, только просили ставить отметки так, чтобы им было видно.
Средняя отметка из всех была, быть может, именно по этой причине, одинаковая у всех, ставивших баллы, и только раз или два зашла речь о повышении отметки, когда дело шло об очень бойких, но посредственных ответах. Директор-филолог — как будет судить об успехах учеников старших классов по математике или, обратно, — математик об учителях греческого или латинского? Увидит он, конечно, если будет придирчивость или слабость; но что и тогда поделать, как не уговаривать в совете, если ему будет предоставлена решающая роль и если учитель дан неладный, не вникающий ни в особенности учеников, ни в тяжелое положение испытуемых, сознающих, что дело идет об их будущности и зависит от момента, от слова и случайностей?
Очевидно, что проверять надо учителей вовсе не на экзаменах, а на самом ходе преподавания, хотя главную-то проверку дадут сами ученики — когда вырастут, осмотрятся и вспомнят, что и как внушал им тот или другой учитель. Инстинктивно ценит учителя — любовь учеников, порядок и внимательность в классах, стоустая молва и вся жизнь самих учителей. Все это, а особенно посещение уроков инспектирующими лицами, может дать более верную оценку учителя, чем экзамены его учеников. Без доверия к учителю — учение не может давать добрых плодов, а доверять надо с большим выбором. Потому корень дела в подготовке учителей, о чем будем говорить особо.
Что же касается до оправдания экзаменов пользою их для слабых учеников, то, конечно, при этом подразумевают их спешную самостоятельную подготовку, но тут что-нибудь не так: либо ученье шло без достаточного внимания к более слабым{182}, либо достигалась не истинная, а только кажущаяся польза учащихся, потому что, если за год не улеглось изучаемое в голове ученика, — в недели или дни подготовки оно улечься, очевидно, не может. А дать место и шанс случайности экзаменов в деле подготовки — было бы не в пользу, а во вред учению. При сознательном отношении к делу совета педагогов, слабые по некоторым предметам ученики могут быть сознательно — без всяких случайностей экзаменов — пущены дальше, если есть указание на возможность допустить ученика к дальнейшему ходу его обучения.
Учителя, зная своих учеников, хорошо могут предвидеть, насколько можно предвидеть в жизни, имеются ли или нет у данного слабого ученика условия для успешности его дальнейшего обучения, а если этого предвидения ничто не возбуждает, — экзамен может обманывать, затягивать, а не помогать слабым. Таких надо или направлять в иные условия (т. е. или вовсе выделять из учения, направляя на иную деятельность, или оставлять в классе, если есть надежда или были обстоятельства, временно препятствовавшие ходу учения, например, болезнь, условия жизни и т. п.), или, при сколько-либо подходящих условиях, переводить и выпускать с уверенностью, что недоделанное в прошлом наверстается. Экзамены тут не помогут. Вместо них совершенно достаточны годовые отметки, и главное — общее впечатление учителей, решающих дело перевода и выпуска учеников. Для меня это так несомненно, что я считаю возможным идти далее, т. е. выставить прямые выгоды отмены экзаменов.
Кроме устранения множества ненадобных мук, отмена экзаменов должна дать, по крайней мере, две прямые и важные выгоды в деле обучения в средних учебных заведениях: сокращение срока учения и спокойствие отдыха учеников и учителей.
Время экзаменов в старших классах гимназии и т. п. длится около полутора месяцев. В это время учение во всех классах, даже если в них нет экзаменов, или вовсе не идет, или ничего не дает, потому что учителя измучены экзаменами не меньше, а больше учеников. Нормальное учение идет при экзаменах никак не более 71/2 месяцев в году, считая время вакаций. Если прибавить полтора месяца — выйдет 9 месяцев, и, следовательно, вместо 6 лет учения довольно будет 5 лет, а потому, конечно, вместо 7 лет — 6 или вместо 8 — только 7 лет.
То есть уничтожение экзаменов, помимо всего прочего, сократит учение в средних учебных заведениях, по крайней мере, на год. А это составит прямую выгоду не только родителей и учеников, но и учителей, потому что они за свое дело претерпят менее муки, могут получить высшее вознаграждение. Но главное не в этом, а в том, что ученики с той же подготовкой, как ныне, не будут выходить из средних учебных заведений столь «зрелыми» по годам, лучше будут пригодны и впечатлительны к дальнейшим занятиям в университетах и тому подобных заведениях и к самой жизни.
О подготовке к университетам речь дальше, а теперь я остановлюсь только на тех учениках средних учебных заведений, которые прямо после них поступают в жизнь, с всею ее сложностью. Как бы там ни судили о том, какие бы программы средних школ ни выдумывали, как бы их ни специализировали по предметам обучения — все же жизнь современная, да и всякая, сложнее и дробнее школы во много раз; вышедшему из нее надо учиться стать офицером или купцом, промышленником или чиновником, дьяконом или учителем — кем бы там ни было.
Прямо со школьной скамьи средних учебных заведений, даже профессиональных, не может выходить специалист, а таких-то и надо жизни не только от высших, но и от средних школ. Такова уже современная жизнь, а чем дальше, тем больше — не то, что было когда-то, еще сравнительно недавно. Так лучше выгадать год — для подготовки к этой разнообразной жизненной специальности, чем этот год тянуть в школах, а потом все же расходовать время на обучение жизненной специальности. И чем моложе по годам начинающий учиться жизненным специальностям — при той же степени школьного обучения, — тем, само собою разумеется, он легче вступит в дело, тем больше успеет в жизни, и тем жизнь больше выиграет от школьного учения. Когда на плечах много десятков лет, тогда год значит мало, а в 15–18 лет, когда кончают средние учебные заведения, тогда год сроку — великое дело.
Многих поражает то явление, что ныне при тысячах студентов выходит меньше выдающихся, чем было лет за 25 или 30 тому назад, когда были только сотни. На мой опыт, длящийся с этих прошлых времен, разность эта определяется, между прочим, прежде всего тем, что тогда в студенты поступали более молодыми и впечатлительными, чем ныне, — в гимназиях было 7, а не 8 классов, или лет учения. Если мы хотим успехов жизни России, надо начинать высшую специализацию, требуемую жизнью, как можно раньше. Уничтожение экзаменов — одно из первых для того средств. Притом, если продлится и впредь, после мирных конференций, всеобщность воинской повинности, — тот год лучше потратить на дело подготовки к защите отечества: плодов будет побольше, чем от латинщины.
Опыт всего мира показывает надобность некоторого временного, но полного отдыха, как учителям, так и ученикам. Первым — по двум причинам. Во-первых, потому, что истинное дело учителя делается исключительно нервами: надо — так сказать — заразить учеников трудолюбием, сознательным и разумным отношением к частностям жизни, мелькающим в глазах неуча в хаотическом беспорядке. Одними сухими рассуждениями — даже при полной добросовестности — ничего не поделаешь в обучении, доброго следа не оставишь, необходима работа нервов, а ее без отдыха нельзя вести. Во-вторых, учителю гимназий или тому подобных заведений нельзя стоять на месте, необходимо упорно следить за всем движением своего предмета, если он не мертвый, а мертвых предметов в школах не должно бы и быть.
Не уследишь, не разберешь чего-нибудь, а там либо ученик какой, либо родственник его обратятся с вопросом о текущей теме дня, ну, хотя бы о телеграфе без проводников, — нельзя учителю не знать этого. Следить же за наукой, разобраться в ней с чем-либо самостоятельно — нельзя, не имея особо свободного времени; дельному учителю многое приходится откладывать до времени вакаций. Время такого отдыха для учителей и без того часто должно быть короче, чем для учеников, а когда есть экзамены, дающие массу утомления перед вакацией, да переэкзаменовки после вакации, тогда не может быть прочного спокойствия учителю. Если же его не будет, — не ищите хороших учителей, светильников окружающему, настоящих просветителей для ваших детей; получим только исполнителей, а нужны возбудители. О детях и юношах и говорить нечего; всякий знает, как полный и спокойный отдых помогает им бодро глядеть на все, что им предстоит, а без этого хорошего учения в массе быть не может.
Школа. Урок географии. Бухара. 1900-е гг.
Физическая сторона возрастающего организма не менее того требует временно полного отдыха, и это так известно, что я считаю возможным идти далее, заметив только о том, что польза от полноты отдыха учеников много выиграет, когда не будет ни экзаменационной муки перед вакациями, ни всяких переэкзаменовок после них, а ход учения прямо прерывается вакационным временем. Военные школы поняли это у нас ранее гражданских.
Если от гимназий перейдем к университетам или вообще к высшим учебным заведениям, то тут на первый раз кажется невозможным обойтись без испытаний, потому что уроков здесь не задается и спрашиваний с ответами не водится, следовательно, и личного знания всякого ученика профессорами быть не может.{183} Все здесь основывается на личной самостоятельности учеников, т. е. опирается на вероятность их сознательного отношения к занятиям, а испытание назначается для того, чтобы убедиться в действительном усвоении тех специальных предметов, которые назначены для слушания и дают подготовку к той или иной жизненной специальности или к той или иной области знаний.
Обойтись без устных массовых экзаменов здесь, однако, не только легко, но и настоятельнее необходимо, чем в средних учебных заведениях. И если мне удастся доказать последнее, можно и умолчать о легкости устранения экзаменов, потому что всякому понятна польза высшего специального образования помимо прав, чрез него получаемых, а жизнь до того требует на каждом шагу высшей специальной подготовки, что так называемые «вольные слушатели» составляют обычное явление там, где все высшее образование дошло до своей настоящей нормы.
Даже в начале 50-х годов и даже в таком «закрытом» русском высшем учебном заведении, каким был в свое время Главный педагогический институт, где я сам учился, были, правда, немногие, «посторонние», или «вольные», слушатели у профессоров, подобных Остроградскому, потому что его курсы были полны живого интереса и специалистам были незаменимы. А для таких «посторонних» слушателей не может быть и речи ни о каких экзаменах. В специальных же курсах и в специальном к ним интересе содержится главная польза действительно «высших» учебных заведений. Нет этого интереса, нет этой «вольной» охоты узнать суть дела от знатока — напрасно будет все, останется только школа, разве тем отличающаяся от гимназии, что предметы более специализированы и не могут проходиться без предварительной подготовки. Тогда и надо заводить такие школы, а народу отказаться от научной самостоятельности.
Оставляя эту сторону дела до того, когда буду говорить о высших и средних учебных заведениях, скажу здесь только следующее: высший смысл университетских и подобных им специальных курсов состоит именно в возбуждении и направлении первых юных приступов к самодеятельности. Тут устные и краткие ответы испытуемых ничем помочь не могут, а потому, строго говоря, устные экзамены здесь легко устранить по истинному существу дела.{184} Они правильной оценки специальных знаний даже и дать не могут, если мы взглянем на задачу высшей учебной специализации с надлежащей жизненной точки зрения. Вот ее-то мне и следует сообщить здесь и дальше, показывая, что спрашивать надо уже дело, а не одно «слово».
Как науки сами, так всякие учебные заведения назначены для удовлетворения жизненной потребности в сохранении мудрости (т. е. изобретений и открытий всякого рода), достигнутой людьми ранее, до нашего времени включительно, — чтобы уметь приложить эту мудрость к жизни, во-первых, а затем, чтобы можно было идти — могущему вместить — и дальше самостоятельно, не повторяя одни зады.
Но «всему» научить нельзя, даже в отдельной области знаний, а потому надо в высших учебных заведениях избрать довольно узкую специальность («узнать все о чем-нибудь», по Станфорду). Поэтому даже в XVI ст. все университеты делились уже на факультеты. Но и «факультет» теперь широк до невозможности, каждый избирает в нем лишь долю и долю маленькую, если желает не только что-нибудь сам со временем сделать, но прямо узнать что-либо подлинно.
Однако окулистом или гинекологом нельзя быть, не будучи сколько-нибудь медиком вообще, а медиком нельзя быть, не будучи сколько-нибудь естествоиспытателем вообще, и естествоиспытателем нельзя быть, не получив начальных знаний в географии, математике и т. п. Скажем, примера ради, что эти последние знания дала гимназия, а все остальное — от «сколько-нибудь» естествознания до гинекологии — требуется от университета.
Что тут делать, скажут, без экзаменов? И кажется, и видится так: надо экзаменовать из естествознания (физики, химии, ботаники, физиологии и т. п.), затем из общих медицинских наук (анатомии, фармации, патологии и т. п.), а потом из специальных отраслей медицины. Но при такой уйме знаний, требования устных испытаний везде не велики и великими быть, конечно, не могут — никто, от Гумбольдта и Фарадея, не выдержал бы этих испытаний. Выпустят ли такого лечить? — Нет, нигде не выпустят; опыт жизни показал, что надо потребовать еще чего-то иного, например, для удостоверения в естествознании — работ в лабораториях, ну хотя химических или физиологических, для медицины — упражнений в анатомическом театре, в клиниках и т. п. Тут тотчас скажется всякий недочет в прошлом, тут виднее, чем в устных ответах, не только некоторая самостоятельность ученика, но и его подготовка ко всему необходимому. Тут, на живом деле, в этих лабораториях и клиниках и надо искать замены экзаменов.
Профессору — руководителю всего этого, конечно, не одолеть одному, у него должны быть подручные помощники, но — сам ли или через них — он может и должен знать каждого, кого аттестует на деле, а не на одних устных массовых испытаниях.
Экзамены-то и выпадут как лишняя формальность, дающая возможность проскользнуть не знающему дела, а знающему только «слова».
Что сказано о медицине, легко перенести на все науки, касающиеся природы внешней. Что тот за химик, кто не работал в лаборатории? А если работал, там нашелся и разобрался, сделал назначенное и выбранное, нечего его и спрашивать устно — дело лучше слова, оно одно и надо в действительной жизни, с ним юноша и без аттестата не пропадет в жизни, в отчаяние не впадет и «слов красных без дел ясных» слушать не станет; спросит всегда: а что будет на деле?
Но и тут есть свои трудности, которые выставлю в примере слушателей математического разряда, которым начала химии нужны (для физики, астрономии и т. п. и для истинного просвещения), а работать в лаборатории невозможно за множеством иных дел. Ну и сообщите им о том, что химию им знать необходимо, устройте так, чтобы они могли узнать ее основания, а о том, что они узнали, осведомитесь или при работах по физике, или, если и это сочтете непригодным и недостаточно точным, заставьте их отвечать письменно (под надзором, если надобно) на вопросы элементарного свойства. Тогда и времени больше подумать найдется и всяких смущений и подлогов может быть меньше. Но и этого, по-моему, не надо. Пойдет он работать по физике — сам наткнется на необходимость знать кое-что в химии, необходимость заставит, если к работам по физике предъявлены будут достаточно высокие требования.
Только все это из канцелярий нельзя видеть, всех сочетаний не охватить, и разнообразия неизбежны уже потому, что профессора не могут быть тождественны. Многое надо предоставить сочетанию местных и временных условий. От этого Эдинбургский и Кембриджский или Берлинский и Геттингенский университеты друг от друга во многом различны и с годами их взаимные отношения изменяются. Об этом мало пишут, но это все, кому надо, хорошо знают.
Особенной пользы можно ждать от применения испытаний на деле в чисто технических высших учебных заведениях, если под делом подразумевать не только практические занятия в лабораториях, но и проекты по назначению и по выбору, потому что при этом легко узнать подготовку испытуемого во всех частях соответственных подготовительных наук, о чем предполагаю говорить в дальнейшем изложении, да это отчасти и практикуется у нас на деле.
В отношении наук, подобных математике, филологии и т. п., испытания, помимо устных массовых экзаменов, легко заменимы письменными решениями подходящих задач, назначаемых профессорами и избираемых самими испытываемыми, причем легче убеждаться в подлинности авторства, чем при устных ответах на экзаменах, где бывало иногда, что ответ дает не тот, кому ставится отметка. Экзаменуются сотни незнакомых — тут легка подстановка и бывает. Во всяком случае, при предлагаемом порядке будет больше сближения профессоров со студентами, чем ныне. Во всякие подробности входить здесь, однако, неуместно, да и пора уже перейти к другим общим вопросам обучения. Однако прибавлю еще две беглые заметки. Уничтожение экзаменов в наших высших учебных заведениях даст еще больший выигрыш во времени преподавания, чем говорено выше по отношению к гимназиям, потому что экзамены здесь занимают больше времени и число дней для курсов меньше, чем в гимназиях. Это ясно каждому, кто хоть сколько-нибудь знаком с делом нашего обучения.
Профессорам, говоря о внимательно относящихся к делу, будет, пожалуй, немного потруднее, чем ныне, но если выиграет результат, т. е. подготовка к жизни и оценка выпускаемых, то трудность легко наверстать двумя способами: увеличением окладов и помощниками, подобными тем, какие существуют в Англии.
9 мая 1899 г.
Глава II
О НАПРАВЛЕНИИ РУССКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И О НЕОБХОДИМОСТИ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ{185}
Сперва и люди, как многие животные, жили только семьями и общинами. Потом додумались до пользы государственного устройства и до расширения его граней во многих отношениях. Ныне человечество мыслимо только как разумная связь государств, а общественные школы — как один из плодов государственности.
Речь моя касается впереди только до русского школьного образования, отвечающего современному состоянию России, как я его понимаю. Государственная школа не исключает семейного и общечеловеческого образования, а только их формирует и связует, потому что само государство исходит из семейства и ведет к общечеловечности, ясно видимой в том, что весь шар земной уже охвачен до концов и во все его закоулки проникают единые общие начала. Конец веков «Новой истории», начатой Колумбом, уже виден, и века «Новейшей истории» начнутся с близким концом колониальной эпохи и с водворением некоторого общего единства, по-видимому начинающегося в совокупных усилиях наций на берегу Печилийского залива, где старое вступило в бой с новым, где слышен погребальный марш классицизму и Тамерланам всяких цветов.
Готовящиеся к наступлению века будут, несомненно, веками жизненного реализма, стремящегося не вширь, а вглубь и в высоту. К тем векам следует готовить нарастающие поколения. И мы, русские, можем вступить в них впереди иных народов, приспособив к тому все наше школьное образование, ибо идеалы наши не сзади, а впереди, и у нас нет общей цельной системы государственного образования, так как современная смесь классицизма с профессионализмом есть явление, очевидно, случайное, бессистемное и нам мало подходящее.
Первые училища, распространившиеся в России, были духовные. Так требовалось потому уже, что религия была заимствована, а предания и обычаи, передаваемые в семьях помимо всяких школ, не только не были достаточны для духовного образования народа, но и следовало их заменить совершенно новыми — для правильного роста страны, что успешнее всего достигается только с помощью школ. Ах, как все это надо не забывать, обсуждая дела русского просвещения во все времена, до настоящего включительно, так как не все же старое и обычное на веки вечные полезно сохранять, и многое непременно следует, при помощи школ, прочно заменять тем, что нужно для современного периода роста страны, народа и государства!
Иначе ведь будет новый Китай, где школа назначена только для консерватизма содержания и форм. А может ли ныне кто-нибудь завидовать участи Китая? Однако он сохранялся веками — все же благодаря только своим школам, ибо в них сила, побольше многих иных, сокрушивших сильнейшие государства, недостаточно заботившиеся о школах для своего народа.
Все мы знаем плоды, достигнутые свержением старых языческих кумиров и устройством новых, христианских кафедр в России. Православная Россия могла ли бы сделаться такою самобытною — без этих духовных школ, долженствовавших, дать образцы, или примеры, и наставников, или пастырей? Да и могут ли многие самобытные стороны силы народной родиться, распространяться, развиваться и совершенствоваться без целесообразно организованного школьного образования? Наши желания и упования, которыми определяются все наши действия, не слагаются ли в большей своей части в школьный период жизни и не будут ли они без планомерных школ противоречивыми, сбивчивыми, разрозненными, эгоистическими и бессильными?
Надеясь на правильность и единообразие ответов по вопросам, поставленным выше (и отчасти предлагаемым далее), в немногих словах постараюсь закончить это вступление, необходимое для ясности всего последующего.
Понадобилось нашей стране, при ее самостоятельном росте, организованное войско — и нельзя было не завести военных школ, хотя драться всегда умеют без учения и особо учат при поступлении в состав войск. Суворовы, Кутузовы, Скобелевы, Драгомировы и несть числа, сколько иных русских воинов, прославивших наше войско, вышли из этих самых школ. Могла ли бы Россия занять свое современное положение среди вооруженного мира, если бы не имела целой системы школ для военного обучения и образования на разных его ступенях?
Прямая необходимость заставила позаботиться затем о том, чтобы увеличивающийся штат чиновников всяких ведомств, так необходимый развивавшемуся государству, имел потребную степень образования, определяющего грамотность — повыше писарской, гуманность в отношении к жителям и, сверх того, во многих случаях специальную подготовку: юридическую, медицинскую, инженерную и т. п. В ответ на это требование созданы были те школы всех порядков, которые лучше всего можно назвать литературными, потому что преимущественно этот характер получила тогда наша средняя школа, и развитие этих школ положило прочное начало расцвету у нас, с одной стороны, образованного чиновничества, щеголяющего стилем и последовательностью изложения, а с другой стороны — самостоятельных литераторов, ученых и художников — от Карамзина и Пушкина, от Лобачевского и Остроградского, от Глинки и Перова.
Не условия русской частной жизни, со всеми ее тогда простецкими, но насущными требованиями, имелись при этом в виду, а некоторое идеальное и властное от них отвлечение, правда, возвышающее людей над общим уровнем, но отрывающее их от важнейших и первичных интересов всего народа, которые представлялись сами себе и презрительно прозваны были тогда — в лучшем случае — «мещанством», поныне страшным для многих из наших образованных людей.
Между живым делом народа и его образованностью тогда не искали связи, даже создали особого вида пропасть, посейчас едва начинающую заполняться, да и то благодаря не славянофилам, народникам и толстовцам, а только освободительным мерам 60-х годов, железным дорогам и развитию — за последнее время — промышленности. Только недавно передовые русские перестали стыдиться говорить между собою по-русски, и я еще хорошо помню время, когда степень образования почти измерялась свободностью французского изложения мыслей. Однако не вся сила русского образования ушла в это «горе от ума», в этих «героев» своего времени.
Почва все же сказалась в слове, потому что вначале всегда бывает слово. Слагалось понемногу свое суждение, и чисто русские голоса стали слышаться. И если мы получили ныне в мире свой особый цвет, то этим обязаны не только тому одному, что составляет могущественное государство, но также отчасти и тому, что наши гражданские учреждения, наша литература, наши науки и художества доросли до того, что, прямо или косвенно, много или мало, стали уже влиять как на внутреннюю жизнь страны, так и на внешние ее отношения. Так, например, наши финансовые мероприятия изучаются, наших писателей переводят, голоса наших ученых стало необходимым принимать во внимание во многих научных областях, а наших художников везде желают видеть, слышать и узнавать.
Для цели моей статьи особо важно обратить внимание на то, что образование, вызванное потребностями народно-государственными, не только скоро дало ожидавшиеся от него результаты, но и явно превзошло ожидаемое. Желали укрепить христианское просвещение, а народ стал — в целой своей массе — не менее христианским, чем другие народы, ранее нас получившие духовные школы, выдвинув из себя образцовых пастырей Церкви. Потребовалась от школ военная подготовка, и народ дал войско и передовых воинов — на славу. Прошло едва одно столетие с учреждения тех школ, которые выше названы литературными, — а уже во всех управлениях найдется много просвещеннейших чиновников, выдались и образцовые; литература же, искусства и науки дали уже немало имен, везде известных и навсегда долженствующих сохраниться.
По сообразованному плану обучения, как в сказке — по щучьему велению, — все даст этот стомиллионный народ, способности и гений которого признали все, сколько-либо его успевшие узнать. Богатые руды скрыты в почве народной, и школа даст им выйти на Божий свет. И никому на свете, а тем более нам самим, не чуждо ясное сознание того, что у России еще многое впереди, что она еще и ныне — «молодое» государство и что способом верного превращения молодого в зрелое должно быть не одно время, а в соединении с обдуманною системою всего образования, что вложенное в школы окажется на деле чрез одно или два поколения. Если же чего-либо не развили при посредстве школ, расцвета того не ищите в массе даже просвещеннейших духовных, военных и литераторов, хотя бы то и отвечало существеннейшим склонностям народа.
А какие требования вложены в нашу последнюю, современную систему просвещения, особенно центрального, т. е. среднего, разбирать не стану теперь — по трем причинам. Во-первых, потому, что в свое время, когда вводилась нынешняя система среднего образования, устно, письменно и печатно я уже говорил об этом и с тех пор существа своего мнения не переменил, так как предвиденное тогда — теперь стало у всех на глазах. Во-вторых, наводить критику на столь сложный предмет, как система образования, хотя и довольно легко, но опасно, не потому, что, пожалуй, этим гусей раздразнишь, а потому, что критика увлекает и, того гляди, не оставит места для положительной стороны изложения, да и без меня уже многие в последнее время навели эту критику — пришлось бы, может быть, повторять ранее слышанное. Меня же льстит мысль по мере моих сил оформить не отрицательную, а положительную сторону педагогических суждений, витающих в русской среде, слышных везде. В-третьих, — и это самое главное — мнение мое о современной системе школьного образования, особенно среднего, обрисуется само собой, когда стану пробовать излагать положительную сторону своих посильных педагогических соображений.
Ни на минуту не обольщаюсь при этом даже тенью мысли о том, что эти соображения будут полны и непреложно верны, и если их решаюсь излагать, то лишь потому, что теперь пришло, мне кажется, время, когда не одни чисто государственные, но прямо народные, частные надобности заставляют искать не просто чиновного и литературного общего образования, прозванного многими «языческим», а более жизненного и притом чисто русского.
Запрос не на критику, а на обсуждение обдуманного вперед направления русского образования слышится мне у нас повсюду (он существует ныне и в других странах, и там, особенно для средних школ, ищут новых начал), и мне желательно ответить на него сперва вообще, а потом (т. е. в следующих статьях) в некоторых частностях, так как одних общих положений здесь, очевидно, мало, а одни частности приличнее властному законодательству, чем скромному мыслителю, желающему поделиться своими соображениями и опытом. Пусть хоть осудят, но, может быть, и задумаются.
Но раньше чем говорить о каких бы то ни было сознательных началах, которые желательно вложить в русское на всех степенях, а особенно в среднее образование, следует выставить на вид совершенную необходимость для проведения в жизнь сознанных начал — специально подготовлять самих учителей, если не всех, то, по крайней мере, образцовых, нормальных, если можно так выразиться. Это — в свое время — ясно понимали у нас; для этой цели и существовал давно уже закрытый Главный педагогический институт, питомцем которого был пишущий эти строки, вместе с множеством других педагогов, оставивших свои следы на всем просвещении России — за известное уже истекающее ныне время. Теперь они отживают век.
Достаточно вспомнить — хотя бы только примера ради — между физико-математиками имена уже сошедших в могилу И. А. Вышнеградского, Н. Н. Страхова и К. Д. Краевича, чтобы показать, каких видных людей, каких плодовитых ученых и писателей выпускал названный институт. Не менее половины имен его воспитанников знает вся или большая часть России; добрая слава слышна о живущих еще и посейчас, а между умершими немало было лучших русских профессоров, учителей, писателей и ученых. Так как факт этот сам по себе примечателен и может давать повод думать, что такой результат достигался исключительно строгим выбором поступающих, — чего, могу заверить по собственному примеру, вовсе не было на деле, — то считаю не лишним остановиться на его объяснении, как я его понимаю, проведя большую часть жизни в педагогической деятельности.
Мое объяснение мне кажется столь простым, что его увидит каждый, когда узнает, что все заведение было «закрытым», имело первоклассных ученых профессорами и что от каждого, выдержавшего немудрое поверочное вступительное испытание, требовали расписки, обязывающей прослужить по учебному ведомству, — там, где будет назначено, — не менее двух лет за каждый год учения в институте. Тут все важно само по себе и, наверное, не было случайным, а было разумно соображено заранее. Ведь можно было бы, например, и просто объявить, что за учение предстоит обязательная служба там, куда пошлют. Нет — требовали расписку. Очень я хорошо помню, что в те 16 лет, которые прожил до поступления в Главный педагогический институт, никаких я никому расписок — да еще на какой-то отдаленный срок — никогда не давал. А тут заставили всю расписку самому написать. Оно, во-первых, удивило, во-вторых, было как-то лестно чувствовать себя уже решающим свою судьбу, а в-третьих, заставило много и не раз подумать с самого начала о том, что каждому из нас предстоит. А так как и все тут были такие же, вступившие в свободный договор и в одинаковый, да сошлись со всех концов России, одни из гимназий, другие из семинарий, одни с Кавказа или из Сибири, другие из остзейских и польских губерний, то взятые расписки влияли и на самых беспечных, неизбежно заставляя обдумать предстоящую карьеру и находить в ней свои скромные жизненные идеалы.
Когда-нибудь, если успею, я опишу, насколько помню, студенческую нашу жизнь в Педагогическом институте; она не лишена своей поучительности для нашего времени, а теперь мне достаточно сказать, что внешних, материальных забот о квартире, столе, одежде, книгах и т. п., что отнимает много покоя, сил и времени у современного студенчества, у нас вовсе не было, — все было казенное; профессора же были подобраны первоклассные, например, для физико-математического факультета такие, как Остроградский, Воскресенский, Куторга, Брандт, Рупрехт, Ленц, Купфер и т. п., да и всякие научные пособия были под руками, библиотеки, лаборатории, кабинеты, музеи. Юный пыл тут не погасал, а разгорался, ему давали всю возможность направляться к делу науки, и она захватывала многих людей уже на всю жизнь. Таковое свойство науки проявляется у нас повсюду, где есть хоть малая совокупность подходящих условий и нет предварительной порчи разными способами, особенно карьерным классицизмом. Конечно, не все погружались в науки, но, хорошо помню и знаю из результатов, — очень многие. Вот от этих-то примеров все почти и работали во всю силу, так как и в науке есть заразительность.
При этом все помнили, что дали свою личную расписку и что во время студенчества надо сделать все возможное, чтобы жизнь потом не заела, часто об этом толковали и после выхода из института были уже подготовлены к своей деятельности не одними курсами педагогики, все освещавшими верхним светом, а более всего взаимным общением, проникавшим во все щелки педагогического дела молодыми, пытливыми глазами людей, принесших со всех концов России свой школьный опыт. Совместная жизнь, отсутствие внешних забот, руководительство первоклассных профессоров (мы тогда их каждого понимали насквозь и часто обсуждали — да и везде студенты тонко знают профессоров), привычка к самодеятельности, которой покровительствовало внимание профессоров и товарищей и многократное предварительное обсуждение всех подробностей учительской жизни — вот что вырабатывало учителей в Главном педагогическом институте. Его закрыли под влиянием модных — для своего времени — мыслей о пользе вмешать студентов в самую жизнь, заставляя погружаться во все ее мелочи в период своего учения.
Слушательницы женской учительской семинарии. 1902 г. Фотография из коллекции М. С. Парийского
На давний и славный опыт закрытых английских университетских колледжей, даже на опыт Главного педагогического института и не думали ни минуты обращать внимания, а об учителях говорили прямо, что «свято место пусто не будет», т. е., что учителя найдутся и среди тех, кто не готовился к этому скромному, но почетному званию. Оно, пожалуй, так и можно было бы соображать, если бы педагогическая деятельность состояла только в обучении тому, что распространилось уже в жизни.
А когда педагоги должны содействовать перестройке жизни на улучшенный, сообразно времени, лад, тогда особая продолжительная подготовка учителей, их долгая дума и разбор ими всех мелочей в кругу однокашников, вместе с некоторою идеализациею предстоящей деятельности и с предварительным разбором ее по косточкам, да в период молодой энергии, все желающей пробрать до конца по внешности и до идеала — изнутри, наверное, должны давать несравненно более надежный результат. Не хочу я этим сказать, что будущий Главный педагогический институт должен быть простым сколком с некогда бывшего, а желаю только внушить мысль о том, что учительское и профессорское звание заключает в себе столько чисто специальных особенностей, требует такой внутренней долгой подготовки, что для них нужнее, чем для многого другого, специальное высшее учебное заведение, вроде того, как для подготовки хотя бы моряков, художников, архитекторов.
Атак как высшее зло, особенно для средних школ, которого надо бояться в учителях, состоит в узости их педагогических убеждений, то от будущего Педагогического института необходимо требовать, чтобы в нем были вместе и рядом всякие факультеты, а не какие только-либо одни, например, отдельно — институт для математиков, другой для филологов, третий для натуралистов, четвертый для учителей прикладных или технических знаний. Взаимное трение в молодые годы между готовящимися быть специалистами, а особенно воздействие людей, посвящающих себя таким абстрактным наукам, как, например, математика, на лиц, занимающихся реальными (например, естественными) и прикладными (профессиональными, например, юридическими и техническими и т. п.) науками — так полирует ум, что грубая, а в педагогическом смысле — даже и очень опасная, односторонность поневоле исчезнет от тесного и долгого общения со сверстниками иных специальностей.
Знаю я, что студенческого общения и тесноты их сближения у нас теперь стали бояться из-за так называемых «студенческих историй». Но при этом прошу обратить внимание на то, что такие «истории» начались у нас именно тогда — с 60-х годов, — когда уничтожили тот вид тесного общения, который существовал прежде у казеннокоштных студентов и был так развит в Главном педагогическом институте. Без общения и некоторого вида взаимного воспитания друг другом не может обойтись никакая школа, от начальной до самой высокой — специальной. Это взаимное школьное общение приучает к условиям жизни посильнее забот о квартире или столе, делает людей практическими, и — что более всего характерно для школ — воспоминание о нем живет всю жизнь в лучшем уголке памяти. Это общение дает истинный смысл и важные преимущества школьному образованию, по сравнению с домашним; дом семьи есть первый основной пример общественности, а школа — второй, а учить надо не для личных, а для общественных целей.
Государственные школы всех порядков должны научать и воспитывать в общественности уже потому, что государство есть ныне высшая форма общественности, а она без духовного взаимного общения просто логически немыслима, так как одно механическое сближение — на общих скамьях — так внешне и грубо, что молодежь удовлетворить не может. Если не будет существовать между студентами духовного общения в естественном его виде, потребность в нем должна проявиться хоть в изуродованном виде. А если вовсе не будет этой потребности общения, — то знак недобрый, эгоистического или, в лучшем случае, аскетического, мертвого, государству чуждого свойства.
Тот ничего не смыслит в педагогике, кто упустил из виду значение общения между студентами, да еще разных специальностей. Но так как речь моя только случайно коснулась этих «студенческих историй», то я воздержусь от развития этой стороны предмета, а постараюсь закончить свое отступление — в сторону образования учителей — следующими положениями, составляющими вывод из моих посильных мнений об этом предмете:
1. Так как России предстоит еще много развивать свои школы, чтобы из страны «молодой» стать «зрелою», то в ней настоятельно необходимо устройство, по крайней мере, одного нормального высшего учебного заведения, специально приноровленного к подготовке учителей главных предметов, преподаваемых в средних учебных заведениях. Наши друзья французы, всегда имевшие свою знаменитую Нормальную школу в Париже, завели недавно «нормальные» школы во всех округах.
У нас же и одну, плодотворно действовавшую лет 60 под именем Главного педагогического института, закрыли, а устроили затем только подготовку учителей-филологов для классических гимназий и школы для подготовки народных учителей, что составляет лишь каплю в океане требующегося у нас комплекта учителей. А без правильной подготовки целой их массы всех благих результатов от расширения числа школ ждать, по моему мнению, никоим образом нельзя. Обдуманная, цельная система образования, нужная России, должна начаться именно с устройства высшего училища для приготовления учителей. Со случайными, неподготовленными учителями, да в столь обширной стране, как Россия, толку от учения будет много меньше, чем может быть.
2. Науки в чистом виде, сами по себе, а не одно их приложение к учебному делу (т. е. методика и т. п., как в учительских семинариях), должны составлять предметы занятий будущих педагогов, потому что государству, в его современном состоянии жизни, от училищ прежде всего надо требовать истинных жизненных знаний, и тот только учитель и будет действовать плодотворно на всю массу учеников, который сам силен в науке, ею обладает и ее любит. Будут готовить учителей гимназий, а из них выберутся и профессора для высших учебных заведений. О заготовке их в последнее время как-то забыли, и это скоро должно отозваться общим понижением уровня нашего просвещения, так как мы все еще очень молоды в научном отношении, а научные карьеры у нас полны терний и не особенно привлекательны ни в каком отношении, особенно за последнее время. Без увлечения наукой нельзя ждать массы дельных учителей и надлежащих плодов от умножения школ.
3. Факультетское деление, даже очень дробное, для высшего педагогического учебного заведения совершенно неизбежно не только потому, что весь строй влечет отдельных лиц к различным разрядам знаний, но и потому, что уровень всех отраслей знаний и их содержание ныне быстро повышаются, а учителя, как местные светочи науки, должны стоять на полной высоте современных знаний в своей специальности. Обсуждать и охватывать может способный человек очень много разных научных областей, но учить плодотворно и систематически, даже в среднем учебном заведении, ныне можно только понемногу, так как самое сложение (концепция) разных отраслей знаний часто уже глубоко между собою различается. Старое факультетское деление уже везде почти должно уступать место более мелкому подразделению (на отделения), потому что научные области расширяются, а учителя неизбежно должны вникнуть в тонкости избранной специальности, чтобы обладать ею и разносить свет знаний во все углы России.
4. Так как жизнь уже вызвала у нас технические и сельскохозяйственные учебные заведения и в них нужны свои профессора и учителя, то современный русский Главный педагогический институт непременно должен иметь и факультет прикладных знаний или несколько отделений в высших курсах, так приспособленных, чтобы физико-математические и естественно-исторические основания прикладных знаний его слушателям были известны во всей должной полноте.{186}
Политехникумы и сельскохозяйственные академии, конечно, могут дать, между прочим, и учителей соответственных знаний, но высший их сорт — если можно так выразиться — можно ждать только от специального педагогического учреждения, если в нем будет свой технический факультет. Оттуда, я думаю, и должны выйти наши оригинальные, свои научные руководители русского сельского хозяйства и многих отраслей нашей техники. Узкие, чисто практические институты едва ли их могут дать, так как там недостает той атмосферы чистого знания, которая одна творит настоящих творцов. Ах, я знаю, что приходится мне подчас говорить не сладкие вещи, но лучше говорить, чем молчать, если опыт жизни настойчиво внушает определенные понятия!
5. Устройство и содержание даже одного, первого такого (со многими факультетами) Педагогического института, конечно, будет стоить не менее, чем двух университетов или политехникумов, тем более что потребуется содержать большой штат профессоров и их помощников и много воспитанников, да всех их окружить всякими научными пособиями, а все это стоит дорого. Результатов же придется ждать дольше, чем от вновь учреждаемых политехникумов, совершенно необходимых современной России. Тут уже ничего почти нельзя поделать, разве, кроме того, что связать предлагаемый институт с Академией наук, так как у нее есть уже кое-что готовое, есть немало специалистов, да и мысль Петра Великого состояла в том, чтобы Академия наук служила России не только разработкою наук, но и для образования в ней образцовых учителей. Однако осуществление мысли этой, не раз мною слышанной, едва ли поведет к заметному сокращению расходов, а главное — будет противоречить началу, советующему «вино новое не вливать в мехи ветхие», а у Академий всяких, в том числе и у нашей, столь много старых традиций, что новое начало прививать к ним труднее, чем начинать сызнова. Но пусть расходы будут велики, пусть и проценты на них станут увеличиваться только чрез десятки лет, — лишь было бы твердо установлено специальное образование учителей, лишь родилась бы, хоть для внуков, если не для детей, школа с учителями действительно образцовыми.
Нельзя же, заботясь о том, чтобы были у России всякие свои специалисты, забыть о том, что ей всего нужнее хорошие учителя.
Это так мне кажется ясным, что я считаю возможным перейти к изложению общих своих соображений о тех задачах, которые, по моему мнению, следует иметь в виду, обсуждая систему образования, пригодную для России при ее современном и предстоящем положении.
Основную тему моих педагогических мыслей, как заметил, вероятно, и сам читатель из начала статьи, составляет желание распространить убеждение в том, что школа составляет громадную силу, определяющую быт и судьбу народов и государств, смотря по основным предметам и по принципам, вложенным в систему школьного образования, особенно среднего.






