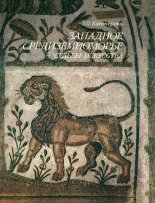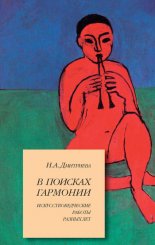Рукопись, найденная в чемодане Хелприн Марк

– Нет. Не гниет. Оно не может гнить.
– Это неправда, Дейв, – сказал он (хотя зовут меня вовсе не Дейвом). – Мы все время находим плохие бруски.
– Нет, Шерман. Оно не может гнить. Может только тускнеть, подвергаясь воздействию определенных реагентов, но только на поверхности. Внутри оно никогда не портится.
– Никогда?
– Никогда. Оно не гниет.
– А мы думаем, гниет. Поэтому мы его и выбрасываем.
– Я знаю, что вы так думаете. Я это понимаю. Скажи, а что вы определяете как сгнившее золото?
– Мы не даем ему гнить, – сказал он, тряся своим куполом – Если в куче оказывается одно плохое яблоко, тогда и остальные склонны за ним последовать.
– Знаю, что вы не даете ему гнить, Шерман. Я спрашиваю, как вы узнаете, что оно сгнило?
– Мы это видим.
– Что вы видите?
– Сгнившее золото.
– Что такое сгнившее золото?
– Золото, которое сгнило.
– Уф, – выдохнул я и на мгновение задумался. – Скажи мне, как оно выглядит.
– Оно не блестит.
Я ожидал продолжения, но больше он ничего не сказал.
– И это все?
– Все – что? – спросил он, оглядываясь по сторонам.
– Оно не блестит?
– Что не блестит?
– Сгнившее золото.
– Именно, Дейв. Так мы и узнаем, что оно сгнило.
Глаза его обратились к потолку, как бы говоря: ну что за тупица на мою голову!
– Значит, ты имеешь в виду, что золото сгнило, если оно не блестит.
– Ну вот, теперь понял, – сказал он. – Только мы сами не знаем причины. Мы не знаем, что заставляет его гнить.
– Шерман, можно еще вопрос?
– Да?
– У вас здесь до черта гнилого золота, так?
– Да, так оно и есть.
– Тогда почему бы вам не штабелировать его в сорок восьмом отсеке, который пуст? Может, оно там исправится.
– На это я никогда не пойду, – сказал он. – Как только мне попадается гнилой брусок, я его выбрасываю. Не хочу, чтобы зараза распространялась.
– Клади его в мешки.
– В мешки для мусора?
– Да, в мешки для мусора.
– Ты что, издеваешься? Не знаешь, как дорого они стоят?
Я сдался. Какое-то время я бегал за мусоровозами, но потом бросил. Я старался как мог, но было физически невозможно обследовать под завязку загруженный мусоровоз за те несколько минут, что отводились ему на проезд до базы. Там они сбрасывали свой груз на стоявшую в Гудзоне баржу, и золото возвращалось в море, откуда когда-то пришло. Как же я мог против этого возражать?
Если я что-то и ненавижу, то ненавижу я оставаться в помещении, когда на дворе стоит чудесная погода. Даже в бури и холода я неизменно предпочитаю бродить по холмам или пробираться через леса, полные полян, где никогда никого не было – или, по крайней мере, где никто не задерживался дольше нескольких минут. Никогда я не испытывал большего счастья, чем когда находился возле прозрачного озера или ручья или на какой-нибудь вершине Новой Англии, наблюдая за солнцем, рассыпающим блестки на возделанные поля и безмолвные городки.
По одной только этой причине, вне всякой зависимости от бедствий, связанных с работой, я начал сходить с ума. Если прежде я и в кабинете-то своем бывал не часто, а когда бывал, то всегда имел возможность открыть окно, то теперь меня со всех сторон окружали каменные стены. Грозы, вьюги и ураганы и ясные денечки приходили и уходили, а мы в своем подземелье ничего об этом не знали. Зимой я вообще не видел дневного света: в темноте туда опускался и в темноте же поднимался оттуда. Над столом Осковица висел календарь с изображением коровы, пасущейся на швейцарском горном склоне. Глубина, перспектива и колористическая гамма этого изображения были настолько прекрасны, что каждый раз, увидев его, я спрашивал самого себя: «Почему я еще жив? Что я здесь делаю?»
В детстве я любил играть с кубиками, а теперь, под землей, при немигающем и неизменном свете, это стало моей работой. Мы перекладывали штабеля золота, чтобы оно оставалось свежим. Если золотой слиток слишком долго пробудет в основании штабеля, куда нет доступа воздуха, то он начнет разлагаться.
Мы, разумеется, не снимали белых перчаток, охранявших золото от коррозии человеческого пота. Слитки имели семь дюймов в длину, около трех с половиной дюймов в ширину и дюйм и три четверти в высоту. Отлитые в Америке были прямоугольными, а в Европе – трапециевидными. Некоторые из них были стопроцентно чистыми, цвета золотистых лютиков, другие, имевшие примесь меди, выглядели красноватыми, а те, к которым примешались платина и серебро, представлялись белыми. Тот факт, что они стоили уйму денег, ничуть не застил мне взор, и я восхищался чистотой, редкостью, гладкостью и непорочностью этого металла. Золото относится к самой высшей знати периодической таблицы, и в стенах, выглядевших как кирпичная кладка небес, я был окружен тысячами его тонн.
Вскоре я обнаружил, что самая большая разница между мной и окружавшими меня недоумками состояла в том, что они не задавали вопросов. Их совершенно не интересовало, как работают те или иные механизмы, как на самом деле обстоят дела и как одни вещи связаны с другими. Более того, к моим расспросам они относились враждебно – во-первых, потому что не могли предоставить на них ответы, а во-вторых, потому что считали мою любознательность излишней. Вопросы мои, все до единого, и вправду имели уклон к получению информации, необходимой для грабежа, но у кого бы не возникло таких мыслей при схожих обстоятельствах? Каким же это надо быть ходячим мертвецом, малодушным трутнем, чтобы угодить в место наибольшего во всем мире сосредоточения богатств – быть погребенным ими, дышать ими – и не давать никакого пути мыслям о возможности их украсть?! Недоумки смотрели на меня только одним взглядом – взглядом оскорбленной невинности, словно мои расспросы были безнравственны.
Нас окружали десятки тысяч тонн золота, ни единая унция которого не была привлечена сюда со всей земли по нравственным соображениям. Золото не было ни добыто, ни продано, ни куплено, ни накоплено, ни унаследовано на основе законов нравственности. Шерман Осковиц жил в районе Бруклин-Хайгс, в однокомнатной квартирке, где не было ни унитаза, ни холодильника. Питался он в забегаловке, по пути на работу и обратно, и, хотя тратился он только на хот-доги, кислую капусту и пахтанье, а костюм носил такой дешевый, что меня так и подмывало содрать тот с него, разорвать в клочки, сжечь и бросить пепел в серную кислоту, всех его накоплений хватило бы лишь на то, чтобы купить, к примеру, одну водную лыжу или уплатить за три ночи под крышей дешевого отеля в Антверпене.
Его дисциплина и нищета были посвящены служению золоту, которое принадлежало шейхам, имевшим рабов, и латиноамериканским диктаторам, обожавшим кожаные причиндалы. Какую пользу приносила его честность? Что с ее помощью достигалось?
Мне требовалось только разузнать об электропроводке, системе охраны, толщине фундамента, архитектуре хранилища, методах подсчета и других особенностях моего окружения, но, продолжи я расспросы, меня бы выгнали, поэтому я стал безмолвным наблюдателем.
Поднять золото наверх и вынести его наружу не было никакой возможности. Вынести на себе было нельзя, потому что каждого, кто входил в хранилище, взвешивали на весах, погрешность которых составляла одну тысячную унции. В специальную диаграмму вносились точные значения влажности в хранилище. Их, а также вес и метаболические характеристики каждого из работников хранилища обрабатывали по определенному алгоритму в кабинетике сразу же у выхода из подземелья. Они точно знали, сколько кто потеряет из-за потоотделения, а сморкаться и сплевывать в хранилище было запрещено, так что если при выходе кто-то весил больше, чем при входе, то его обследовали с помощью флюороскопа и совали нос во все дырки.
Можно было, конечно, отказаться от каких-то избыточных частей своего тела, но много ли найдется людей, готовых обменять ломтик собственной плоти на кашемировое пальто?
У цербера, который нас взвешивал, был отдельный вход, а его адрес держался в тайне. Когда хранилище закрывалось, его под строгим секретом отвозили домой в автомобиле с затемненными стеклами. Никто с ним никогда не говорил, он был неподкупен, и, судя по его бесцветному лицу, свидетельствовавшему о неправильном и задержанном развитии, жил он ради возможности поймать нарушителя и был так же верен и предан, как доминиканский аббат. Кто же мог его винить в том, что он позволял недоумкам брать гнилое золото, проходить с ним прямо мимо него и вышвыривать в мусор? Ведь он тоже думал, что оно сгнило. Что бы вы сделали на моем месте? Я попытался использовать этот вариант, но Шерман сказал, что все то золото, которое я отбраковал как порченое, было совершенно годным.
Можно было бы взять хранилище штурмом, но для меня это было совершенно исключено. Для этого потребовалась бы дисциплинированная армия из полутора сотен человек, а я никогда не мог поладить даже с одним. Стальная дверь весила девяносто тонн и была установлена в раме весом в сто сорок тонн. Скошенные края делали ее герметичной, и если она была закрыта, то открыть ее оказалось бы никому не по силам.
О подкопе тоже не могло быть и речи. Врыться на десять этажей вниз сквозь манхэттенский сланец? Для этого потребовался бы многолетний строительный проект, да такой затратный, что даже фирме Стиллмана и Чейза пришлось бы выпускать облигации, чтобы его оплатить.
Они все продумали. Я даже подозревал, что Шерман и его помощники подверглись лоботомии. Они были такими славными! Они всегда были такими приятными! Но в Нью-Йорке никто таким не бывает, если только ему не прооперировали лобные части мозга – или если он не собирается с минуты на минуту обокрасть вас вчистую.
В те дни, когда мне приходилось штабелировать миллиарды, я ждал знака, но никакого знака не являлось. Я был укрыт от людских взоров в прозрачном искрящемся бассейне богатств. Ни один из планов не представлялся адекватным и против каждого выдвигались бесконечные меры предосторожности, предусмотренные проектировщиками хранилища. Разве что подобный план мог обнаружиться в самой искре падения.
Я ждал и ждал, и как-то раз мне пришло в голову, что эта искра может никогда не появиться и что я в конце концов могу превратиться в недо-Осковица. Через несколько десятков лет (то есть в нынешнее время) я буду потрясен, как никогда в жизни, оказавшись на пляжном променаде где-нибудь на Кони-Айленде, когда рядом со мной усядется какая-нибудь толстушка-вдовушка и заведет разговор о французском жарком. Разрумянившись и чересчур часто дыша, я поеду на подземке домой, охваченный вожделением и священным ужасом, и воспоминания об этом дне, как и порожденные им чувства, пребудут со мной всю оставшуюся жизнь…
В хранилищах золота, глубоко под землей, буду я размышлять о том июльском дне, отмеченном переменной облачностью, когда мы говорили о жарком и я заглядывал ей за вырез. Как часть легенды, буду я вспоминать то богоподобное состояние, которого достиг по пути домой, когда я весь полыхал наподобие нити накаливания в лампочке. И всякий раз, услышав слабое громыхание подземки, проходящей под хранилищем, я буду… я буду…
Вот оно! Я подпрыгнул в воздух, словно кот, ударенный электрическим током. Это открылось мне, когда я сидел у дальней стены отсека 71, отдыхая после поднятия тяжестей. Все сразу встало на свои места. Швед, который работал в Транспортном управлении, занимаясь обслуживанием движения поездов, и выглядевший таким знакомым иезуит, которого я повстречал в «Голубой мельнице», – оба Смеджебаккены. И я, сидевший глубоко под землей в окружении золота жестоких шейхов. Необходимость спасти себя от превращения в Осковица. Видение окончания жизни в одинокой комнатке, затерянной в бесконечности Бруклина. Мужество Смеджебаккена на крыше. Ненависть Смеджебаккена к кофе. И громыхание подземки под золотохранилищем.
Ограбление такого учреждения, как фирма Стиллмана и Чейза, было делом небезопасным, но мне не пришлось долго себя уговаривать. При удаче и божественном руководстве, которые, когда вы по-настоящему в них нуждаетесь, отпускаются вам целыми ведрами, мы со Смеджебаккенами обанкротим этих заносчивых кофеманов. Они ничего не поймут, прежде чем мы не окажемся в неимоверной дали от них, в какой-нибудь чистой и безмятежной стране, где никто и слыхом не слыхал о кофе.
Яд с пузырьками
(Если вы этого еще не сделали, верните, пожалуйста, предыдущие страницы в чемоданчик.)
Смеджебаккена я нашел в «Астории», где он жил под своим псевдонимом Массина. Жена его казалась женщиной работающей и не терпела никакого вздора. Когда она открыла передо мной дверь их скромного неоштукатуренного дома, то выглядела словно адвокат с Уолл-стрит – белый костюм, шарф и брошь, все наивысшего качества. Я предположил, что она только что приехала с Манхэттена, с портфелем флорентийской кожи, полным юридических документов. Это была ошибка, но узнал я об этом лишь много позже.
– Что вам угодно? – спросила она.
Суровость ее была совсем иной, чем у ее мужа. Тот был рожден, чтобы сражаться в титанической битве, в чем ему было отказано, и копил силы и могущество для времени, которое могло никогда не наступить, меж тем как она, казалось, была приспособлена для приложения усилий в обычном мире, которому не удалось заинтересовать его.
– Я ищу Смеджебаккена, – сказал я.
Выражение ее лица немедленно изменилось. Услышав прежнюю фамилию своего мужа, она подумала, что я был кем-то из его прошлого, кто, вероятно, мог задеть ее викинга за живое.
– Он на заднем дворе, – сказала она. – Горовиц покупает рояль.
– Прошу прощения?
– Сегодня вечером Владимир Горовиц покупает рояль. Он отобрал два инструмента и будет играть сначала на одном, а потом на другом, пока не выберет. Такое случается несколько раз в неделю, но вот Горовица мы заполучаем не так уж часто.
– Так он у вас покупает рояль? – уточнил я.
Она посмотрела на меня как на идиота.
– У Стейнвея, – сказала она. – Студия выходит прямо на наш задний двор. Нам немного видно, что там внутри, и у них все время, кроме поздней осени и зимы, открыты двери.
– Досадно, – сказал я. – Какая жалость – лишаться этого зимой.
– Ничего мы не лишаемся, – сказала она; видно было, что у нее начинает скрадываться крайне неблагоприятное мнение обо мне. – Зимой Паоло сидит в студии. Они держат там его шезлонг и стол. Когда он слушает, то пьет чай и грызет сухарики, точно так же, как и летом.
– Какая это честь – быть допущенным… Какая удача – жить рядом с… Как изумительно… – пускал и пускал я пузыри. Это было третьим моим проколом в разговоре с ней.
– Это, конечно, честь, – холодно проговорила она, – но они ему платят.
– Кто платит ему? – спросил я. Четвертый прокол.
– Кто платит? Стейнвей.
– За что?
– За многие годы музыканты привыкли полагаться на его суждения. Все они в этом деле суеверны и не купят рояля, если Паоло не поможет им с выбором. У него великолепный слух. Все началось с Тосканини, который, увидев моего мужа, решил, что у него есть слух.
– Тосканини? – переспросил я.
– Артуро Тосканини, – повторила она. – Это такой музыкант.
Последнее было добавлено из желания хоть немного меня просветить.
– Да, конечно, Тосканини, как здорово!
– Он думает, что Паоло – итальянец, разучившийся говорить на родном языке. «Вся сила вашего разума, – сказал он как-то, – ушла в ваш слух, и это самый превосходный слух на свете!»
Я услышал музыкальные аккорды, доносившиеся откуда-то из глубины дома. Кивая в ту сторону, я спросил:
– Моцарт?
К несчастью, я указывал также и на мраморный бюст Бетховена, стоявший в прихожей. Анжелика начинала терять терпение.
– Нет, – сказала она, – Бетховен.
И повела меня на задний двор.
– Ничего не говорите, пока мистер Горовиц не закончит и не уедет, – приказала она. – Если, конечно, вас ни о чем не спросят.
Я согласился. Она препроводила меня на затемненную террасу, полностью подавляемую громадой фабрики Стейнвея. Фабричные стены из старого кирпича были оплетены плющом и коричневым от ржавчины железом пожарных выходов и запоров ставней, тем старым железом, которое, подобно старому дереву, ободряет не тем, как оно выглядит, но тем, что оно видело. Фабрика эта спокойно пребывала на своем месте, в то время как многое из того, что меня теперь будоражило, давным-давно миновало, и не однажды, а сотню раз. Она терпеливо подставляла себя под слой снега, приносимого зимними вьюгами, она поглощала жар августовского солнца, она выступала в качестве гимназии для десяти тысяч вдумчивых белок в серых фланелевых костюмчиках и служила шпалерами для плюща, для глициний, для всех тех цветов, которые цвели и в ту пору, когда мой отец ухаживал за моей матерью.
Прочные кирпичи и надежные железные конструкции обрамляли множество десятков подъемных окон, из которых доносились звуки и разливался свет. Этой ночью фабрика работала, потому что война разрушила многие концертные залы, европейские фабрики по производству музыкальных инструментов лежали в руинах, меж тем как дети, родившиеся у вернувшихся с войны солдат теперь уже достаточно подросли, чтобы начинать занятия музыкой.
Ни разу в жизни не доводилось мне внимать столь многим постукиваниям, столь многим камертонам, столь многим ударам по отзывающемуся низким басом дереву, вгоняющемуся в паз, на место с помощью деревянных молотков, которые сами по себе были произведениями искусства. Что касается фортепьяно, то отличными друг от друга они становились не столько из-за искусства мастера и его прихотей, сколько из-за случайно приобретенных деревом особенных качеств, которые зависели от погодных условий его роста, климата, преобладающего в той или иной местности, срока повала, температуры сушки, или же – из-за отличий в руде, из которой были изготовлены металлические части инструмента, сложившихся еще в то пору, когда остывали реки расплавленного металла, задолго до появления облаков и зарождения морей.
И в основании всего этого находился человек средних лет по имени Владимир Горовиц, игравший с огромным напором (как говорится, за шестерых) и затерявшийся в музыке так, что стал недоступен для невзгод времени, о которых и нам милосердно дозволено было забыть. Какие прекрасные каденции! Они врывались в ночь, как огромные белые волны, обрушивающиеся на берег во время шторма; они забирали весь мрак из воздуха этого вечера на исходе сентября и несказанной красотой заполняли пустоту, существующую для того, чтобы испытывать душу сомнениями.
Глядя на Смеджебаккена, можно было подумать, что он мертв. Мало того, что, оставаясь совершенно неподвижным, он сидел с отвисшим ртом и широко раскрытыми глазами, – нет, было при этом ясно и то, что душа его поднялась из него (оставаясь, разумеется, на привязи), чтобы занять некое эфирное пространство неподалеку, словно бы метеорологический зонд. Казалось, магия музыки поместила все его умственные силы в некую очистительную центрифугу. Несмотря на свою связь с танцем, музыка тем не менее является символом неподвижности, ибо, когда мы имеем дело с по-настоящему великой музыкой, она способна поймать время и удерживать его невидимой хваткой. Я много раз испытывал это сам, а теперь увидел, что дородный путеец, живущий в «Астории» позади фабрики Стейнвея, разделяет мои собственные ощущения.
Я, однако, был шокирован, увидев, что он – в некотором роде, все же наркоман. На столе рядом с ним были расставлены изобличительные принадлежности: тарелка с сухариками (для заедания); чашка, на дне которой отвратительно плескались чаинки; и стоящий прямо на виду, совершенно бесстыдно, ничем не прикрытый, заварной чайник.
В молодые свои денечки, когда безрассудство молодости порой доводило меня до распутства, я и сам экспериментировал с чаем. Как-то раз январской ночью в ресторане Харви, неподалеку от Ниагары, я так продрог и устал, что как минимум шесть раз опускал в чашку с кипятком чайный пакетик и выпивал получившийся настой.
Какие видения у меня возникали, какой я испытывал экстаз – и какое самообладание! Я способен был воспринять беспрестанную смену красок, которые движутся, словно языки пламени. Говорят, что подобным образом видит пчела, и то, что предстает взору пчелы, представало и моему. Я видел, как падающий снег затмевает огни Буффало, и все воспоминания явились ко мне так, словно вышла из берегов глубокая невозмутимая река, прорезающая долину текущего момента, чтобы найти свои собственные истоки.
Мощная вещь этот чай, но, как и все наркотики, обманчивая и опасная. Целых две недели я пролежал пластом в самом дешевом отеле Буффало, не переставая стонать и всей душой желая с собой покончить, но не имея для этого ни достаточного мужества, ни даже сил выйти из номера. Такова была плата за искусственные восторги, – а если они ни при чем, то такова была цена двух недель в Буффало.
Когда зажегся свет, до меня дошло, что музыка смолкла. Горовиц подпер голову левой ладонью и с самым удрученным выражением лица проговорил:
– Жизнью клянусь, Паоло, не могу я понять, который из них звучит лучше. Одно другого стоит.
Смеджебаккен не шелохнулся.
– Который же из них, Паоло? Помоги мне.
– Э-э, – сказал Смеджебаккен – Э-э, Владимир… мне кажется… мне кажется… мне кажется, тот, что справа, звучит глубже.
– Вот этот?
– Нет, этот же от меня слева. Тот, что слева от меня, от тебя справа. Ох уж эти люди искусства. – Последние слова Смеджебаккен адресовал мне, впервые осознав мое присутствие, хотя пока еще не понял, кто я такой, и все дальнейшее адресовал исключительно Горовицу. – Звучность того, что справа, я уподобил бы кларету в сравнении с божоле. Ведь вам, в особенности для исполнения Моцарта, требуется этакий колокольный звук, слегка приглушенный почти неощутимой дымкой наложения, начинающегося при касании каждой из клавиш и длящегося затем как нежное эхо.
– Но что насчет Бетховена?
– Бетховен. Бетховен – он… не такой беспримесный, более округлый, не столь металлический. Этот рояль идеален для той области, в которой Моцарт и Бетховен встречаются друг с другом, и, кого бы из них вы ни играли, это и есть тот магический круг, в котором вы хотели бы оказаться. Каждого из них необходимо слегка подтянуть в сторону другого. Ибо они подобны биполярной звезде, и для достижения абсолютного совершенства того или иного из них требуется уклоняться от их индивидуальных устремлений в сторону центра.
– Браво! – сказал Горовиц, посылая воздушный поцелуй, кланяясь и показывая работникам Стейнвея, что он выбрал рояль, стоящий от него слева.
Прежде чем исчезнуть в сверкающем интерьере фабрики и затем, предположительно, усесться в свой лимузин, он сказал:
– Спасибо, Паоло. Увидимся в следующий раз.
Кто-то из работников фабрики распахнул перед собой двустворчатые двери, словно полная женщина, делающая упражнения для грудных мышц, и они со щелчком зафиксировались. Он подкатил тележку, прикрепил ее к треугольному основанию, на котором стоял рояль, выбранный Горовицем, и повез его из студии, выключив свет перед выходом.
– С Горовицем всегда вот так, – сказал мне Смеджебаккен. – Заплатил – получил.
– И часто вы этим занимаетесь? – спросил я.
– Пару раз в неделю. Они мне платят.
– Знаю. Мне ваша жена рассказала. Хорошо платят?
– Не меньше жалованья, которое я получаю в Транспортном управлении, но я бы делал то же самое и бесплатно.
– Весьма необычно.
– Это единственный дар, который я смогу передать своему ребенку, – сказал он.
– О чем это вы?
– О музыке.
– Да, музыка… – повторил я, получив лишь смутное и неудовлетворительное представление о том, что он имел в виду.
– Когда-нибудь, – продолжал он, – исполнение музыкального произведения научатся воспроизводить в записи такой высокой точности, что оно будет восприниматься, как будто музыкант играет перед нами, – технология, о которой мы сейчас и не мечтаем, – и тогда дочка сможет слушать все, что только пожелает, в любое время. Я хочу накопить на это денег.
Я не осмелился попросить его уточнить свои слова, ибо он, по неведомой мне причине, был так растроган собственным заявлением, что глаза его так и заискрились в свете, падавшем из верхних этажей фабрики. Я решил, что с этим можно и подождать, и поэтому сменил тему.
– Знаете, я сам немного играю, – сказал я. – Не то чтобы хорошо, но достаточно, чтобы оценить того, кто действительно знает, чем занимается; достаточно, чтобы понять, что Моцарт был посланником небес. И я думаю, что он знал об этом, еще будучи ребенком. Знаете, все время приходится слышать о Фрейде, Марксе и Эйнштейне. Мне кажется, что поистине великим из них был только Эйнштейн, но даже и его совершенно затмевает Моцарт, который, по моему мнению, был величайшим человеком, когда-либо жившим на земле.
– Да, – сказал Смеджебаккен. – Это вам не какой-нибудь бейсболист. Его величие бесспорно.
После несколько неловких мгновений, когда никто из нас не мог ничего сказать, потому что сказать надо было так много, Смеджебаккен внимательно посмотрел на меня.
– А, вы из того самого ресторана!
– И с той самой крыши, – добавил я.
– Да, та самая крыша! И кофе.
– Я его ненавижу, – сказал я, глядя на его чай.
– Пойдемте в дом, – сказал он мне. – Здесь становится холодно. Посидим на кухне.
– Вы пьете чай?
– Если вы войдете в дом, – сказал он, – я вам все объясню.
– Не понимаю, как это человек, которому достало ума раскусить, что такое кофе, может позволить себе оправдывать чаепитие.
Смеджебаккен наклонился над кухонным столом, протянув правую руку к выключателю. Когда он дернул за шнур, помещение заполнилось теплым светом, а его лицо засияло, как тыква.
– Я далек от совершенства, – ответил он.
– Но предаваться наркомании в собственном доме, на виду у своей семьи…
– Они меня простили.
– Почему вы не бросите?
– Я становлюсь старше, – сказал он, – и все яснее понимаю, что не могу уже разворачиваться с той же легкостью, с какой мне удавалось это в молодости. Тогда я мог по нескольку дней обходиться без сна, мог работать до упаду, а потом, ненадолго вздремнув, приняться за дело снова. Казалось, конца не будет ни мощи моей, ни энергии. Но теперь у меня не так много жизненных сил, чтобы намечать по шестнадцать оргазмов на день, и гораздо меньше, чтобы их достигать. Нынешний я, хоть и стал мудрее, с физической точки зрения отношусь едва ли не к другой породе. Было время, когда избыток энергии искажал все мои воззрения.
Да и как могло быть иначе? Я думал, что достижимо все на свете, а время движется с достойной сожаления медленностью. Трудно поверить, но мне хотелось, чтобы оно шло быстрее. Я, бывало, ночь напролет слушал музыку, а весь следующий день укладывал шпалы. Потом молодость меня покинула, сбежала, как трус от ответственности. И теперь, когда я изрядно уже покоптил свет, мне требуется больше сил, чем у меня имеется. Я не знал, что мне делать. Знал только, что мне необходима была энергия.
– И вы решили найти искусственный заменитель?
– Да!
Он вскочил и выбежал за дверь. Я подумал было, что им двигал стыд, но через минуту он вернулся с книгой, которой так сильно стукнул по столу, что я вздрогнул.
– «Наркотические растения», автор – Уильям Имбоден! – провозгласил он взволнованным голосом. Потом стал быстро перелистывать страницы, пока не нашел нужный отрывок. – «В Тибете, – стал он читать, – усталым лошадям дают большие чаны с чаем, чтобы повысить их трудоспособность. Говорят, благодаря своим чайным рационам они резвятся как жеребята. Расстояние между деревнями определяют количеством чашек чая, необходимым для поддержания сил человека, идущего по этому маршруту. Установлено, что три чашки приравнивают здесь к восьми километрам».
Он резко захлопнул книгу. Все эти шлепки и хлопки были, несомненно, результатом воздействия чая.
– Если это дьявольское зелье, – сказал он, – так ободряет совершенно невинных животных, находящихся ужасно высоко над уровнем моря, то почему я должен его отвергать? Чай, будучи прозрачным и светлым, не оскорбляет, как кофе, отсутствием чистоты. Ведь основной загвоздкой, связанной с кофе, является его цвет, не так ли?
– И цвет, и многие другие ужасы, – высказал я свое мнение. – Конформизм, привыкание, умственные недуги, и проч., и проч.
– Согласен, но вот в чае есть нечто чистое и светлое, не правда ли? Признайте.
– Не знаю, не знаю. Как-то раз в Буффало я выпил чашку чая, и она стала бы причиной моего самоубийства, если бы под рукой у меня оказался пистолет.
– Я католик, – объявил Смеджебаккен. – Самоубийство для меня исключено. Какие там еще недостатки?
– Слабость характера?
– Да, характер у меня слабый, – сказал он. – Мне это известно с тех самых пор, когда я не сумел стать президентом Соединенных Штатов.
Взглянув на него, я сказал:
– В таком случае, я не уверен, что вы подходите для моего проекта.
По блеску в его глазах я понял, что он не хочет оставаться за бортом, поэтому, чтобы поглубже вонзить крючок, я поднялся со стула.
– И все же, – сказал он, – я никогда не выпил ни единой чашки кофе. И сломал сотни кофеварок, во имя всего справедливого и доброго.
– Это достойно восхищения, – сказал я, снова усаживаясь.
– Скольких людей, ломавших кофеварки, вы знаете?
– Только себя.
– Тогда, может, даже если мы не похожи, даже если вы какой-то там банкир, представитель, так сказать, высшего класса, нам с вами стоит поработать вместе.
– Вы не так меня поняли, – сказал я. – Я начинал как посыльный, давным-давно, а теперь занимаюсь физическим трудом в подземном золотохранилище.
– В самом деле?
– Да. И мне это некоторым образом нравится. Это просто. Это поддерживает меня в форме, и мне не приходится уделять внимание бессмысленным деталям. Я целый день могу предаваться своим мыслям, как заключенный в одиночной камере.
– Вот почему я люблю работу обходчика, – сказал Смеджебаккен. – Мне приходится заниматься этим в одиночку, как Льюису и Кларку. Шагаю по земле, мысли мои в небе.
– Льюис и Кларк занимались этим вдвоем, – сказал я.
– Да, но они ведь были так одиноки! Расскажите, что такое вы задумали?
В это самое мгновение по лестнице с обеденным подносом в руках спустилась Анжелика Массина, в действительности миссис Смеджебаккен.
– Ну и как оно все? – спросил Смеджебаккен.
– Чудесно, – сказала она. – Уложила.
Помыв посуду, она вышла, даже не посмотрев в нашу сторону.
– Она адвокат? – спросил я.
– Нет. Работала машинисткой в ВМФ, но уволилась, когда у нас родилась дочь.
– Ну и ну, – сказал я. – А я-то подумал, что она только что приехала домой с Манхэттена: костюмчик и все такое. У нее вид работающей женщины.
– Она и была на Манхэттене, – сказал Смеджебаккен. – В госпитале. Слушайте, я не люблю совать нос в чужие дела, но о чем таком вы хотите поговорить?
– О деньгах.
– Ну так приступайте.
Он вызывающе захрустел сухариком, как бы показывая, что ничуть не впечатлен тем обстоятельством, что я работаю в инвестиционном банке.
– Вам они нужны?
– Разумеется. Они всем нужны.
– Да, – ответил я, – но некоторые думают, что они им не нужны. Или делают вид.
– Монахи и пуритане?
– Некоторые из них, – согласился я, – но даже монахи и пуритане нуждаются в деньгах. Им надо есть. Им нужна крыша над головой, одежда. Им надо рекламировать свое вино.
– Замечательно. Монахам нужны деньги. Вы об этом пришли мне рассказать?
– Нет. Сколько денег?
– Сколько денег нужно монахам?
– Нет, вам, – сказал я.
– Сколько мне нужно денег?
– Да.
– Что-то я никогда не смотрел на это с такой стороны. Это все равно что сказать: какого вы хотите быть роста? Рост – он такой, какой есть. Выше не сделаешься.
– Но?
– Но что?
– Но скажите, в чем разница.
Он захрустел очередным сухарем.
– Пожалуйста. Денег можно раздобыть больше.
– Правильно, – подтвердил я. – Именно этим и занимаются все эти проходимцы из высших классов. Или же этим занимались их предки. Они говорят: «Полагаю, что смогу раздобыть еще немного денег».
– Что вы хотите, чтобы я сделал? Чтобы я ограбил банк?
Когда я ему не ответил, а лишь уставился напряженным взглядом, он сказал:
– Так и есть. Вы хотите, чтобы я ограбил банк.
Отвернувшись от него, я встал и подошел к окну, возле которого для усиления драматического эффекта простоял столько времени, сколько требуется, чтобы сосчитать до двадцати пяти.
– Вы что там, ворон считаете? – крикнул Смеджебаккен через всю кухню, услышав мое бормотание.