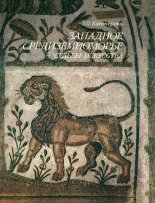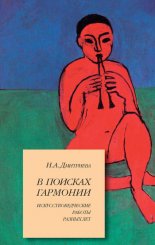Рукопись, найденная в чемодане Хелприн Марк

Задумав всех превзойти, как оно на самом деле и вышло, Мария-Бетуния полетела в Валлорис, чтобы уговорить Пабло Пикассо написать портрет Джека в натуральную величину. Пикассо эта безумная бразильянка понравилась, и он написал портрет с фотографии. Ответственный за устройство выставки, естественно, отвел для Пикассо почетное место. Полагаю, он был поражен тем, что Пикассо вернулся к реалистическому стилю, но для Марии-Бетунии не было ничего невозможного. Проблема состояла в том, что портрет являл собою обнаженную натуру и Пикассо, всегда любивший позабавиться, изобразил в правильный пропорциях все, за исключением члена, который был раз в пять увеличен и приведен в состояние эрекции.
Когда открылась выставка, Джек был в Бостоне. Он прилетел домой, когда галерея была уже закрыта, и сразу отправился на прием к министру финансов Бельгийского Конго. Там присутствовали все члены правления, и женщины подолгу исподтишка разглядывали Джека. «Джек, это и в самом деле были вы?» – спросила одна из них. Будучи не в курсе, какую природу имеет сюрприз Марии-Бетунии, и полагая, что он изображен так же, как на переданной Пикассо фотографии: полностью одетым, улыбающимся, с характерным для него выражением восторга и подчеркнутой уважительности, Джек ответил: «В тот момент я, должно быть, думал о вас». Ему пришлось покинуть Стиллмана и Чейза даже раньше, чем мне.
Подобно Марии-Бетунии, Марлиз так очаровательна, что способна заставить смотреть на крушение карьеры как на нечто несущественное. Я дал ей обещание. Мы снова обнялись. Вокруг нас были только море и ветер. И я был счастлив, потому что нет ничего прекраснее обещания, которое ты только что дал.
Но существует множество способов незаметно обойти носорога, и это подводит меня к гораздо более практическому предмету: почему я все это написал, для кого, а также где надлежит храниться написанному.
Самая важная причина прояснится для вас по мере чтения, но писал я еще и в знак протеста против того шока, что испытал при рождении, шока, который на протяжении моей жизни множество раз повторялся, – ибо я трижды был свергаем с небес, в буквальном смысле, например открыв, что первая моя жена пьет кофе. Были и гораздо худшие открытия. Все, что я видел, разбило мне сердце так давно, что я смотрю на себя как на музей, который никто не посещает. А кому его посещать? Бразильцы не поймут, зачем в музее надо выставлять разбитое сердце. Да я от них этого и не ожидаю.
Со своей стороны, я не понимаю их танцев и бездумного спаривания, хотя и воспринимаю порой проблеск-другой удовольствия и логики, словно бы я стрелок, запертый в тесном отсеке и видящий иногда через узкие амбразуры, как в море под ним отражается солнце.
Эта страна не для стариков, нет, только не она, где в ожерелье моря сверкают зеленые сапфиры, где плоть льнет к плоти, точь-в-точь как макрель в рыболовной сетке. Если бы только не договор об экстрадиции, жизнь моя не подвергалась бы постоянным оскорблениям, наносимым всеми этими голыми грудями и кокосами, в которые впрыснут ром. Я не создан для того, чтобы праздновать чувственность. Никогда не мог ничего праздновать. Да и не хотел, потому что празднование всегда казалось мне всего лишь механическим воспроизведением ускользнувшего жизненного мгновения. Например, когда кончилась война, люди на улицах танцевали и пили кофе. А я нет. Я оплакивал тех, кто умер, и семьи, которые они оставили. А потом лег спать. Только на следующий день я позволил себе приободриться надеждой.
Можете себе теперь представить, каково мне здесь приходится, в стране, где стоит только какой-нибудь мухе удачно приземлиться на манго – на улицы вываливаются десять тысяч танцоров, охваченных горячкой и эйфорией; в стране, где человек, выигравший в лотерею, тратит вдвое больше, чем выиграл, на вечеринку, устраиваемую им, чтобы отпраздновать свой выигрыш. Нет, они не шотландцы, эти бразильцы. Спокойное созерцание им ведомо лишь в том случае, если они больны, и они просто не в состоянии не досаждать хоть кому-нибудь. Они собираются группами, чтобы наблюдать закат, и сплетничают о созревании плодов. Даже ветру не дозволено мирно гнать волны: они об этом поют.
И притом, однако, у них нет никакого осознания происходящего. Как будто им недостает той части мозга, что сооружает из времени геометрическую конструкцию, в которую ты попадаешься, как в ловушку. Жить для них – все равно что плыть по течению в теплой реке. Они лишены свойственных северянам способностей к пониманию и восприятию, лишены нашего теплого чувства к огню, нашего обостренного ужаса перед льдом и проживают свои жизни так, словно каждый из них оседлал радугу.
Хоть им это и невдомек, но даже их беспутная жизнь все же является частью правды – как рябь поверх залива, как брильянтовые проблески солнца в ручье. Я это понимаю – как, впрочем, и всегда понимал. Что порой от меня ускользает – из-за того, что не переношу их распущенности, их отталкивающего пристрастия к кофе, их выпирающей наготы, – так это то, что их существование не только частично истинно, но является и средством постижения истины. Методологией, если угодно, подобно танцу пчелы или раскачиваемой теплым бризом орхидее. Никакой тебе боли, все излучает силу, все исполнено изящества.
Я всегда думал о 1900 годе как о насадке огромного кондитерского мешка, из которой, если мешок сдавить, потечет глазурь, и всегда считал, что на протяжении едва ли не столетия виток цивилизации раскручивался не в ту сторону. Хотя остальной мир считает антиподов недостойными внимания, мы переживаем лучшие времена. В Монтевидео все такое старое, что на дворе там вполне мог бы стоять год 1910-й, – и если бы, ох если бы только так оно и было. Я хочу, чтобы мир прекратил нестись вперед с такой неимоверной скоростью. Хочу, чтобы предприняли что-то такое, из-за чего воцарилось бы спокойствие и прекратился ужас. В некотором смысле время объясняет все, что я сделал, хоть я-то пишу это не затем, чтобы оправдываться.
В начале пятидесятых – в июне – Стиллман и Чейз командировали меня в Рим. В европейских городах все еще чувствовалась память минувшей войны. Многие здания лежали в руинах, гораздо больше было изрешеченных и поврежденных, а поля и пляжи усеивали бетонные укрепления, напоминая остатки отступающего ледника. Помню шум волн Тирренского моря – шум, настойчивого ритма которого не изменили ни годы войны, ни все последующие годы. Неизбывная морская пена омывала гальку с частотою ударов сердца, точно так же, как почти десять лет назад, когда я выбирался на берег этого же самого моря в Северной Африке, оставшись в живых после падения моего самолета.
За те десять лет я немного прибавил в весе – мне было под пятьдесят – и утратил то изящество, с каким прежде мог бегать по пересеченной местности. К тому же, за исключением раннего утра или поздней ночи, когда я надевал привычные свои шорты цвета хаки, футболку и альпинистские башмаки, мне приходилось облачаться в дорогие костюмы. В Риме надо было провести несколько дней, включая выходные, и у меня не было времени посетить аэродромы, откуда я вылетал на Германию, переваливая через Альпы в кружении огромных масс воздуха, поднимавших крылья моего P-51 с таким напором, что они изгибались от напряжения. Съездить, как хотел, в Венецию я тоже не мог, так что остался в городе, а в субботу вечером пошел на оперный концерт в театре «Вилла Дория». Мне повезло, ибо исполнители были явно в ударе. Они были величайшими певцами в мире – и знали это. Несмотря на тот факт, что были они все непревзойденными чемпионами по бледности и тучности, пели они как ангелы. Может, они заключили бартерную сделку с дьяволом, а может, в силу того, что им дозволено было действовать в столь возвышенных сферах, они просто все меньше и меньше нуждались в собственных телах.
Я был в восторге и, подобно юноше, стал воображать себя на их месте. Потом вернулся в «Хасслер», где задержался в баре, чтобы купить бутылку минеральной воды, прежде чем подняться к себе в номер. В углу, почти скрытые темнотой, сидели четверо величайших в мире певцов. Пока я шел через ночь среди грабителей и похитителей велосипедов, эти увальни добрались сюда на такси. Нежданно-негаданно, в конце длинного зеленого туннеля, наполненного прохладным воздухом и воспоминаниями об их ариях, они предстали передо мной как на ладони.
С бутылкой в руке, я так на них и уставился. Стаканы, стоявшие на черном полированном столе, искрились как лед, снаружи их усеивали бисеринки влаги. Посреди стола стояла большая тарелка с сельдереем и оливками.
Увидев меня, певцы переглянулись, пожали плечами и жестами пригласили меня подойти. Это не походило на то, как если бы цирковые звезды зазывали в свое общество обуреваемое священным ужасом дитя, – были мы приблизительно одного возраста, у меня, недавно исполнившего свою маленькую партию в величайшей за всю историю опере, было очень живое и эмоциональное восприятие Европы, а одет я был, к величайшему своему стыду, как министр финансов. И все же сердце мое так и подпрыгнуло, охваченное тревогой, как бы не потеряться мне в их августейших рассуждениях о музыке и об искусстве вообще. Но разумеется, будучи людьми искусства, говорить они хотели только о деньгах – и всячески проявляли подчеркнутое уважение к моей персоне, ибо моим занятием были деньги, в самой их сокровенности. Я задавал им вопрос за вопросом о какой-нибудь арии, о красотах гармонии, синхронности и тональности. Они задавали мне вопрос за вопросом об обменных курсах, налоговых ставках и арбитраже. Позже мы начали говорить о нашем детстве, и таким вот образом я узнал их, а они узнали меня.
Теперь все они умерли, и, хотя все они были очень богаты, теперь о них, когда их не стало, вспоминают отнюдь не благодаря деньгам.
Тогда, в баре «Хасслера», я понимал, что задаю вопросы, которые важнее тех, что задают они, – потому что работа у них была гораздо важнее, чем у меня. Я вспоминал партию серебряных труб (в Италии медные части музыкальных инструментов зачастую серебрят), и пока мы говорили, они – о детстве, проведенном в деревнях и городах Испании и северной Италии, а я – о Гудзоне и о частном санатории в Шато-Парфилаже (который, собственно говоря, был психиатрической лечебницей), у меня созрело решение уйти из фирмы.
Когда я с убежденностью сказал им об этом, они подумали было, что я пьян, но я указал им на то, что пил только минеральную воду. Поначалу, в качестве любезности, они выступали против, как, наверное, поступили бы вы, скажи вам кто-нибудь, что намеревается бросить свою карьеру и устроиться в цирк. И, полагаю, знакомые с собственным магнетическим воздействием на окружающих, они всегда предостерегали романтиков, желавших последовать по их рискованному и великолепному пути.
Однако потом, неведомо почему, они одобрили мою идею. Испанец спросил у меня, настолько ли я богат, чтобы ни от чего не зависеть. Я помотал головой из стороны в сторону.
– Чтобы знать, – пояснил он, – как вы будете жить?
Двое итальянцев вступили в разговор одновременно (эти люди могли синхронизировать ноту с той же точностью, с какой Робин Гуд пускал стрелу).
– Когда будете уходить оттуда, – сказали они в тональности до мажор, – вам необходима предельная аккуратность. Убедитесь, что выключили свет и не забыли бумажник.
– Слушайте, а ведь вы попали в точку, – сказал я.
Пой они хоть миллион лет кряду, они не заработали бы и сотой части того, что проходило через фирму Стиллмана и Чейза в течение одного дня. Что до меня, то я мог заработать сердечный приступ в Гринвиче и умереть в отдельной палате какого-нибудь учебного госпиталя. Или же провести несколько великолепных и напряженных лет, строя планы, а потом скрыться с суммой, достаточной для того, чтобы скупить в Гринвиче пять сотен домов и умереть в стольких госпиталях, в скольких пожелаю.
– Какая чудесная мысль! – воскликнул я. – Мне это и в голову не приходило!
– В конце концов, банкиры, – сказал австрияк, который – а как же иначе? – был серьезнее всех остальных, – не самые приятные люди.
Мы составили план. Они были так же оживлены, как если бы пели. Под конец могло показаться, что я утратил свой энтузиазм, ибо, помимо всего прочего, проект наш был неисполним, как и следует ожидать от сценария, выношенного в баре отеля «Хасслер» четырьмя оперными певцами и сотрудником инвестиционного банка, который часть своего детства провел в клинике для душевнобольные. Однако, хотя мне и удавалось хорошо это скрывать, я так разволновался, что весь горел.
Я забегаю вперед, что звучит довольно странно, когда человек рассказывает о событиях почти полувековой давности, поскольку единственный способ забежать вперед состоит в том, чтобы рассказать о будущем и прислать репортаж с того света. Не приближение ли смерти подвигло меня к написанию этих мемуаров? Да нет, разумеется.
Если все сработает как надо, то вы поймете, зачем я это написал, хотя я использую слова «написал» и «сказал» едва ли не как взаимозаменяемые – не потому, что не осознаю их различия, но потому, что обнаружил, еще только начав: сила мемуаров состоит в том, чтобы обращать голос в письмо, а письмо в голос, пока они не станут прилегать друг к другу так же плотно, как нефтяная пленка ко льду.
Мотив мой, как вы скоро поймете, если только являетесь тем, на кого я рассчитываю, крайне прост. Возможно, мои слова окажут какое-либо иное воздействие, но намерение мое столь же очевидно, как потребность машиностроителя изготовить чертежи своей машины или желание путешественника составить карту. Мне надлежит выполнить домашнее задание, и это – тот метод, каким я его выполняю.
Если вы окажетесь кем-то, кого я совершенно не знаю, что ж, тогда стрела потеряна, семя на своем печальном прозрачном парашютике унесено в иную сферу, где будет вечно мерцать в бесплодном молчании. Решение здесь принимаю не я. Оно, как и все прочее, принадлежит ветру.
Давайте на мгновение предположим, что я не попал в цель и никогда не узнаю, кто вы. Все равно я буду обращаться к вам, буду говорить вам «вы». Если вы мужчина, то мы, вероятно, могли бы вместе летать или ограбить какой-нибудь банк, – эти два рода деятельности всегда захватывают с головой и даруют наслаждение, если заниматься ими должным образом. Что до полетов, то здесь главное состоит в том, чтобы оказаться там, где ты никогда не думал оказаться, а потом вернуться обратно живым. В случае ограбления банка необходимо, чтобы никому не было причинено вреда, что на деле так же трудно, как изъять деньги. Если не труднее. В идеале перемещение фондов должно бы осуществляться не за счет граждан или банковских организаций, но путем молниеносного налета на то, что было незаконно экспроприировано государством или частным лицом.
А если вы женщина, то я, возможно, любил бы вас. Это не означает, что вы бы любили меня. Такого варианта я не предполагаю. По правде сказать, я предполагаю обратное. Я был неприятным, кое-кто сказал бы – совершенно невыносимым, с самого своего рождения, нет, с тех пор, как мне исполнилось десять, – и все же во мне любви больше, чем можно было бы ожидать. Возможно, потому, что в этой жизни, являвшей собой парадигму безответности, со столь многими вложениями и столь малыми расходами, любовь копилась во мне.
Если вы сомневаетесь в достоверности моего рассказа, то вспомните, что при сжатии восьмидесяти лет в столь короткий промежуток, как эти мемуары, время между событиями теряется, а ведь только изящество медленно разворачивающегося времени придает всем потрясениям человеческой жизни иллюзию достоверности.
Я собирался писать, придерживаясь хронологии, но потом осознал, что думаю, конечно же, далеко не хронологически. Написание мемуаров подобно ужению рыбы. Вы забрасываете лесу и вытягиваете ее, когда клюет рыба, но никогда не знаете, что именно окажется на другом конце лесы, ибо океан глубок и полон удивительных существ, которые не всплывают на поверхность в ожидаемом порядке. И они не плавают под волнами длинными прямыми шеренгами, во главе которых были бы киты, а в самом хвосте – мелюзга. Воспоминания, как и рыба, не кишат под каждой скалой, под каждым отрезком жизни. Можно сказать и по-другому: если вы расположите «Илиаду» в алфавитном порядке, то получите что-то вроде телефонной книги Афин. Когда я думаю о прошлом, события не выстраиваются в ряд, и поэтому я буду принимать их по мере появления – так же, как и раньше принимал их по мере того, как они наступали.
Рукопись эта существует в одном экземпляре, в одном-единственном, потому что в городском копи-центре, обнаруженном мной в Нитерое, ксерокс стоит рядом с кофеваркой. Я умолял их едва ли не на коленях, зажав нос бельевой прищепкой, но они так ее и не убрали. Поэтому, чтобы защитить это повествование от того, что могло бы его уничтожить, я, приложив огромные усилия, разыскал среди своих вещей совершенно непроницаемый для термитов чемодан, в который, хочется верить, вы будете возвращать эти страницы одну за другой по мере их прочтения.
Мисс Маевска
(Пожалуйста, если дочитали первую главу, положите бумаги в чемодан.)
Как можно думать, что разбираешься в Истории? Прошлое поддается лишь работе воображения. Как бы глубоко ни погрузились вы в документы и факты, писать историческое исследование – все равно что писать роман с пропущенными сюжетными ходами, ибо нам приходится ограничивать абсолютную истину, до конца понятную только самому Богу, рамками собственный догадок. «Достоверная история» воссоздает не прошлое, а лишь наше глубоко личное представление о том, что когда-то произошло. Даже самое живое изображение должно вызывать сожаление, потому что оно высвечивает прожитую жизнь тусклым огоньком памяти, в то время как она тщетно мечтает воплотиться в полном объеме. Погрузившись в воспоминания, мы следуем за золотой путеводной нитью, которая всегда грозит превратиться в неимоверно запутанный клубок.
Стоит припомнить 1919 год, как вы увидите, что преобладают в нем образы планеты, пробуждающейся от кошмара войны, – возвращение войск, соединение семей, подписание мирного договора. Для американцев настало время вторичного пересечения Атлантики, с востока на запад, время возвращения на родину, исполненную надежд, какой изобразил ее Чайльд Хасам на полотнах, которые и сегодня не утратили своего очарования. Я, однако же, спокоен не был. Действительность представлялась мне пластинкой рентгеновского снимка, на котором угадывались зловещие черты наступающей эпохи.
Весною вся Атлантика была запружена деловитыми пароходами. Я тоже был одним из американских парней, оказавшихся в море, но плыл я на борту «Жанны д’Арк» не в Новый Свет, а в противоположном направлении. И был я светловолосым, гладкощеким, стройным, как балетный танцовщик, пареньком в смирительной рубашке.
Не было никакой нужды в том, чтобы напяливать на меня эту рубашку. Особенно в том возрасте, когда я был нежным, как молочный теленок. Но вы прекрасно знаете, что происходит с невинными и нежными молочными телятами. Знаете, где они кончают свои дни. Тот судья, тухлым воображением которого был вынесен мой приговор, принес с собою чашку дешевого, тошнотворного кофе в зал, где меня судили. О каком правосудии можно говорить, если мой собственный судья сам был одним из бесчисленных наркоманов, которых я был призван искоренять?
Когда поблизости не было кофе, я был совершенно кроток. Меня легко было растрогать, я всегда был готов на любые жертвы. Занимался я усердно и – поскольку жил более или менее в одиночестве и не разменивался по пустякам, был очень серьезен и внимателен – на голову превосходил всех учеников своей школы, хотя оценки у меня бывали разные. Причина такой неровной успеваемости состояла в моей неспособности заставить себя увлечься теми предметами, которые не волновали, не поражали или же не воодушевляли меня, а также в постоянной готовности к ниспровержению авторитетов.
Даже будучи школьником, я обзавелся смертельными врагами среди взрослых – примером может служить мой учитель латыни, лысеющий молодой человек двадцати семи лет, один из клыков которого торчал поверх нижней губы, даже когда рот его был плотно закрыт. Как только он показался в классе, мы при одном взгляде на него поняли, что Бог послал нас на землю для неустанного искоренения чертей, в чьем бы обличье они ни объявлялись, и споспешествовали в этом ангелам, чьи победы одерживаются не только на бледно-голубых террасах небес, но и в самых отталкивающих уголках ада. Хотя по латыни мне постоянно ставились единицы, я, к тому времени как вышел из-под его опеки, успел покрыть своего учителя шрамами, ошпарить его, сделать хромым и выбить его выпирающий зуб.
Другие мои преподаватели были еще хуже. Когда мне не было еще и десяти, учитель рисования по имени Санчо Демирель велел мне остричь волосы. Я ответил, что не намерен этого делать. Он сразу же ринулся меж рядами парт, схватил меня и оттащил в кладовку. Когда, грубо схваченный, я взмыл в воздух, намного превзойдя привычную свою высоту над уровнем моря, то не мог не испугаться за свою жизнь.
Он захлопнул дверь кладовой, взял с верхней полки бамбуковую трость и приказал мне нагнуться.
Для меня настал важный момент. Я решил тогда, что неповиновение и смерть предпочтительнее, и сузил глаза, давая знать, что готов сражаться. Раздраженный сверх всякой меры, он стал носиться за мной по всей комнате, размахивая тростью, но мне удавалось ускользнуть. Вскоре он уже был на грани апоплексического удара, и я понимал, что он убьет меня, если поймает. Я загрохотал дверью.
Та была заперта, щеколду заклинило, и мне не хватало сил ее сдвинуть, но он подумал, что я вот-вот сбегу.
Он находился в другом конце комнаты. Между нами было разбросано столько всякой всячины, что он отчаялся меня поймать и, раздосадованный, швырнул в меня тростью. Та пролетала мимо, загремела по полу и вскоре оказалась у меня в руках.
Конец трости был прямым и очень узким, но недостаточно, так что я сунул трость в точилку для карандашей. Как только я начал вертеть рукоятку, у него отвисла челюсть. Он мог бы успеть схватить меня, но замешкался. Вынув бамбуковое копье из точильного аппарата, я уже не был четвероклассником, который с минуты на минуты будет разукрашен так, словно весь вымазался в варенье, я был Ахиллесом.
Копье из твердого светлого бамбука было заточено, как игла, а я был проворен, как комар. Я мог прыгать и вертеться, а рефлексы мои были настолько свежи, что я способен был сбросить с тыльной стороны ладони пять монет и поймать их все разом, прежде чем они коснутся пола. Никогда не забуду того мгновения, когда ощущение могущества покинуло моего учителя и перешло от него ко мне. Через окна поверх самых высоких шкафов лились солнечные лучи, осеняя меня ярким золотистым ореолом.
Он попятился и сказал первое, что пришло ему в голову: «Я не хотел сделать тебе больно».
На эту ложь я ответил так: «Санчо Демирель, сейчас ты умрешь».
Я с раннего возраста вставал на защиту невинных детей, особенно если вопрос касался меня самого. У меня не было тогда сомнений в том, что я хотел сделать, и я всерьез намеревался убить его прямо в кладовке. Я перепрыгивал через опрокинутые сосновые ящики, вырванные из шкафов, и стулья с гнутыми спинками, похожими на слоновьи бивни. И, Бог тому свидетель, луч солнца следовал за мной, сияя на острие золотого копья, которое я готов был вонзить в Санчо Демиреля.
Он бросил в меня учебником анатомии, и, пока он летел по воздуху – мне, могу добавить, с легкостью удалось от него увернуться, – на его трепещущих страницах промелькнула красно-синяя схема системы кровообращения. Поэтому я и решил вонзить свое оружие в его бедренную артерию. Мой вид убедил его в том, что я собираюсь его убить, и он вскарабкался на книжный шкаф, пытаясь скрыться через узкое оконце вверху. При этом он подставил мне свой зад, и я, как истинный воин, ощутил прилив гнева и близость развязки. Когда я замахнулся для решительного удара, директор сумел выломать дверь кладовки и оказался на пороге. Выражение его лица навсегда врезалось мне в память.
С возрастом я стал действовать умнее и заранее готовил пути для отступления, на тот случай, если в этом возникнет необходимость. Когда я был в восьмом классе, как раз накануне нашего вступления в войну, ко мне пристал один педик, который повалил меня на пол и принялся хватать за интимные места. В пустом сортире мы были не совсем одни: школьный пес, старый лабрадор по кличке Кабот, дремал в углу.
На занятиях по биологии мы изучали мышцы, и в качестве иллюстрации преподаватель использовал Кабота, кусавшего силомер. Эволюция, пояснял он, благоволила к тем собакам, которые могли прокусить кость и добраться до костного мозга. Силомер был сооружен из рукояти теннисной ракетки Льюиса Тешнера, распиленной продольно на две части, между которыми помещалась жесткая пружина. Для скрепления всего устройства преподаватель биологии применял боксерский бинт, которым мы обматывали себе кулаки на занятиях по боксу. Кабот был добродушным псом, за всю свою жизнь никого не укусившим, но в течение нескольких лет его поощряли печеньем – за то, что он все глубже и глубже вонзал в силомер свои зубы, так что хватка у него стала просто железной.
Я думал, что мне приходит конец. Педик был здоровенным детиной, прирожденным драчуном и тренером по боксу. Я вовремя заметил, что кулаки у него обмотаны боксерским бинтом. Либо он только что проводил занятия по боксу, либо собирался их проводить.
В то же мгновение у меня созрел план.
– Давай, Кабот! – заорал я.
Это почему-то раззадорило педика, но Кабот поднялся на лапы, размахивая хвостом. Я посмотрел на собачью морду и, едва в состоянии ворочать языком, просипел:
– За работу, Кабот!
Кабот с готовностью поднял голову, как это делают собаки, и стал искать силомер. Нашел – так он думал – и приблизился, в точности как был обучен делать это в классе. Он завилял хвостом.
– Кусай, Кабот, кусай! – скомандовал я, и он послушался.
Педик тотчас же отстал от меня и покатился по полу.
– Кусай, кусай, кусай! – скандировал я, точь-в-точь как мы делали это на занятиях. – Кусай, не отпускай!
И милый пес раздробил кость насильнику, и ничего ему за это не было, потому что тот нарочно придумал историю про бульдога, который, как он утверждал, лежал в засаде за писсуаром.
Из тюрьмы Тумз в клинику Шато-Парфилаж меня препровождал нью-йоркский детектив из отдела убийств. Это был ирландец по имени Грейс Спинни. Судья понимал, что смирительная рубашка и некоторые требования природы не вполне между собой согласуются, и, памятуя о статье Конституции, грозящей необычайно жестоким наказанием за нарушения неотъемлемых прав граждан, предусмотрел выход для нас обоих. Как только мы оказались за пределами трехмильной зоны, Спинни снял с меня рубаху, хотя он снова пеленал меня всякий раз, как мы проезжали через Париж, Женеву и другие города моего унижения.
На берегах Гудзона и в долине Шенандоа занималась весна. Солнце ходило под идеальным углом, свет его не был чересчур ярким, невысокая молодая травка зеленела, а ночи доводили до эйфории дуновениями теплого бриза. Прекрасные весенние пейзажи обрамлялись всполохами красных и желтых цветов, которые издалека напоминали мазки масляной краски, положенные мастером на поля.
Но волны в Северной Атлантике были по-походному серыми, а небо исходило моросью и клубилось туманом. Льдины, размером с белого медведя, плыли по морю, как кувшинки, и Спинни, всю свою жизнь ловивший преступников в городских трущобах, не раз подзывал меня к иллюминатору, тыкал в него пальцем и говорил: «Красотень-то какая! Красотень!»
Хотя он был отличным детективом, но с образованием ему явно не повезло и даже читать «Полицейскую газету» без посторонней помощи он не мог, так что после бесчисленных вопросов – «Как пишется леди Годыва?» – я стал его личным секретарем. При этом подтвердились гениальные прозрения Исаака Ньютона: каждое мое усилие вознаграждалось тем, что он в равной мере подробно рассказывал мне о тех годах своей службы, начиная с «тыща восемьсотен семисот седьмого».
Он готовился выйти на пенсию и сильно переживал по этому поводу.
– Убийство без пользы никому, – сказал он как-то. – Результат един – труп. На твоем месте, будь мне четырнадцать годков, как тебе, я бы курочил банки.
– Банки?
– Сейфы. Убийства амуральны. Я, хоть и офицер полиции, ничего амуральнова в грабеже не вижу. Знашь, у нас был чудак, который назывался «Робин Банкнота», – он выряжался с иголочки и шел в банк. Грит там: «Доброе утро. Хачу открыть у вас щет». «Как вас звать?» – спрашивают. «Робин Банкнота», – грит. И дело в шляпе!
Спинни склонился над спинкой койки, словно бы собираясь поведать мне тайну вселенной.
– В банках денег немерено, – сказал он. – И шариться не надо. Они все в одном месте лежат. Будь я на твоем месте, пошел бы сперва учиться, как чего экономить следует по уму, в университет какой-никакой, а потом устроился на работу в банк, к деньгам поближе, усек?
Я, конечно, усек, но отложил в долгий ящик.
Не припомню, когда я чувствовал себя хуже, чем в смирительной рубашке, – даже когда я свалился за борт и свист ветра возвещал мне скорую смерть. Хуже была ну разве что шоковая терапия, которой меня подвергали перед отправкой за границу, навязанная мне этим лакающим кофе ублюдком, который называл себя судьей.
Смирительная рубашка связывает вас по рукам и приводит к едва ли не полному параличу. Не находя выхода через жест агрессии, попросту говоря, не имея возможности дать кому-нибудь в рожу, вы испытываете боль, которая становится величайшей пыткой. Из двух типов закрутки смирительной рубашки худшим является тот, при котором руки оставляют спереди. Предполагается, что так оно более гуманно и лучше для кровообращения, но это приводит к чувству такого бессилия, которое трудно передать.
Электрошок – вещь, в какой-то степени более понятная для широкой публики, потому что большинство людей смертельно боятся электрического стула. А можете вы представить себе приспособление, которое, одаряя вас всей той болью, всем ужасом, что получают при казни на электрическом стуле, отказывает в смерти, заслуженной в страданиях, так что человек остается в живых и его можно казнить снова и снова? Электрошоковая терапия до сих пор остается предметом дискуссий. Те, кто, вконец обезумев, выступает в ее защиту, утверждают, что она идет на благо пациенту. Могу сказать, что это за благо. Когда сеанс завершается, вы наполовину мертвы (чего можно достичь при жестоком избиении и просто после падения с утеса), а потому совершенно спокойны и признательны за то, что живы, что муки окончились, что боль миновала. Детали представляются почти несущественными. После парочки таких электроказней я способен был даже усидеть возле кофейника.
Четырнадцатилетнему парню, выросшему в тени Синг-Синга, трудно было вынести смирительные рубашки и – особенно – электрошок. Представьте себе восхождение на вершину Эйфелевой башни, посещение Лувра и прогулки по Елисейским Полям в смирительной рубашке! Мне довелось такое испытать. И я сидел в кафе вместе со Спинни: он был украшен цепочкой для часов и никелированным пистолетом, а я скован своей белой обузой. Ему хватило милосердия поместить меня как можно дальше от аппарата для приготовления эспрессо, и когда ветер дул в нужную сторону, я был относительно избавлен от мучений. Подмигиванием, поглядыванием, черт знает какими гримасами я пытался обратить на себя внимание женщин. А когда все они отворачивались, думал, что это из-за того, что у меня прыщи, или же они находят меня слишком уж юным. Мне и в голову не приходило, что большинство женщин могут быть совершенно не заинтересованы в том, чтобы свести знакомство с парнем в смирительной рубашке, который сидит за столиком в кафе, пяля на них глаза, подмигивая и задирая брови.
Многие солдаты все еще были в форме, но страх близкой смерти их уже не тяготил, они хорошо отдохнули и загорели, и некоторые из них были ненамного старше меня – все эти герои и победители. Улицы пестрели чудесными зелеными автобусами и троллейбусами с желтыми навесами и открытыми платформами сзади. Мне хотелось запрыгивать в них на ходу. Хотелось держать в своих объятиях француженку и целовать ее. Я тогда еще ни разу в жизни не целовал француженку!
В Париже, приходящем в себя после войны, присутствовало нечто обворожительное. Жизнь во всех кварталах начинала весеннее пробуждение. У деревьев был самый глубокий зеленый цвет, какой мне только приходилось видеть, он был зеленее, чем на Гудзоне, берегов которого я никогда не забуду.
От клиники Шато-Парфилаж в Монтрё был открыт крохотный филиал – исключительно из соображений престижа. Англоязычному миру и французам местечко для размещения психиатрического лечебного учреждения на берегу озера, где на тщательно ухоженных клумбах, разбитых у самой воды, пламенели тюльпаны, представлялось идеальным. Немцы для этого дела предпочитали горы, итальянцы – море, а международные богачи – местность, где в пузырящейся грязи булькают газы.
Сама клиника находилась высоко в горах, но немцы разочаровались в тамошних методах, и, чтобы привлечь англичан и французов, среди которых после войны было как никогда много помешанных, совет директоров решил обзавестись филиалом в Монтрё.
– Ну и контора. Впрямь как конура, – прошептал Спинни, озираясь. – Сестрица, я вам больного привез. Где ему тут койка положена?
Маленькая монашка, думаю, теперь мы с ней сравнялись в годах, вытряхнула меня из смирительной рубашки, пояснив, что грешно заточать кого-либо в подобную штуковину, а уж ребенка – тем более.
– Сестрица, а ну как он бесом одержим и руки на себя наложит или пришьет кого?
– Мы оставим его на лугу, – сказала она, – где он будет наедине с Господом, среди травы и муравьев.
Через двадцать минут мы с ней сидели в маленьком поезде, изгибавшемся среди холмов по-над озером. День был солнечным, полным голубизны. Мы открыли окно, и я высунулся из него, чтобы ощутить ветер и запах прогретых солнцем лужаек. Что может быть лучше, чем сидеть в поезде, упорно ползущем среди гор, когда окна открыты и в них врывается свежий воздух, пульсируя в том же ритме, что и колеса на рельсах? Взобравшись в Шато-Парфилаж, мы поднялись в мир сияющей белизны – белизны снега, льда и облаков.
Заметив, что я в восторге от альпийского солнца, блистающего на высоких равнинах чистейшего льда, сестра Жакоб де Моньер сказала:
– Если ты когда-то и был ненормальным, то теперь, наверное, уже здоров… Однако тебе придется остаться у нас на время, чтобы все, кто не способен уразуметь очевидное, поверили, будто ты долгим лечением вернул себе то, чем Господь одарил тебя по великой своей милости в один миг.
Сойдя с поезда, дальше мы добирались на повозке, в которую был запряжен пони. Когда пони хотелось есть, он останавливался и щипал травку, а сестра Жакоб вязала. Я же в таких случаях спрыгивал с повозки, а иногда и не спрыгивал. (На протяжении жизни, а в детстве уж и подавно, я склонен был полагать, что прыжки с экипажа – самое веселое занятие на свете.) Я подбегал к краю крутых ущелий, чтобы полюбоваться видами. Как сейчас помню, я радовался как жеребенок. Так делает Фунио, пускаясь в размашистый пляс. Малыш, ничем не стесненный в движениях, – одно из самых прекрасный: зрелищ на свете. Когда мой отец брал меня с собой в Амагансетт, чтобы покувыркаться в бурунах прибоя, то по дороге я всегда вырывался вперед, то и дело наклоняясь, чтобы растереть между пальцами веточку вереска и насладиться запахом, и снова бросаясь дальше по мягким песчаным дюнам, выводившим к холодному голубому морю.
Расположенный так высоко, что на западе виднелась Франция, а на севере – Шварцвальд, замок стоял посреди луга, со всех сторон окруженный елями, пахучими и прохладными на вид, даже в такой жаркий день. Само здание было изящным сооружением из серого камня, со двором, украшенным пятьюдесятью тысячами гераней и круглым фонтаном, до краев наполненным водой из окрестный: ледников.
Никогда не приходилось мне видеть такого широкого поля. Никогда не окружал меня такой прозрачный воздух. Никогда не видел я такого чистого и белого снега, потому что каким бы белым ни был снег на Гудзоне, в нем всегда присутствовал легкий налет канадской синевы. Франция, простираясь к Атлантике, была такой далекой и багровеющей, что смотреть на мир приходилось словно бы через призму. И никогда не был я прежде так высоко, как теперь, когда находился в 3000 метров над уровнем моря, никогда не был настолько близок к солнцу, настолько беззащитен перед его благожелательным великолепием.
Я спустился с повозки на землю и пошел рядом с пони, намереваясь ощутить ступней каждую неровность дороги, ведущей к психиатрической лечебнице, которая, как я тогда думал, была одним из редких убежищ крепкого душевного здоровья в напрочь свихнувшемся мире.
Хотя директор лечебницы размерами своими был не больше сенбернара, вокруг него распространялась аура власти и беспрекословного подчинения. Я сразу же настроился по отношению к нему покровительственно, но к этому чувству примешивалось и благоговение, потому что я думал не только о том, что он давным-давно окончил среднюю школу – в которую я еще не поступал, да и никогда не поступлю – и, разумеется, колледж, а затем и медицинский институт, но и о разнообразных уровнях медицинского образования, дающих человеку возможность руководить каким-нибудь лечебным заведением до скончания жизни. Мне показалось, что у швейцарских врачей сильна склонность к строгим ученым занятиям, интеллект более развит, а чувство скромности обостреннее, чем у их безупречно вышколенных американских собратьев.
Я сел напротив него, с трудом отрывая взгляд от снежных от логов Юнгфрау, посылающих солнечные блики в узкие окна его кабинета и прямо мне в глаза.
– Американец? – спросил он с датским, как выяснилось позже, акцентом.
Я кивнул.
– Тогда первым делом я должен сказать, что ничего от тебя не жду и не требую.
– Ничего? – переспросил я.
– Только усердной работы: подъем в пять и – в поле. Американцы, как я убедился на собственном опыте, всегда испытывают потребность всех изумлять. Возможно, из-за того, что Новый Свет не так устал, как Старый.
– А как насчет психологических опытов? – спросил я.
– Каких опытов?
– Ну там смирительные рубашки, электрошок, собеседования.
– Мы вещами такого рода не занимаемся.
– Не занимаетесь?
– Нет, ни в коей мере. Десять лет всего этого не стоят и месяца уборки сена.
– Так что, ваше заведение – трудовой лагерь? У нас есть одно такое местечко, на самом краю Лонг-Айленда. Называется «санаторий Баттеруорта». Пациенты поступают туда грецкими орехами, выходят кокосами, а помирают фисташками.
– Прошу прощения? – сказал он, не в состоянии понять моего школьного жаргона; не уверен, что я и сам его понимал. – Нет, у нас не трудовой лагерь, – продолжил он. – Здесь работают только пять дней в неделю. А в выходные, если угодно, можно предаваться депрессии, отчаянию или сну. Цель не в том, чтобы беспрерывно крутить все тарелки, но в том, чтобы позволять им время от времени падать на землю.
– А кофе здесь есть?
– Нет. Ни кофе, ни чая, ни алкоголя, ни табака. Никаких наркотиков. Никакой избыточно жирной или сладкой пищи. Никаких автомобилей. Никакого шоколада. Нет здесь ни электричества, ни радио, ни телефонов, ни телеграфа, ни журналов, ни газет.
– И кофе нет? – переспросил я, не веря своим ушам.
– Кофе – изобретение дьявола, – сказал он. – Я – врач, и я знаю, о чем говорю. То обстоятельство, что люди пьют эту гадость, является одной из мировых трагедий, жалости достойной, буффонадой самоуничтожения.
Я был поражен и, разумеется, обрадован. Он продолжал:
– Тщательное исследование его химических компонентов показывает, почему это происходит. Ты изучал органическую химию?
– Не знаю, что это такое. Я толком еще не учился.
– Ладно, независимо от твоих успехов в учебе ты сможешь понять, что кофе, будучи более минуты помещенным в жидкость, температура которой составляет девяносто пять градусов по шкале Цельсия или выше, спускает с привязи такие вещества, как парасоцинат триокситана метила, локсифенилметасолицит, оксипальматовый хлорид дендрабуцефала, токситол моксибобула-три и бензиновые эфиры ноквитола-сокситана. Исследования показывают, что любой из деионизированнык локсифенилов в присутствии насыщенного окситана является в высшей степени канцерогенным веществом. Даже минимальная доза сульфурогидрогелоэксипонов почти неизбежно вызывает сердечную атоматоксию и прогрессирующую почечную палагромию.
– Издеваетесь? – спросил я.
– Слегка, – ответил он, – но кофе у нас здесь действительно нет. Я терпеть не могу кофе. И – целиком и полностью понимаю, что заставило тебя сделать то, что ты сделал. Не буду даже и пытаться избавить тебя от твоего отвращения к этому напитку. Тебе не стоит жить в этом мире. Ведь что обычно говорят, пытаясь выбить правду из души человека? Тебе, мол, надо жить в этом мире. Ну так вот, тебе – не надо. Можешь жить себе вот в таком месте, как это, можешь жить один, на лоне природы, можешь забраться на такую высоту, где никто не посмеет приготовить или выпить чашку кофе в твоем присутствии, можешь покончить с собой или можешь просто лечь и крепко заснуть… Несомненно одно. Тебе просто не надо подстраиваться к этим грязным, отталкивающим наркотическим зернам, выпестовавшим популяцию рабов, которые распространились по всем уголкам земного шара. Во всяком случае, на протяжении ближайших четырех лет. Для тебя это будут годы передышки. Будешь вспоминать о них как о времени свободы, ответственности, тяжкого труда, любви и откровения.
– Вы хотите сказать, что в школу я ходить не буду?
– Образование твое будет препоручено Господу, твоей собственной любознательности и отцу Бромеусу.
– А это кто?
– Он ухаживает за нашими коровами и занимается с пациентами.
– Чем занимается?
– Большинство наших пациентов – взрослые. Мы не можем себе позволить заниматься с подростками всеми академическими предметами, которые им требуются, но кантональный закон требует время от времени экзаменовать вас по французскому, немецкому и итальянскому, по истории, физике, математике, химии, ботанике, истории разрушительного действия кофе и другим вещам.
– И как же вы намерены это делать, – перебил его я, – без системы образования? Я не знаю этих языков. И с математикой у меня нелады. Как можно изучать химию без лаборатории?
– Не беспокойся. Мы разработали свою собственную систему, и работает она превосходно. Я сам ее придумал, после того как в десятом году побывал в Штатах и сходил на бейсбольный матч. Те, кого вы называете подающими, разминались перед матчем на боковых линиях. Ну и вот, будучи человеком науки, я перегнулся через ограждение и спросил, всегда ли они тренируются с мячом одного и того же размера. Оказалось, что так оно и есть, по крайней мере, они сказали, что это так. Почему? – спрашиваю. А почему нет? – спрашивают в ответ они. Тогда я им объяснил, что с точки зрения физики и физиологии совершенно очевидно, что они добились бы огромного роста своего мастерства, если бы тренировались с мячами различных размеров – начиная от мячика величиной с горошину и кончая футбольным мячом. Возникающие при этом трудности и неудобства превратят их в настоящих чемпионов, когда дело дойдет до мяча, удобно ложащегося в ладонь и имеющего идеальный вес и плотность, необходимые для качественного броска. Не знаю, взяли они на вооружение такую систему или нет, но мы, как ты увидишь, ее придерживаемся. Между прочим, ты на каком-нибудь музыкальном инструменте играешь?
– Нет.
– А она играет.
– Кто – она? – спросил я.
– Она оказалась здесь из-за своего отвращения к кузнечикам.
– А разве в полях кузнечиков нет?
– Только не на такой высоте.
– Откуда же она, если так ненавидит кузнечиков?
– Из Парижа. У них там, в Париже, кузнечиков пруд пруди.
– Что-то я ни одного не видел.
– А ты долго там был?
– Два дня.
– Два дня – не срок. Но все равно, инвазия начинается только в конце мая – начале июня. Мисс Маевска жила там круглый год и каждый раз в начале лета страдала от жестокого эмоционального расстройства.
– Зачем вы мне об этом рассказываете?
– Здесь все об этом знают. В августе ее семья имела обыкновение ездить на юг Франции, и, когда ей было четырнадцать, там случилось нашествие саранчи, из-за чего она здесь и оказалась. Весь Прованс кишел этой чумой, и это было свыше ее сил.
– Она француженка? Что это за имя – Маевска?
– Она польская еврейка, но она, да, француженка, хотя если прислушаться к ее речи повнимательнее, то можно обнаружить незначительный акцент.
– Понимаю.
– Думаю, пока еще нет.
Хоть я и продолжал неустанно практиковаться во время Второй мировой войны, но именно в Шато-Парфилаже меня научили (и это очень тесно ассоциируется с годами моего свободного заточения там) кочевническому применению одеяла. Марлиз почти и не знает, что такое одеяло, но там, вверху, где воздух разрежен, а снежная буря в любое мгновение готова наступить на пятки сверкающему летнему солнцу, носить одеяло просто необходимо.
Одного одеяла густой виргинской шерсти, туго связанного, достаточно длинного, чтобы сложить его вдвое или даже вчетверо, и накинутого на плечи в качестве пледа, было достаточно и для зимы, и для лета. В комнатах у нас не было ни каминов, ни, разумеется, современного центрального отопления; истинным наслаждением было сидеть укрытым в складках одеяла, занимаясь уроками или, как мисс Маевска, играя на фортепиано.
Я не видел мисс Маевску, но почти всегда слышал ее игру, даже если порой она была очень тихой. Я думал было, что встречу ее за обедом, но, поскольку нас обуревали навязчивые идеи и мы находились в приюте для душевнобольные, кормили нас на монастырский манер, каждого в его холодной комнате.
Первое задание, предложенное мне отцом Бромеусом по причинам, который: он мне не раскрыл, но которые позже представились мне совершенно очевидными, состояло в том, чтобы заучить наизусть телефонный справочник Цюриха. Я и по сей день могу припомнить имена и номера, которые больше не связаны между собой и навеки утеряны, но в давние времена ускоряли биение сердец у юношей и девушек, когда они видели на странице те цифровые коды, что способны были перенести их голос в дома их возлюбленных.
Целью отца Бромеуса было так натренировать мой мозг, чтобы он мог вбирать в себя разнообразную информацию. Это было французской частью того образования, что я получил в Шато-Парфилаже. Я до сих пор могу сказать вам, что атомный вес кобальта составляет 58,93, что железнодорожный вокзал в Невшателе находится в 482 метрах над уровнем моря, что слово «слава» Шекспир употребил 94 раза, что дифтонг по-итальянски будет звучать очень похоже, что (хоть я и не могу сказать вам, кто изобрел пикули) в 1786 году Иоганн Георг Пикуль изобрел газовую лампу и что 13 марта 1900 года Робертс совершил знаменитый бросок к Блумфонтейну.
Отец Бромеус представил мне для запоминания так много таблиц, списков, текстов, фотографий, картин и музыкальных композиций, что каждый день мне приходилось заниматься этим часами. Вскоре я овладел искусством быстрого запоминания по-истине любого материала, который уже никогда не был подвержен забытью, если только я не изгонял его преднамеренно из памяти. Лишь много позже пришел черед другого испытания, которое оказалось столь же шокирующим, как и нежданное знакомство с цюрихской телефонной книгой. Было это заданием на анализ, который отец Бромеус с иезуитской дотошностью подразделял на интерполяцию, экстраполяцию, индукцию, редукцию и дедукцию.
Когда я приступил к этим вещам, мне устроили экзамен.
– Я узнал от отца Бромеуса, – сказал мне директор, – что ты имеешь в своем распоряжении всю необходимую информацию и можешь сообщить мне, как бы ты, находясь здесь, уничтожил всех кузнечиков в Париже.
– Прошу прощения, сэр? – опешил я, потому что никогда прежде меня не принуждали к такого рода мыслям.
– Используй логику.
Я задумался. Так как мне не позволялось привлечь к делу кого-нибудь в Париже или доставить в Город Солнца клетки с птицами и летучими мышами, мне пришлось сперва сконструировать, а затем изготовить огромную пушку. Для этого потребовалось все, что я знал в области физики, металлургии, химии, геометрии и геологии (мне пришлось добывать металл и возводить доменную печь). К несчастью, чтобы добраться до кузнечиков, я вынужден был разрушить до основания весь город. Ответ, который я нащупал, был всего лишь гипотетическим. Откуда мог я знать, что это станет подспудной логикой всего ХХ века?
Директор каждый день норовил подкинуть мне новую задачку – иной раз чисто научную, иногда техническую, поэтическую, историческую, политическую или эстетическую, а зачастую и сочетающую в себе несколько из поименованных областей знания. Даже когда они оставались без ответа, попытки, которые мы предпринимали на пути к их недостижимому разрешению, делали такие задачки чрезвычайно увлекательными. Он мог предложить мне написать сонет в духе Шекспира, но по-французски и с соблюдением норм итальянской просодии, или же забросить меня в леса северной Канады и дать задание (разумеется, в теории) перезимовать там и соорудить хижину из снега и моржовых костей.
Когда я ошибался, он меня поправлял; когда терялся, показывал мне пути возможного решения. Любимыми моими задачами были краткие императивы: «Разреши проблемы революционной Франции» (сперва мне надо было выяснить, в чем они состояли). «Разработай электрическое устройство для сочинения музыки». Я сделал это теоретически, а много лет спустя наткнулся в Бразилии на то, что зовется синтезаторами, и улыбнулся. «Обеспечь развитие экономики Египта». У меня был хороший план, но египтяне ему не последовали. «Скажи мне, что это такое?» – говорил он, вручая мне фляжку с какой-нибудь липкой дрянью. Храня в памяти множество методов химического анализа, через несколько дней я представлял ему список всех компонентов с указанием их абсолютных и относительных количеств в смеси.
Все это не исключало усердной работы в поле, подъемов в пять, восхождений на покрытые льдом пики и рубки дров. Как бы в подтверждение тезиса о том, что жизнь есть академия судьбы, единственный вопрос, который он задал мне более одного раза, был, как обычно, оформлен как приказ. Собственно, он бросал мне один и тот же вызов раза четыре, и всякий раз у меня уходило несколько дней на подготовку сложного плана. И что же такое он мне предлагал? Ограбить Банк Англии.
В парижских кафе, где я маялся в своей смирительной рубашке, заходя туда вместе со Спинни, мне довелось видеть женщин, одетых по тогдашней моде. Волосы у них были тщательно уложены, пальцы сладострастно украшены кольцами, шеи – ожерельями, а запястья – браслетами. Я полагал – основываясь на том, что говорил мне о ее красоте директор, и на том, что она была парижанкой, – что мисс Маевска явит собой образчик такого искусства обольщения. Полагал, что она может позволить себе и шелка, и парфюмерию, и золото украшений, которые так подчеркивают природную красоту женщин, потому что, в конце концов, Шато-Парфилаж был одним из самых дорогих психиатрических заведений в Западной Швейцарии. Но хотя перед тем, как увидел ее воочию, я в течение ряда месяцев слышал ее великолепные транскрипции (они часто звучали и в моих сновидениях), у меня не было ни малейшего представления о мисс Маевской, пока передо мной не предстало ее лицо. Никогда и никого не любил я сильнее – и никогда не полюблю.
Это не умаляет моих чувств к Марлиз. Марлиз я любил безумно, в «тропической парадигме». Это означает, что в нашей пропитанной потом, стонами, тяжелым дыханием и наполненной изнурительным упоением жизни мы достигли относительной близости. Плоть наша и наши флюиды бывали до такой степени спрессованы, перемешаны и поглощены друг другом, что временами мы не могли с уверенностью сказать, кто из нас был или не был другим.
Но с мисс Маевской я ни разу не спал, хотя целовался с ней, должно быть, тысячу раз, и именно с мисс Маевской, хоть мы и не видели друг друга с августа 1923 года, наша близость была абсолютна.
Поначалу я влюбился в нее, всего лишь поддавшись внушению директора. Влюбиться таким образом очень легко, но не менее легко и разлюбить. Потом это случилось после того, как я услышал ее собственную транскрипцию 46-го опуса Брукса. Педантичный отец Бромеус указал мне на отклонения от партитуры. Чтобы сыграть опус на фортепиано, она многое добавила, многое исключила и довольно часто меняла темп, но душа вещи сохранилась и была столь же, если не более, прекрасна.
Я ее все еще не видел, но едва ли это имело какое-либо значение, ибо игра ее отзывалась прямо у меня в сердце, как если бы мы могли общаться лишь на духовном уровне, над которым, как мы надеемся, не властна даже смерть.
Но хотя ей удавалось настраиваться на самое утонченное восприятие мира, в обычной жизни она была шестнадцатилетней девушкой – озорной, честолюбивой и очаровательной, хотя я не отдавал себе в этом отчет, считая ее женщиной старше и опытнее меня.
Впервые я увидел ее – и, стоит мне закрыть глаза, я могу вспомнить тот день, тот час, то чувство, что даровало альпийское солнце, бьющее мне в лицо, – на самом высоком из наших лугов, когда мы убирали сено в августе тысяча девятьсот девятнадцатого года.
Это было еще то зрелище: пациенты и персонал, мужчины, женщины, парни и девушки, две дюжины национальностей и столько же неврозов и психозов. Некоторые были одеты в странные домашние костюмы, кое-кто на такой высоте едва мог передвигаться, остальные же трудились, напрягаясь, как пауки во время порывов ветра. Брейгель не удивился бы краскам той картины: ни небу нездешней голубизны, ни золотистым снопам, повсюду разбросанным вокруг нас, подобно искрящимся доспехам Ахиллеса, спокойно сияющим в свете парящего над нашими головами солнца. Не удивился бы и эмоциям, застывшим на лицах, – от простой бестолковости до полного оцепенения и безмерного испуга. Но все это были чудесные люди: я очень хорошо знал каждого из них.
В восемь утра к нам присоединилась вторая группа. Вновь прибывших я даже не заметил, так был занят работой. Обременив себя четырьмя снопами, я направлялся к подводе, чтобы показать каждому, кто мог за мной наблюдать, какой я сильный, но три из них по пути уронил. Намереваясь забросить в подводу тот единственный сноп, который все еще удерживал, и броситься обратно за остальными, я подкинул его так высоко, что он на мгновение завис надо мною, и мне показалось, что в этот миг время остановилось.
А потом я обернулся, потому что на подводу брошен был еще один сноп, который хоть и не взмыл наподобие моего, но, описав изящную дугу, тоже, казалось, помедлил на вершине необычайно долгого мгновения.
Мы с мисс Маевской стояли менее чем в футе друг от друга, и лица у нас так и пылали от утреннего солнца, бодрящего воздуха и нашего собственного усердия. Никогда не доводилось мне видеть ни таких прекрасных и пышных черных волос, ни такой глубокой синевы глаз, которые преподнесены мне были особо отчетливо, будучи увеличены очками золотой оправы с белеющими закраинами обточенный стекол. Она глубоко дышала ртом, и это придавало ей выражение ожидания и удивления.
Оба мы на какое-то время остолбенели, а потом она улыбнулась – самой изысканной улыбкой, какую я когда-либо видел, сопровождавшейся крохотными ямочками на щеках, как оно почти всегда бывает у красивых женщин.
Владел я собой не более, чем олень, глубоко пораженный стрелой, и так мне хотелось ее обнять, что я должен был хоть что-нибудь предпринять, чтобы помешать своим рукам тянуться к ней как бы самостоятельно, и я заговорил, не понимая, что именно говорю; я сказал: «А! Муз Мишевски… Мисс Мишувски…» – а потом (об этом она рассказала мне позже) губы мои двигались, не производя ни звука, как если бы я был по-настоящему безумен.
Все остальное утро я работал с ней рядом, так часто исподтишка на нее поглядывая, что вновь и вновь ударялся о подводу. Меня восхищало, с какой настороженностью и страхом продвигалась она среди сена, и я не мог не полюбить ее за эти нелепые страдания. Единственным ее недостатком, одним-единственным, было то, что она боялась кузнечиков. Мне кузнечики всегда нравились, да и сверчков я любил, но отрекся от них навеки. Объясните мне, почему ее поместили в приют для умалишенных из-за того, что она впадала в истерику при виде кузнечика? (Она не могла даже лущить горох – из-за того, на что похож широкий гороховый стручок, если взглянуть на него сбоку.) Скажите мне, почему позже, когда я совершал патрульные полеты над Средиземным морем, возвращаясь на базу в Тунисе, ее вместе с мужем и детьми сунули в вагон для скота и отправили в лагерь смерти, устроенный на равнинах Польши невдалеке от того места, где прошло ее детство?
Это, полагаю, является одной из причин того, что любовь моя к ней возросла и продолжает расти, что я люблю ее так, как верующий католик любит какого-нибудь святого. Но даже и до войны, когда мы не могли представить себе, какая судьба ее ждет, я любил ее с серьезностью и нежностью, которые совершенно необычны для подростка.
А потом мне исполнилось семнадцать – это не означает, будто я перескакиваю через те годы, когда мне было пятнадцать и шестнадцать, но прошли они очень быстро и в почти непрерывной череде снегопадов, заносов и в блеске альпийского солнца, выглядывающего из-за туч. Провел я их в обществе монахов, монахинь и пациентов приюта для душевнобольных. Сам я ненормальным не был. То, что я сделал, было совершенно законно, служило исключительно самозащите. Однако, по-видимому, результат оказался настолько ужасным, что требовал незамедлительной реакции от системы правосудия.
Много говорят о причинах преступлений, о том, что проистекают они из неизбывного страдания и по большей части являют собою трагедию. Но это не так. Преступление – уж мне ли того не знать – первом делом и главным образом является проявлением одной из возможностей нашего поведения. Человек совершает преступление не в отместку жестокому миру, но, скорее, ради того, чтобы ощутить волнение, радость, пережить риск и обрести свободу от общества с его законами и таким образом пережить ни с чем не сравнимый восторг «побега».
Если преступление требует ловкости и тщательного планирования, то это намного лучше, но, как я, кажется, уже говорил, преступление непростительно и не подлежит оправданию, если оно кого-нибудь ранит. Единственно достойным преступлением является такое, которое направлено против общественного зла. В противном случае оно отвратительно. Например, ограбление банков в захолустном Канзасе причиняет вред невинным людям, в то время как ограбление банков в Нью-Йорке ни к чему подобному не приводит.
Я всегда полагал, что кража дорогих ювелирных украшений, коль скоро она не связана с причинением какого-либо физического ущерба, безнравственна не более, чем детская игра. Принося всяческие извинения разнообразным герцогам, герцогиням и кинозвездам, которые имели дело с некоторыми из моих коллег-подельников, замечу, что заколки для галстука ценою в миллион долларов – вещицы нагловатые и сами объявляют себя красной дичью. А, да, знаю-знаю… экономика этого дела такова, что болван с миллионо-долларовой булавкой для галстука заморозил свои деньги, не давая им работать для кого-то другого, кто мог бы купить ферму и заняться выращиванием спаржи, доставляя подлинное наслаждение десяти тысячам бельгийцев, или же вложить эту сумму в рудник, в котором будет добыт металл, из которого изготовят массивный посеребренный прожектор, в свете которого бригада хирургов спасет жизнь ребенка. Но деньги по-прежнему свободны для работы, даже если бриллиант забирает вор.
Большинство подобный мне людей становятся такими как есть, потому что обнаруживают, что сражаются с общественной системой. Жалеть их, однако же, не стоит, ибо в подавляющем большинстве случаев это был их собственный выбор и совесть у них по большей части все равно нечиста.