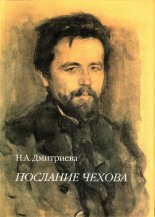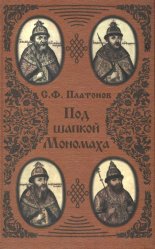Русское мировоззрение. Как возможно в России позитивное дело: поиски ответа в отечественной философии и классической литературе 40–60-х годов ХIХ столетия Филимонов Виктор

А вот и третий, может быть, наиболее важный эпизод – с письмом, в котором Александр описывает деревенскому другу своего дядю, в том числе и со словами юноши, так встревожившими воображение Ю.М. Лощица: «Я иногда вижу в нем как будто пушкинского демона…» (Выделено нами. Именно с такими оговорками, а не как у литературоведа: за исключением двух-трех романтических деталей, у дяди все, как у пушкинского демона. – С.Н., В.Ф.) Как мы помним, в письме Александр сетует на то, что дядя «не дал ему места в сердце», «не согревает горячими объятиями дружбы», «его сердцу чужды все порывы любви, дружбы, все стремления к прекрасному», он «сильных впечатлений не знает и, кажется, не любит изящного: оно чуждо душе его; я думаю, он не читал даже Пушкина…»[184]
Притом Александр, как выясняется, успев написать письмо к другу и к своей деревенской возлюбленной Софье, так и не удосужился написать матери. Примечательны и его «планы» на фортуну и карьеру. Так, в своих представлениях о службе и возможной для себя должности через пару месяцев он не прочь стать начальником отделения, а через год, пожалуй, и министром…
Кульминация эпизода – чтение дядей письма о себе и диктовка Александру нового текста. Как же определяет себя Петр Иванович? Да, он делает для Александра добро, потому что сам когда-то видел добро от его матери. И это правда. Петр Иванович диктует Александру: «Дядя мой ни демон, ни ангел, а такой же человек, как все… Он думает и чувствует по-земному, полагает, что, если мы живем на земле, так и не надо улетать с нее на небо, где нас теперь пока не спрашивают, а заниматься человеческими делами, к которым мы призваны. Оттого он вникает во все земные дела и, между прочим, в жизнь, как она есть, а не как бы нам ее хотелось. Верит в добро и вместе в зло, в прекрасное и в прескверное. Любви и дружбе тоже верит, только не думает, что они упали с неба в грязь, а полагает, что они созданы вместе с людьми и для людей, что их так и надобно понимать и вообще рассматривать вещи пристально, с их настоящей стороны, а не заноситься бог знает куда. Между честными людьми он допускает возможность приязни, которая от частых сношений и привычки обращается в дружбу. Но он полагает также, что в разлуке привычка теряет силу, и люди забывают друг друга, и что это вовсе не преступление. …О любви он того же мнения, с небольшими оттенками: не верит в неизменную и вечную любовь, как не верит в домовых… Это…придет само собою – без зову; говорит, что жизнь не в одном только этом состоит, что для этого, как для всего прочего, бывает свое время, а целый век мечтать об одной любви – глупо. Те, которые ищут ее и не могут ни минуты обойтись без нее, – живут сердцем, и еще чем-то хуже, на счет головы. Дядя любит заниматься делом, что советует и мне, а я тебе: мы принадлежим к обществу, говорит он, которое нуждается в нас; занимаясь, он не забывает и себя: дело доставляет деньги, а деньги комфорт, который он очень любит. Притом у него, может быть, есть намерения, вследствие которых, вероятно, не я буду его наследником. Дядя не всегда думает о службе да о заводе, он знает наизусть не одного Пушкина… Он читает на двух языках все, что выходит замечательного по всем отраслям человеческих знаний, любит искусства, имеет прекрасную коллекцию картин фламандской школы – это его вкус, часто бывает в театре, но не суетится, не мечется, не ахает, не охает, думая, что это ребячество, что надо воздерживать себя, не навязывать никому своих впечатлений, потому что до них никому нет надобности. Он также не говорит диким языком; что советует и мне…»[185]
Согласимся, что в дядиных самохарактеристиках нет ни приукрашивания, ни позы, что они свидетельствуют о спокойном, трезвом взгляде на себя и мир. И что если и можно было бы признать за ним проявление холодности, в которой так часто упрекают героя, так для восторгов и ярких эмоций нет поводов, а предмет разговора или личность Александра таких оснований также не дают. Действительно, Александр – юноша восторженный, эмоциональный, честный, но незатейливый и даже довольно ограниченный, а потому для дяди и малоинтересный. (Отметим еще раз, что дядя знает наизусть не одного Пушкина, неплохо разбирается в живописи, давно и содержательно живет в столице, да и старше племянника минимум на пятнадцать лет.) И потому такое событие, как явление юного деревенского родственника и его личность, интеллектуальную жизнь и эмоциональную сферу Петра Ивановича, естественно, сколь-нибудь сильно затронуть не могли. Нам очевидно, что возможность вызвать интерес в фигуре такого калибра не по силам для юного провинциала. И спасибо за то, что дядя, добравшись до действительно впечатляющих хозяйственно-служебных высот, не сделался, как многие бы на его месте, снобом, не потерял человеческого облика и в самом деле не надел на себя одну из личин демона. И сохранила его в человеческом облике прежде всего культура, неотъемлемой частью которой всегда были и остаются разум и личный труд человека.
Прошло без малого два года. По всем меркам Александр, кажется, уже должен был бы освоиться в столице и хотя бы в небольшой мере изменить свою патриархально-деревенскую систему представлений и ценностей. Этого, однако, не происходит. И хотя произошедший с ним конкретный случай – любовная измена – предмет особого разговора, в котором голос разума всегда звучит несравнимо слабее зова чувств, оба – и дядя, и племянник – проявляют себя в полной мере, и у нас снова является случай рассмотреть Петра Ивановича попристальнее. Что же открывает нам четвертый романный эпизод?
Случившаяся с Александром любовная неудача, при всей болезненности лично для него, на самом деле случай довольно обычный. И, надо отдать ему должное, Петр Иванович принимается за дело усердно и терпеливо. В ответ на громкие, с элементами мелодрамы дурного пошиба жалобы и упреки Александра («печальная повесть моего горя»; я узнал людей: «жалкий род, достойный слез и смеха!»; «унесу из толпы разбитое, но чистое от низостей сердце, душу растерзанную, но без упрека во лжи, в притворстве, в измене, не заражусь…»; «эта жизнь хуже ста смертей»; «не он ли уничтожил мое блаженство? Он, как дикий зверь, ворвался…»; «я отомщу ей!») дядя находит верный тон. Он мягко иронизирует, снижает ненужный пафос и мелодраматизм, задает здравые вопросы, взывает к разуму, старается показать Александру резоны не только его собственного обиженного сердца, но всех участвующих в событии сторон. Он даже благородно не акцентирует очевидность: ведь Александр, несмотря на клятвы и «вещественные знаки невещественных отношений» – вечной любви и верности, благополучно забыл свою деревенскую пассию – Софью и, стало быть, тоже изменил ей. А ведь мог бы, – хотя бы для того, чтобы охладить пыл племянника в отношении «презренной изменницы» и вероломного соперника.
Бог весть, сколько ночной разговор продолжался в романном времени, но даже изложение истории занимает главу из двадцати страниц. При этом дядя все время участливо-рассудительно пытается если не переубедить, то, по крайней мере, показать и смягчить очевидное – варварство и дикость взглядов Александра на отношения мужчин и женщин, на представляющееся ему верным соотношение разума и чувств. И может быть, самое главное – он произносит слова, которые могут исходить только от человека, благодаря экономической деятельности и культуре уже принадлежащего капиталистическому обществу, и которые адресованы человеку общества феодального, с крепостным состоянием и закрепощенным сознанием. Конечно, это слова, сказанные в связи с конкретным поводом, но даже и они указывают на громадность дистанции, которая разделяет племянника и дядю. «Что бы женщина ни сделала с тобой, изменила, охладела, поступила, как говорят в стихах, коварно, – вини природу, предавайся, пожалуй, по этому случаю философским размышлениям, брани мир, жизнь, что хочешь, но никогда не посягай на личность (выделено нами. – С.Н., В.Ф.) женщины ни словом, ни делом. Оружие против женщины – снисхождение, наконец самое жестокое – забвение! Только это и позволяется порядочному человеку»[186].
Конечно, в разговоре есть вещи, в которых и дядя дает промашку. Это, безусловно, высказанные вслух, в «просвещенческом» запале, слова о том, как «надо уметь образовать из девушки женщину по обдуманному плану, если хочешь, чтобы она поняла и исполнила свое назначение. …очертить ее магическим кругом… овладеть… ее умом, волей, подчинить ее вкус…»[187] и т. д. Впрочем, для успокоения Александра эта небольшая промашка не важна. Дядина «речетерапия» приносит несомненную пользу: стоило только Петру Ивановичу приостановиться, как Александр тут же подталкивает его: «Ах, говорите, ради бога, говорите!»
И неважно, что в конце беседы Адуев-младший начинает плакать и дядя, не зная, что делать, призывает на помощь жену. Через час Александр уходит успокоенным, а жена Петра Ивановича, напротив, возвращается в спальню с заплаканными глазами. И дело, конечно, не в том, что сухарь-дядя не сумел успокоить племянника или поплакать вместе с ним, а это удалось сердечной женщине, и, стало быть, сердце оказывается сильнее разума. Думаем, что по большому счету именно дядины доводы наконец-то возымели действие, равно как и эмоции стали знакомым обрамлением для наконец-то успокоенного ума, и тетушкино сочувствие было лишь средством в очередной раз потрафить привычному психологическому стереотипу.
Здесь, однако, следует сделать существенную оговорку. К разуму дядя взывает, естественно, со своих позиций, то есть имея под собой мощную культурную основу, собственный реальный опыт хозяйствования, ответственности серьезной государственной службы. Всего этого нет у Александра. Вот почему, когда в финале он предстает одномерно-расчетливым заурядным циником, читатель не слишком удивляется. Адуев-младший из своего феодально-крепостнического бытия со всеми его атрибутами жизни за чужой счет не переживает глубинного профессионально-личностного преображения, в том числе не переделывается в фигуру капиталистического общества. В существе своем он по-прежнему остается провинциальным помещиком и лишь наконец находит свой способ сосуществования с новым для него внешним миром. Отсюда – его приспособленческое решение жениться исключительно на связях и деньгах и вовсе без любви. И в этом он, кстати, тоже противоположен дяде.
Что же до поступка Петра Ивановича оставить свое успешное продвижение по хозяйственной стезе и карьерной лестнице ради любимого человека, который при такой жизни, какой он живет, может заболеть (отметим еще раз: не уже реально заболел, а только, по свидетельству доктора, может. – С.Н., В.Ф.), показывает дядину силу чувства, о котором столько распространялся Александр и на которое он конечно же не способен. А способен «сухарь» и даже, как его иногда трактуют, «демон». Именно Петр Иванович обнаруживает подлинное душевное богатство. Таков финал романа.
Как же это стало возможным? И что за шутку играет с читателем И.А. Гончаров? Об этом большой разговор впереди. Пока же, забегая вперед, отметим, что, на наш взгляд, такие повороты человеческой природы не бывают спонтанны, не возникают из ничего или в результате стечения лишь внешних обстоятельств. Напротив. Они всегда растут из глубин личности и притом длительный срок. Думаем, что почвой для внешне неожиданного и далеко не всеми (включая литературных критиков прошлого и настоящего) понятого поступка Адуева-дяди была та самая культура, которую несет с собой высвободившаяся из феодальных пут человеческая личность, которая находит свое внешнее проявление, например, в любви к фламандской школе и в знании Пушкина. Точно так же, как выверт Александра в ловкача-приспособленца происходит из традиционного российского деревенского примитива, пошлости и паразитического бытия, жизни посредством эксплуатации Евсеев и подобных им трудолюбивых пчел. При таком раскладе ум и трезвый расчет, обнаруживаемые дядей, оказываются в романе Гончарова ничуть не менее важными инструментами формирования деятельной творческой личности, чем проявляемые его женой чувственность и сердечность. Впрочем, оговоримся, что обнаруживаемые женой Петра Ивановича качества глубоко отличаются от внешне подобных им, но содержательно грубых эрзацев, демонстрируемых Александром или его матерью. И признать это необходимо вопреки тому, что ими обычно гордятся отечественные радетели русской старины, использующие их для прикрытия собственного безделья, культурной серости, интеллектуальной пустоты.
Уделив много внимания рассмотрению личности и характера Петра Ивановича в первой части романа, во второй его части Гончаров центром анализа делает молодого Адуева. Именно с ним происходит ряд историй, причем все они связаны с его новыми любовными приключениями, объяснение чему мы находим не только в том, что Александр почти вовсе отказался от труда и карьерных целей, но и в силу того, что именно здесь в наибольшей мере видны проявления природы сердца, которую тщательно изучает автор. К тому же со времени описанных в первой части романа событий пятилетнего периода минул еще год пребывания в столице младшего Адуева. Произошли ли в нем перемены и каковы они?
Как сообщает автор, в последний год психологически Александр перешел от состояния «мрачного отчаяния» к «холодному унынию». Однако идейно и мировоззренчески серьезных перемен не претерпел. В своих разговорах с тетушкой он все так же безапелляционно рассуждает о взаимной обязанности любящих людей видеть друг в друге альфу и омегу бытия, в прямом смысле «посвятить друг другу» свою жизнь, «лежать у ног», не замечать никого, кроме любимого предмета. Причем то, что мы только что называли чувственным «эрзацем», свойственным любому недостаточно цивилизованному, окультуренному человеку, у Александра сопряжено с проявлениями крайнего эгоцентризма, неблагодарности и даже безжалостности. Так, высокопарно рассуждая в разговоре с Лизаветой Александровной о своем сердце и «высоких» чувствах, Александр беззастенчиво замечает ей о чувствах ее мужа: «Не хотите ли вы уверить меня, ma tante, что такое чувство, как дядюшкино, например, прячется?» Больно задетая тетушка краснеет.
Вообще слово «сердце», как и предмет, им обозначаемый, в этой части романа становится объектом пристального рассмотрения и конечно же в паре с разумом. Так, из рассказа Александра о встрече с другом юности, который, по его мнению, не был с ним достаточно сердечен, мы узнаем, что сердце – это именно и есть тот орган, состояние которого определяет поведение героя. Вот как об этом говорит сам Александр. Сердце – место, в котором («в уголке») он всегда хранил память о своем друге. Сердце «кипит», когда друг не уделяет ему, как кажется Александру, достаточного внимания. С другом Александр желал бы говорить о том, что «ближе к сердцу». Александр удивлен, не верит тому, что у друга до такой степени могло «огрубеть сердце».
Рассуждения эти – не одна только наивность. Авторский голос, включающийся в беседу Александра с тетушкой, констатирует: «Лизавете Александровне стало жаль Александра; жаль его пылкого, но ложно направленного сердца. Она увидела, что при другом воспитании и правильном взгляде на жизнь он был бы счастлив сам и мог бы осчастливить кого-нибудь еще; а теперь он жертва собственной слепоты и самых мучительных заблуждений сердца. Он сам делает из жизни пытку. Как указать настоящий путь его сердцу? Где этот спасительный компас? Она чувствовала, что только нежная, дружеская рука могла ухаживать за этим цветком»[188]. И еще: «Бедный Александр! У него ум нейдет наравне с сердцем, вот он и виноват в глазах тех, у кого ум забежал слишком вперед, кто хочет взять везде только рассудком…» – формулирует свое понимание тетушка в разговоре с Петром Ивановичем.
Итак, все стороны, включая автора, свои позиции в отношении «центрального человеческого органа» обозначили, и наступает время для его, этого органа, проверки. Повод прост: Лизавета Александровна просит мужа дать Александру «легкий урок» на тему сердца, дружбы и любви, и Петр Иванович соглашается. Отбросив романтические фразеологизмы насчет «идеального мира», в котором дружба являет себя в кинжальном «кровопролитии» и любви, при которой происходит переход «в существование другого», Петр Иванович доходит до, кажется, простой вещи – поведения самого Александра. При этом оказывается, что, осуждая, порицая, клеймя и презирая всех, молодой Адуев просто неблагодарен и эгоистичен, потому что сосредоточен исключительно на себе самом и уверен, что от других он может требовать многого, к тому же, как он полагает, причитающегося ему «по всем правам». Таков вердикт дядюшки. Впрочем, мнение Лизаветы Александровны иное: «Я, Александр, не перестану уважать в вас сердце… Чувство увлекает вас и в ошибки, оттого я всегда извиню их»[189].
Дядюшка объективен. Тетушка великодушна. Спор не окончен. Однако впереди, как нам повествует автор, Александра ждали события, на поверку оказавшиеся испытаниями для его «сердцецентризма». Молодая вдова Юлия Павловна Тафаева, за которой, как помним, просил поухаживать Петр Иванович, с тем чтобы охладить пыл своего любвеобильного компаньона, приударившего за ней, неожиданно становится действительно возлюбленной Александра. Причем именно такой, какая полностью соответствует тому любовному идеалу, который писатель словами молодого Адуева рисовал десятком страниц ранее. А именно: она ежеминутно требует Александра к своим ногам, живет исключительно им и того же ждет от него, чувственно-сердечна до истерики и требует, чтобы он «пил …чашу жизни по капле в ее слезах и поцелуях». Говоря об этой любви, Гончаров называет ее «как будто бы припадками какой-то заразы». Но отчего это? Автор сообщает, что происходит это по причине чрезмерно развитого сердца. А именно: «Сердце в ней было развито донельзя, обработано романами и приготовлено не то что для первой, но для той романтической любви, которая существует в некоторых романах, а не в природе, и которая оттого всегда бывает несчастлива, что невозможна на деле. Между тем ум Юлии не находил в чтении одних романов здоровой пищи и отставал от сердца»[190]. Вновь ум и сердце бегают взапуски, стараясь если не догнать, то, по крайней мере, не отстать друг от друга.
В самом деле так. Потому что далее Гончаров в духе просветительского идеала формулирует свои взгляды на эту проблему. «Кто же постарался обработать преждевременно и так неправильно сердце Юлии и оставить в покое ум?.. Кто? А тот классический триумвират педагогов, которые, по призыву родителей, являются воспринять на свое попечение юный ум, открыть ему всех вещей действа и причины, расторгнуть завесу прошедшего и показать, что под нами, над нами, что в самих нас – трудная обязанность! Зато и призваны были три нации на этот важный подвиг»[191]. То, что ни одна из «наций» – француз, немец и русский – не достигла сколько-нибудь существенного результата, очевидно. Однако какова, по мнению Гончарова, в идеале должна быть эта образовательно-воспитательная метода, коль скоро он ставит о ней вопрос? Об этом речь впереди.
А пока что следует отметить (с позиций изначального жизненного принципа молодого Александра – «жизни по сердцу» после «сердечно-любовного террора», которому он подвергся со стороны вдовы Тафаевой), он впадает почти что в анабиоз, во всяком случае «ему оставалось уж немного до состояния совершенной одеревенелости». И хотя пространный разговор на эту тему у нас впереди, прежде всего в связи с личностью Ильи Ильича Обломова, интересно собственное признание и самооценка Александра в его очередном разговоре с Лизаветой Александровной. Так, свое «неучастие» в жизни, отстранение от нее, желание «покоя и сна души» Адуев-племянник объясняет следующим образом: «Я сам погубил свою жизнь. Я мечтал о славе, бог знает с чего, и пренебрег своим делом; я испортил свое скромное назначение и теперь не поправлю прошлого: поздно!»[192]
Герой удаляется в деревню. Попервоначалу тоска и тяжкие думы о столичной жизни не оставляют его. Он сумрачен и молчалив. Но постепенно «лень, беззаботность и отсутствие всякого нравственного потрясения водворили в душе его мир… Там на каждом шагу он встречал в людях невыгодные для себя сравнения… там он так часто падал, там увидал как в зеркале свои слабости… там был неумолимый дядя, преследовавший его образ мыслей, лень и ни на чем не основанное славолюбие; там изящный мир и куча дарований, между которыми он не играл никакой роли. Наконец, там жизнь стараются подвести под известные условия, прояснить ее темные и загадочные места, не давая разгула чувствам, страстям и мечтам и тем лишая ее поэтической заманчивости, хотят издать для нее какую-то скучную, однообразную и тяжелую форму…
А здесь какое приволье! Он лучше, он умнее всех! Здесь он всеобщий идол на несколько верст кругом. Притом здесь на каждом шагу, перед лицом природы, душа его отверзалась мирным, успокоительным впечатлениям»[193]. Проходив однажды с девками и бабами целый день по лесу, Александр присмотрел среди них молодую крестьянку Машу, которая и была тотчас же взята в дворню «ходить за барином». Постепенно он начал постигать и «поэзию серенького неба, сломанного забора, калитки, грязного пруда и трепака. Узенький щегольской фрак он заменил широким халатом домашней работы. И в каждом впечатлении и утра, и вечера, и трапезы, и отдыха присутствовало недремлющее око его материнской любви». Так прошло полтора года, и Александр снова начинает задумываться о Петербурге. Каковы же мотивы? В этот раз они исходят вовсе не от сердца. «Зачем гаснут мои дарования? Почему мне не блистать там своим трудом?.. Теперь я стал рассудительнее. Чем дядюшка лучше меня?»[194]
Как бы прозревая свою возможную дальнейшую жизнь в деревне, Александр в письме к дядюшке приводит пример своего соседа слева, который «мечтал по-своему переделать весь свет и Россию, а сам, пописав некоторое время бумаги в палате, удалился сюда и до сих пор не может переделать старого забора»[195]. И вот – решено. Адуев-младший возвращается в Петербург. Близится развязка жизненной коллизии не только Александра, но и Петра Ивановича. Впрочем, ее неожиданный финал готовится автором заранее – разговором дядюшки с Александром перед отъездом того в деревню. Чем же он примечателен?
Тем, что самому Гончарову представлялось наиболее важным – разбором личностных характеристик людей, появляющихся вместе с наступающей в России эрой капитализма, равно как и методы, к которой прибегал Петр Иванович, вводя Александра в круг столичной жизни. И методы эти, если судить не только по сетованиям молодого Адуева, но и по укорам Лизаветы Александровны, оказались плохи. Чем же? Остановимся на этом поподробнее.
Итак, вначале – общее заключение, которое слышит Петр Иванович от жены: «…ты сам отчасти виноват, что он стал такой… – сказала Лизавета Александровна». А Александр продолжил: «Точно, дядюшка … вы много помогли обстоятельствам сделать из меня то, что я теперь; но я вас не виню. Я сам виноват, что не умел, или, лучше сказать, не мог воспользоваться вашими уроками как следует, потому что не был приготовлен к ним. Вы, может быть, отчасти виноваты тем, что поняли мою натуру с первого раза и, несмотря на то, хотели переработать ее; вы, как человек опытный, должны были видеть, что это невозможно… вы возбудили во мне борьбу двух различных взглядов на жизнь и не могли примирить их: что ж вышло? Все превратилось во мне в сомнение, в какой-то хаос…
…Представили мне жизнь в самой безобразной наготе, и в какие лета? Когда я должен был понимать ее только с светлой стороны. …Вы только выпустили одно из виду, дядюшка: счастье. Вы забыли, что человек счастлив заблуждениями, мечтами и надеждами; действительность не счастливит…»[196] В этом пункте, на наш взгляд, сам того не сознавая, Александр формулирует главный пункт своей мировоззренческой системы: действительность не счастливит. Однако, что же дядя?
Из его уст звучит то, что можно было бы назвать идейным кредо становящегося капитализма: «Я доказывал тебе, что человеку вообще везде, а здесь в особенности, надо работать, и много работать, даже до боли в пояснице… цветов желтых нет, есть чины, деньги: это гораздо лучше! …Чего у тебя нет? Любви, что ли? Мало еще тебе: любил ты два раза и был любим. Тебе изменили, ты поквитался. Мы решили, что друзья у тебя есть, какие у другого редко бывают: не фальшивые… Делай все, как другие, – и судьба не обойдет тебя: найдешь свое. Смешно воображать себя особенным, великим человеком, когда ты не создан таким! …Рассмотри массу …современную, образованную, мыслящую и действующую: чего она хочет и к чему стремится? Как мыслит? И увидишь, что именно так, как я учил тебя»[197].
Не находит Петр Иванович общего понимания с Александром и женой и по столь волнующей их проблеме ума и сердца: «…правда, что надо больше рассуждать, нежели чувствовать? Не давать воли сердцу, удерживаться от порывов чувства? Не предаваться и не верить искреннему излиянию?
– Да, – сказал Петр Иваныч.
– Действовать надо везде по методе, меньше доверять людям, считать все ненадежным и жить одному про себя?
– Да.
– И это свято, что любовь не главное в жизни, что надо больше любить свое дело, нежели любимого человека, не надеяться ни на чью преданность, верить, что любовь должна кончиться охлаждением, изменой или привычкой? Что дружба привычка? Это все правда?