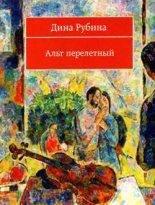К нам едет Пересвет. Отчет за нулевые Прилепин Захар

От автора
Публицистику я пишу с 2001 года. Подходит к концу 2011-й, так что получается что-то вроде юбилея. Вся эта десятилетка пришлась на пресловутые «нулевые», которые календарно закончились, но долгожданного слома времен так и не случилось.
Кого-то начало «нулевых» обнадеживало; сразу скажу, что меня – нет. Не потому что я такой прозорливый, а просто не было никакой надежды и всё.
Некоторые, надо сказать, и до сих пор надеются, причем на тех же людей, на которых надеялись десять лет назад. Удивительная вещь! Как будто мы собираемся жить триста лет и никуда не торопимся. И прощаем другим их катастрофическую неторопливость.
Просмотрев написанное мной за десять лет, я убедился, что здесь есть несколько более-менее точных формулировок, пара внятных социальных диагнозов, дюжина недурных портретов… в общем, мне нисколько не стыдно за всё то, что я в свое время наговорил.
И за то, что я говорю сейчас, тоже не стыдно – а тут собрано, замечу, много новых эссе.
Есть вещи, которые никогда не напишешь в прозе – они выламываются из текста. Когда о прозе говорят «слишком публицистично» – это всегда минус. Что вовсе не отменяет ценность самой публицистики. Только дураки пишут исключительно в расчете на вечность и не размениваются по мелочам. В этой книжке я, напротив, старательно размениваюсь по мелочам, и хорошо, что так, и правильно.
Осталось лишь добавить, что каким бы печальным ни виделось мне будущее России, это, к сожалению, никак не отменяло моего веселого и злого настроения. Своим настроением я хотел бы поделиться и с тобой, читатель.
Часть I
Я пришел из России (2001–2007)
Кровь поет, ликует почва
Почва и кровь – говорить об этом сегодня странно и почти неприлично.
Одни тянут почву зубами за стебли – под себя, под себя. Лежат на ней, разбросав загребущие руки и крепкие ноги. Находятся в состоянии войны, хотя по ним никто не стреляет. Хоть бы одна бомбежка, небольшая, мимолетная, – взглянуть, кто из них останется тянуть зубами за стебли, а кто исчезнет, как шумный морок.
Другие кривятся и говорят: какая почва, боже мой, это первобытно, это пошло, в конце концов… «Есть аргументы посерьезнее? – спрашивают они. – Что там у вас, кроме почвы? Выворачивайте карманы!»
Нет, отвечаю. Аргументов нет. Ничего, кроме почвы, нет. В карманах ириски в табаке.
У почвы есть несколько несомненных достоинств.
В отличие от нас, она молчит. Можно вслушиваться в это молчание и ловить его смысл: оно мрачное? оно нежное? оно величавое?
И кровь молчалива, и движение ее как движение времени. Времени тоже можно вскрыть вены, и тогда оно плещет через край – мимо тела, в горячую воду, в скомканное полотенце, в крики близких и любопытный ужас дальних.
Наша почва растворила в себе бесчисленное количество русских сердец. Я очень понимаю, отчего суровые мужики иногда гладят землю руками. Я увидел это мальчиком в фильме «Семнадцать мгновений весны» и потом, когда вырос, еще несколько раз видел, но смотреть на это хуже, чем на женские слезы.
Поведение и первых, о которых мы сказали выше, и вторых, о которых упоминали там же, продиктовано, по сути, одним: мучительным, таинственным, невыносимым страхом смерти.
Первые хотят заласкать, задобрить почву: прими меня нежно, прими меня лучше позже, совсем поздно, давай даже не будем разговаривать сейчас об этом.
Не хочу брать грех на душу, но иногда сдается, что первые хотят прикормить почву другими, пропустить их вперед в этой очереди.
Вторые говорят: ненавижу тебя, почва, ты и меня хочешь растворить, мерзкая, черная земля.
Почва и кровь, по сути, одно и то же. Почва – застывшая, сконцентрированная, тотальная, неподъемная кровь, которую нельзя уже выпустить на волю. Мы носим свою кровь в легком теле, готовя ее к почве. Мы поливаем цветы и хлеба.
Вторые говорят: не хочу ваших цветов, они некрасивые, хлеба ваши невкусны, прогорклы, чужды. «Не дам ей крови своей, пусть питается чем хочет».
«Почему русская почва такая, что из-за нее все время надо убивать или умирать?» – спрашивают они.
Пустой вопрос, всякая почва такая. Главное – ее разыскать, почувствовать, что ты врос, закрепился и тебя не сорвать никаким беспутным ветром. Тогда вдруг становится понятно, что убивать из-за нее, может, и не придется, а уж зажить ради нее – вообще одно удовольствие.
Моя почва – счастливая, легкая как пух, несущая радость, танцующая в такт, распахивающаяся навстречу, когда хочется упасть.
Это было, наверное, двадцать пять лет назад…
Четверть столетия прошло, кто бы мог подумать.
В соседский дом на лето приехали дед с внуком. Деда так и называли все – Дачник. Тогда это еще было редкостью – дачники. Сейчас все наоборот: одни лишь дачники и остались.
У деда была фамилия Вайнерман, и до прихода новых времен я был уверен, что дед – немец. Внука его звали Валей. Валя Вайнерман.
Мы бродили по округе, как Пушкин с Дельвигом.
Я тогда уже знал эти две фамилии, и мне наши прогулки казались необыкновенно поэтичными. И разговоры наши были неспешны и мудры. Так мне думалось, хотя наверняка мы лишь бездарно воображали и хвастались.
Вообще мы казались тихими подростками, но потом неожиданно для самих себя украли плот у взрослых пацанов с дальнего порядка, и целое лето наполнилось смыслом, бесконечным купанием, ежевечерним сокрытием плота в кустах у мостков, на которых, боже мой, мать моя полоскала белье вплоть до самой осени, в ледяной уже воде.
Это ведь не в книгах у деревенщиков я прочел, это было в моей еще даже не прошлой, а позапрошлой какой-то жизни. Мать на мостках у черной воды с белым бельем.
И вот к Вале и деду должна была приехать бабушка. Дед оставался к данному событию совершенно равнодушным, а Валя ждал и волновался. Ситуация усугублялась тем, что бабушка приезжала в день своего рождения. Нужно было готовить ей подарок – а что он мог подарить, Валя Вайнерман, мальчик семи, что ли, лет или восьми?
Денег ему дед не давал, да и нечего тогда было купить.
Утром, за несколько часов до приезда бабушки, Валя был у меня, всем видом источая почти невыносимую для детского сердца печаль. На улице начал накрапывать дождь, и это не прибавляло нашим поэтичным душам светлого настроения. Где-то вдали загромыхало, словно кто-то вместо привычных деревенских ковров решил вывесить и отбить огромный лист железа.
– Валя! – вдруг осенило меня. – Помнишь, мы с тобой видели викторию? У Шаровых?
– Чего? – спросил Валя, оживившись, но не веря еще своему счастью.
– Ну, ягоды виктория.
На улице вдарило, да еще со вспышкой, неожиданно и злобно. Мы слетели, громыхая косточками, с окна и сразу засмеялись своему искреннему, как детство, страху.
– И чего? – спросил Валя, отдышавшись.
Я смотрел за окно, где начался такой дождь, что не стало видно деревянного нужника, стоявшего во дворе в двадцати шагах от дома.
– А того! Представляешь, как обрадуется твоя бабушка, когда она приедет, а у нее на столе два ведра ягод?
– Два ведра?
– Два ведра. Пошли скорее.
– Давай после грозы, – предложил Валя. На улице громыхало и поливало настолько бурно, что даже в доме приходилось разговаривать во весь ломкий голос.
– С ума сошел, Валя? Надо сейчас, пока все попрятались.
Взяв в кладовке два огромных, почти по пояс нам ведра, нахохлившись, мы вылетели на улицу, как сумасшедшие воробьи. Сразу же безудержно заскользили на грязи и в мгновение вымокли до последней синей жилки.
В грохоте и ливне мы, ежесекундно сбиваемые с ног, добрались до огорода, пролезли, узкоребрые, меж досок и начали собирать ягоды.
Мир был полон грозой и дрожал, как передвижное шапито. Земля пузырилась вокруг нас, словно живая. Глаза заливало ледяным кипятком. Грядки смешались, будто их растерли по огороду тяжелой ладонью. Ягодные листья никли к земле. Ягоды влипли в грязь, и, чтобы извлечь их, приходилось черпать землю, обильно загоняя ее под ногти.
Трясущиеся и хохочущие от ужаса, в безумных вспышках громовых, мы бросали в свои железные, полные воды ведра сгустки грязи в форме сжатой детской ладони, несчастные обрывки листьев и редкие ягоды, раздавленные в наших руках.
Мы вытирали глаза и рты, и рты наши были черны, а бесстыжие глаза грязны, даже дождем не смывало эту грязь и черноту.
И когда меня спрашивают, что я знаю о почве, я отвечаю: знаю всё. Я черпал ее, кормился ею, мазался ею, ползал по ней на животе. Знаю, что когда вокруг гроза, на почве растут ягоды, и сердце толкает кровь так, словно взмахивает крыльями.
Теперь моей почвы касаются легкими стопами мои дети – и кто же мне докажет, что говорить о почве дурно?
Вчера видел: сын двухлетний снял под яблоней сандальки, поднял яблоко с земли, ходит-покусывает, иногда снова присядет и смотрит на розовые пяточки: не налипло ли чего от куры или от гуся, – пахнет противно, зато смотрится на пяточке красиво, как акварельный мазок.
Встанет, идет дальше, делает бессмысленные круги, кругом птицы и солнце.
Растворенные в почве сердца его деда и прадеда ликуют, поддерживая эти пяточки, – я уверен в этом ликовании, как в своем имени.
Кровь моя поет беззвучно. Сейчас тоже пойду сорву себе яблоко.
2007
Больше ничего не будет
Несколько слов о счастье
Недавно мне пришла в голову идея начать книгу примерно так:
«Господи, каким чудесным казался мир в детстве! Как много прекрасного он обещал!
И все сбылось».
После этого можно писать о чем угодно.
Ведь по большому счету дело не в том, что сбылось, а в том, как ты на это смотришь.
Счастье – эффект зрения. Мечта – точка, в которой сходятся наши желания и наши возможности. Но место этой встречи мы можем обозначить сами: это наше личное право. Можно назначать встречу своих желаний и своих возможностей ежедневно и каждый раз радоваться, что опять все получилось.
Счастье, в конце концов, плод воображения – в самом лучшем, первичном смысле этого слова. Плод воображения одного человека. Больше для этого никто не нужен.
И вот человек говорит:
«Я прожил столько разных, безумных, замечательных, бешеных, тихих дней, которых мог бы не прожить. Я так сладостно болел ангиной. Я помню вкус ворованного яблока. Первый снег. Свой велосипед с элегантной “восьмеркой”. Черт знает что я помню и черт знает зачем. Мог бы ничего не помнить, не знать, не увидеть. Это ли не повод для счастья?»
А если этих поводов еще больше…
Тем более что их больше наверняка. Почва для счастья – повсюду, смело ступайте твердой ногой. Пища для счастья – повсюду, вкушай не хочу. Сердце для счастья раскрыто, как весенний скворечник. Сейчас птица прилетит и поселится, и будет тепло, и птенцы веселые и бестолковые.
Мечта, а не жизнь! Сама жизнь – это и есть мечта. А что вы думали?
Мечта сбывается ежедневно, потому что жизнь продолжается. О чем можно вообще мечтать столь сладостно, как не о новом дне на прекрасной земле? Вы что, с ума сошли, разве есть что-то сравнимое с этой радостью: быть здесь, среди милой человеческой суеты? Идти по земле под сладостный стук своего горячего сердца?
Я долго размышлял на тему, о чем мне все-таки мечталось, и никак не мог вспомнить. Смотрел в потолок. Листал детский альбом. Наклонял голову вбок, как делают, когда в ухо попала вода, даже тряс головой: эй, детская мечта, юношеская мечта, мечта и маята моя зрелая, вернитесь, вспомнитесь!
Ничего не вспомнил.
Ну, наверное, я мечтал, чтоб я родился в своей деревне, и родила меня моя мать, а моим отцом был мой отец. Потом я мечтал, чтобы летом мне было жарко, весной зябко, зимой весело и весной совсем забубенно. И чтоб солнце всходило, и ночью по миру шел тихий шорох тишины, и фары машины пробегали по потолку: кто-то проехал мимо моего счастья, а я лежу тут под одеялом – не дышу, не дышу, не дышу. Оттого, что – всё сбывается и сбывается, и никак не перестанет.
Трудно мечтать о чем-то, когда тебе изначально дали больше, чем ты ждал когда-либо. И потом не оставляли ни на минуту.
Нам всё уже отдали, я говорю. Нам больше никто ничего не должен.
Всё при нас.
Счастье вырабатывается человеком, как энергия. Человек вырабатывает счастье сам, растрачивая направо и налево вещество жизни. Счастье не приходит в пустое место, где пустота и паутина. Оно приходит туда, где человек настроен на постижение главной и, по сути, единственной мечты человечества: жить человеком, быть человеком, любить человеком. И мечтать только об этом.
Стоит лишь на мгновение задуматься о том, что творилось на этой черной земле за многие тысячи черных лет… Сколько живых милых беззащитных душ исчезло до срока, было дико и жутко изуродовано, изничтожено – нещадно и омерзительно!..
На фоне всех этих жутких судеб – кто дал нам право ощутить себя несчастным? Растерявшим и разменявшим мечту свою на печаль свою? Разочаровавшимся, в конце концов… Кто право нам дал?
Недавно приехал в Москву, счастливый, на желанную встречу с друзьями, на добрый отдых, – и зашел в метро, и увидел, как несут двоих детей на плечах родители, и дети явно опоены чем-то и спят каким-то странным, полуживым сном. И родители их собирают милостыню.
Вышел и расплакался… Хотя нет, нельзя этого делать, и я сделал вид, что соринка в глаз попала.
И написал женеsms, что мир вокруг нас преисполнен такой невыносимой на вкус печали и горести, что всем нам просто нет иного выбора, чем бесповоротно и навек приговорить к счастью хотя бы самих себя. Пока мы в силах. Пока мы в разуме. Пока мы вместе.
И она согласилась. Я как раз об этом мечтал в тот момент.
2006
Дышите
Всякое время года начинается утром: сначала его слышишь – вслушиваешься в него, греясь под одеялом, пугаясь извлечь себя на белый свет.
И по тем или иным звукам, всхлипам и вздохам понимаешь: вот он, пришел, мой любимый месяц… Ну, как у кого, впрочем.
Март ни с чем не перепутаешь. Март вообще имеет куда более серьезное отношение к психологии, чем к природе как таковой.
Потому что поначалу март – это просто истерика, это разлад, это развод, это распад. «Черт знает что такое этот март, а не месяц», – думаешь в первые его минуты.
В марте все становится слышно, как будто весь мир переехал в коммуналку. Трамваи грохочут всеми железными костями. Собаки во дворе лают так, будто снег ожил – и они его гонят. Дворники скрежещут лопатами, словно самый асфальт хотят зачистить и дать наконец прорасти траве.
И соседи вновь появляются – сверху, снизу и еще откуда-то по диагонали. Кто-то ходит так громко и четко, словно на костылях. Но быстро, черт, быстро ходит, на костылях так нельзя. Может быть, это когти у него? Иные кашляют, мешают ложечкой в стакане, моют посуду, много посуды, словно копили ее целый год, слушают любимые весенние мелодии, иногда одну и ту же мелодию много раз, по кругу. Где все они были зимой, отчего я их не слышал? Быть может, они пребывали в спячке?
Природа рушится, капель громыхает, солнце торчит в окне, как деревенский дурачок, улыбается во всё лицо, как будто ему дали леденец в красивом фантике. Хочется открыть окно, схватить снега, слепить снежок и запустить в это счастливое лицо… но снег сполз с подоконника, как элегантный шарф, и открылась ржавая ржавчина.
Нет, положительно, невозможно находиться под одеялом. Надо вставать, весна пришла, весне, чтоб ее разорвало, дорогу.
Встаешь, сбрасываешь одеяло широким жестом, как император.
И тут вдруг выясняется, что март – самый холодный месяц в году. Термометр врал! Ученые врали! Какая, Бог с вами, зима, какие февральские морозы, какая декабрьская стынь! О, нет, никогда мне не было так холодно, как в марте.
Где мои тапки? Где мои шорты? Зачем я убрал свитера? Где мое всё?!
В марте наконец начинаешь понимать женскую психологию, первый постулат которой, как известно, гласит: надеть совершенно нечего.
Да, настоящему мужчине надеть совершенно нечего.
Например, в шубе чувствуешь себя мамонтом. В куртке – промозгло. В плаще противно – через пять минут он весь грязный снизу. Еще ни один автобус мимо не проехал, взметая черные, серые, коричневые брызги, ни один частник, уносящийся от смертельно опасной погони, не пролетел – а плащ грязный, грязный, грязный, хоть полы им мой отныне.
А обувь? Я бы ходил в валенках, но скользко. Ботинки сразу сырые. В сапогах становишься похожим на мушкетера. В сапогах мне хочется на лошадь.
Впрочем, как раз женщинам в марте определенно легче. У женщин есть юбки и ноги. Другая одежда уже не важна. Они эту не могли целую зиму надеть и заждались. Поэтому они надевают юбки и ноги – и тогда им стремительно становится хорошо! Мне на них даже смотреть холодно, а им хорошо.
Моей любимой хорошо. Она еще и без шапки. Для нее это радостно. А для меня март без шапки – трагедия. Но где моя мартовская шапка, какого мартовского кота мне для нее приспособить?
Я иду за юбкой и ногами и за милой головкой без шапки, иду мимо дворников, мимо заливающихся в лае собак, мимо общественного транспорта, мимо бешеных частников, мимо домов, мокрых и обнаженных.
Иду хрупкий, скользящий, растерявшийся, как старый семейный сервиз.
И вдруг останавливаюсь. И вдруг говорю: «Любимая, стой! Стой и ты, если стою я! Смотри, это Россия! Это русские люди! Это март!»
И вот что мы видим: я не вру ни в едином слове. Мы видим, как взвод… нет, пожалуй, как отделение солдат пытается спасти прохожих от переливающихся на солнце сталактитов – огромных, разветвленных, раскрыленных, многопудовых сосулек. Сталактиты висят на мрачном здании штаба внутренних войск, мимо него пролегает наш путь на работу.
Солдатам – я в курсе – не объяснили, как быть, что делать. Им сказали всего лишь, кто будет виноват, если сосульки по-прежнему будут громоздиться над головами. Виноваты будут они, солдатики.
Посему солдатики, недолго подумав, связали, скрепили одну очень длинную палку с другой очень длинной палкой. Как раз чтобы хватило до третьего этажа. Сначала они эту палку долго поднимают, она раскачивается на ветру, как мачта. Потом палка на мгновение застывает в вертикальном положении, и – бацц! – раздается удар о ледяной сталактит. И тут происходит самое главное. Солдатики, которые обивают осклизлую зимнюю наледь, не находятся где-то там, скажем, в казарме. Они находятся прямо под сталактитами, которые от удара… медлен-н-н-но… тягостно… как в страшном кино… начинают ползти вниз. О, мама моя!
Тут солдатики бросают палку и веселыми прыжками отбегают. Сталактит с ужасным грохотом падает наземь. Таким ударом можно было уничтожить вражеский танк или затопить небольшую, опять же вражескую, подводную лодку.
Но солдатики, на лицах которых не проявляется ни единой эмоции, вновь возвращаются на место их то ли подвига, то ли преступления и опять поднимают ввысь палку. Она качается, качается, качается… потом – бацц!
И все сначала: марш-бросок на десять метров, страшный удар, тысячи ледяных осколков.
Мы смотрим с любимой моею зачарованно. Мы держимся за руки. Руки наши горячи.
– Пацаны! – окликаю я солдат. – Погодите… Это… Вот – покурите. Покурите, а то очень страшно.
Я отдаю им всю пачку сигарет. Я сейчас брошу курить. Я еще не понял, что именно я понял только что, но это что-то очень важное.
Мы идем дальше.
Здесь останавливается любимая и говорит:
– Почка!
Одно мгновение я ничего не понимаю: всю зиму я помнил только про печень, при чем тут почка? Откуда?
А, почка. Почка! Почечка. Ароматная. Пахнет. Мы растираем ее между пальцами наших четырех рук. Мы все пропитались весной.
Позади снова обрушивается сталактит. Все хорошо. Все будут живы и счастливы. Даже не станем оборачиваться – мы и так в этом уверены.
2008
Десять лет без права переписки
Так совпало, что в то 8 Марта у нас с женою случился двойной праздник. В этот день мы начали жить вместе, и произошло это десять лет назад.
Мы готовились встретить эту дату неспешно и нежно и приближались к ней со спокойным сердцебиением людей, уверенных в своей силе и правоте. Внутри звучала легкая бравурная музыка. Весенний видеоряд, полный шумных машин и веселых дворовых собак, соответствовал настрою.
Но, как бывало с пленкой в кассетнике, что-то в движении застопорилось, звук поплыл, затем смолк. За два дня до прекрасной даты все вокруг начало расплываться, то теряя краски вовсе, то приобретая новые, но неприятные.
У нас начался грипп.
Эпидемия гриппа уже несколько дней шла по всему городу, и сотни воспаленных, со слезами на глазах людей встречались нам ежедневно в магазинах и в транспорте.
Мы были уверены, что нас минует. У нас же праздник, какой еще грипп? Но тут легкую заразу принесло из садика наше среднее чадо, и всего за день эта зараза своим длинным горячим языком облизала всю нашу семью. Я давно заметил, что детские инфекции – самые привязчивые.
Чадо, впрочем, вскоре выздоровело, а нас с женою словно понесло мутным, розовым и жарким течением.
7 марта, еще не веря, что все так невесело, я пошел в банк напротив дома и снял десять тысяч рублей. На предстоящее веселье.
Пошатываясь, вернулся, стянул свитера и джинсы, упал в кровать.
Вечер прошел в вялой суете. Утро принесло такое ощущение, словно я проснулся в прокисшем рассоле, и этот рассол разогревают до кипятка.
В детской комнате у нас стоит двухъярусная кровать. С трудом умывшись, мы снова улеглись с женой – она на второй этаж, я на первый – и начали набирать температуру.
Детей согнали в большую комнату, где включили трехчасовой диск про Джерри и Тома. До сих пор в ушах стоит эта бодрая духовая музыка, каждый аккорд которой обрушивал в тот день мое сознание.
Набирать температуру оказалось делом вполне увлекательным. Провалявшись в забытьи какое-то вялое количество времени, я тянул руку к подоконнику, где лежал градусник. Замерял, отмечая, что – растет, и передавал градусник на второй этаж, жене.
К обеду наша температура перешла отметку 39,5.
Кашель стал напоминать звук иерихонских труб.
Возможности носоглоток вмещать столько вязкой и легковозобновляемой жидкости оказались просто потрясающими.
Я всерьез решил зафиксировать (для кого только?) процесс своего ухода в иной мир и стал дожидаться того момента, когда начнутся галлюцинации и полная потеря сознания.
Тем временем сорок восьмая история про Тома и Джерри завершилась, и дети, все трое, пришли требовать есть. У всех детей были длинные сопли, и они кашляли такими прожженными голосами, словно провели предыдущие – соответственно своему возрасту – год, два года и восемь лет в подземелье, произрастая босиком в ржавой воде. Но температуры у них, к счастью, не было.
В общем, свои галлюцинации мне пришлось отложить. Неровной походкой я убрел на кухню, ни в одном шаге не отдавая себе отчета.
Я совершал множество неадекватных движений. Выяснилось, что использование газовой конфорки, нарезка хлеба, вскрытие пакета кефира, отварка макарон и т. п. за многие годы так и не стали процессами, отработанными до автоматизма, и мне приходилось подолгу осознавать, зачем я стою здесь, посреди кухни, с ножом, окруженный рыдающими детьми.
Засовав в полубреду в цыплячьи рты что-то съестное, я отдал детям огромную пачку печенья, которое они вскоре равномерно распределили по всей поверхности дивана, неустанно копошась во всем этом крошеве.
Следующей встала жена, и я видел, как она с закрытыми глазами готовила детям лекарство и потом закапывала им лечебные капли в уши и носы, так и не открыв свои глаза, но ни разу не промахнувшись. Вернувшись, она упала без сил и лежала без движения.
Иногда дети приходили к нам и ползали по мне. Я лежал, накрывшись одеялом с головой и вцепившись в него горячими зубами, уверенный, что если я сейчас дыхнул бы, скажем, на цыпленка, то он сразу бы облысел и зачах.
Мы уложили спать детей в семь часов вечера и сами уснули первыми.
Так прошел день праздника.
Ночью я вскрикивал, а жена стонала, но детей это не беспокоило.
На другой день нам принесли лекарства.
Чтобы расплатиться, я пошел искать деньги в джинсах, те самые десять тысяч, что снял со счета на желанный праздник. Спустя полчаса поисков я понял, что деньги потеряны. Наверное, они выпали из кармана по пути от банка до дома. Меня нисколько не удивил этот факт, хотя последний раз я терял деньги во втором классе, и это были пятнадцать копеек на проезд.
Глотая антибиотики, я вяло думал: «Это очень правильно… Мы прожили десять лет, которые были прекрасными…
Их нельзя переписать набело, заново – это десять лет без права переписки… Но и не нужно, ни к чему… И десять тысяч кому-то на счастье – такая малая плата за десять лет…
В конце концов, может быть, нашедший их тоже болеет гриппом и ему нужны деньги на капли и порошки…»
Еще я думал про очищающий жар, про то, что в нем должно перегореть и выгореть все ненужное и случайное.
Выздоровление приходило медленно, словно издалека. И сейчас, когда я набираю этот текст, оно еще не пришло во всей полноте и силе.
Плыви себе, гриппозный кораблик, мы отдали тебе свою дань, говорю я.
А дети так и не заболели. Видимо, у них не накопилось никаких долгов.
2007
О красоте, или Жизнь по отвлеченным понятиям
Казалось бы: красота – понятие широкое, и не всегда ясно, что именно оно означает.
Когда великий Федор Михайлович говорил о том, что эта самая красота спасет мир, он, наверное, меньше всего имел в виду красивых людей и красивые виды.
Речь шла о красоте поступка, о красоте мужества и женственности, о красоте веры, прозрачной и честной.
Добро красиво, милосердие красиво, подвиг красив.
Красива молитва, честность красива, нежность красива.
Мир преисполнен красотой как счастьем. Другой вопрос, что красота, наверное, никого уже не спасет.
Со времен позапрошлого века мы научились использовать красоту так, как нам удобно. Выворачивать подлость и пошлость наизнанку, делая красивыми любые слабости и непотребства.
В свое время красота была бесконечно дальним центром мироздания – и к этому центру стремилось любое страстное и честное сердце. Наивысшую точку красоты, ее средоточие, можно было называть гармонией. Мир искал гармонии.
Сегодня красота стала служанкой человека с его бесконечным стремлением наделить благородством и смыслом любой свой неприглядный поступок.
Гармоничное существование, гармоничный взгляд на вещи, гармоничное бытие сплошь и рядом подменяются чем-то иным.
Для современного человека гармония – это комфорт.
Нынешний гармоничный взгляд на вещи – это устойчивая привычка видеть и знать то, что хочется видеть и знать, и отказ от знания о вещах трудных, сложных и неопрятных.
Подлинность, которая, безусловно, является главным содержанием и кровеносной системой красоты, стала несколько непристойной, стыдной, странной.
Подлинное милосердие почти не слышно, почти затеряно среди пышных и пошлых жестов людей очевидно и насквозь немилосердных.
Человеку, совершившему подлинный подвиг, проще умереть три раза подряд, чем обрести внимание признательных ему людей. Подвига уже нет. Он стал, по сути, неполиткорректен – оттого, что оскорбляет человека, не склонного к подвигам.
Естественно, нет и национальных героев. Вернее сказать, в национальных героях ходят редкие проходимцы, которым еще неизвестно где место.
Подобно тому, как гармония с извлеченной сутью стала комфортом, так и подлинность заменил имидж.
Имидж – это подлинность с вырезанными кишками, сердцем и легкими. Остался манекен – с приклеенной улыбкой, с пустыми стеклянными глазами… Но если к нему приглядеться внимательно – сразу заметишь, что у него как минимум нет пупка, а глаза не моргают.
Подлинными теперь кажутся грязные и глупые шуты в политике и в культуре.
Мир все больше становится триединым, и наше нынешнее триединство – это имидж, комфорт, гламур. Они неразрывны и взаимосвязаны.
Имидж и комфорт создают гламур.
Гламур и комфорт делают имидж.
Где тут, в этих тупиках, под нарисованными эмульсией небесами, протиснуться красоте, как ей проявиться на свет Божий?
Красота все не приходит, все никак не наступает.
Как ей протиснуться в наш новый, чудесный мир? У нас тут и так вокруг много приятных и гладких на ощупь вещей.
А отвлеченные понятия занимают слишком много места. Отвлеченные понятия занимают слишком много сердца. Отвлеченные понятия заставляют слишком часто дышать и при этом все равно иногда задыхаться от непостижимости бытия.
Мы изгнали их. Мы желаем жить конкретно. По конкретным понятиям.
Но, изгнав отвлеченные понятия, мы отлучили себя от красоты.
Красота неконкретна. Ее нельзя сформулировать, расфасовать, а потом использовать по мере необходимости.
Надо отвлечься от конкретных понятий. Слишком много серьезных людей вокруг. Слишком мало красивых.
2007
Русские люди за длинным столом
Русский человек и есть та глина, в которую до сих пор легко вдохнуть дар, дух и жизнь.
Народ – глина. Когда в него вдыхают живой дух – он становится нацией.
Я встречал несколько тысяч русских людей в самых разных ситуациях и в самых разных местах.
В деревне, где родился и куда возвращаюсь каждый год. Там, в расстегнутых рубахах и серых трико, с черной щетиной, лишенные запахов тела, подобно святым, но с легким перегаром, конечно, бродят рано постаревшие мужики. Каждую зиму они срезают провода от моего дома до ближайшего столба; каждое лето я приезжаю и за бутылку водки покупаю у них эти провода, но, естественно, они продают мне их как случайно завалявшиеся, не мои и специально для меня припасенные. Это у нас такой обряд.
Я приезжаю свежим комариным вечером, нахожу мужиков за просмотром телевизора, где уже в прошлом году не было изображения, зато есть звук. На их столе стоит стеклянная рать.
Привожу их к своей избушке на машине (провода они бросают в багажник).
Пьяные, они лезут на крышу, верней, лезет один из них, а второй стоит внизу, подавая, когда просят, провод, пассатижи и что-то там еще.