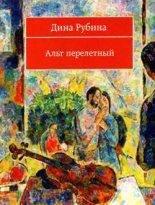К нам едет Пересвет. Отчет за нулевые Прилепин Захар

Не сбивая облепивших черную шею комаров, рассказывая мне о том, как хорошо будет этим летом, как зимой волки заходили в деревню, как дворовый пес ушел в лес и вернулся, притащив в зубах задушенного зайца, сивый мужичина крепит провода, переступая по крыше босыми ногами.
Потом провода тянут к столбу, притаскивают откуда-то лесенку, по которой я бы не рискнул передвигаться, даже если б она лежала на земле. Не переставая разговаривать со мной, размахивая в воздухе оголенными концами моих прошлогодних проводов, задевая ими провода под током, тем самым выбивая жуткие искры и нисколько этого не пугаясь, мне устанавливают электричество.
Я отвожу мужиков домой, даю им водки. Я привез ее с собой, мне не жалко.
Почти все их поступки незлобны и скорей веселы. Большинство их суждений о природе и природе вещей удивительно метки.
Деревня отслаивает речь. Отшелушивает. И еще – интонацию и мимику.
Каждую весну я тоскую по этим мужикам.
Еще я видел русских людей в университетах, где похожие на неопрятных птиц студенты громко шумели меж собой, и мне казалось, что ни один из них никогда не станет нормальным мужчиной. Но потом, спустя годы, я их встречал, и все они легко несли свое достоинство, свои новые профессии. Черные неопрятные птицы разлетелись неведомо куда, осталась твердая посадка головы, взгляд, жест, ответственность.
Я очень редко встречал плохих русских людей. Наверное, я их не знаю вовсе.
Я не могу их вспомнить даже в ночных клубах, где работал – назовем это громко – вышибалой и куда уходил, выпив стакан спирта, чтобы сберечь до утра немного нервов. Многие приходившие туда вели себя дурно и пошло, они всякий раз норовили обидеть друг друга, меня, моих напарников, глаза их были подлы, и руки – нехорошо суетливы. Но я подозреваю, что, если б обстоятельства сложились иначе, я вел бы себя точно так же, как они.
Это были самые злые и подлые времена новой истории России; и многих из того поколения уже нет в живых, иные из них стерлись до неузнаваемости, но тогда они еще были в своей мрачной и неожиданной им самим силе.
И я неизменно чувствовал, что мы останемся с ними одной крови, даже если пустим ее друг другу.
И потом: их речь. Их повадки.
(Я так много говорю о повадках и речи, потому что беру на себя смелость судить о людях по внешним признакам – в конце концов, никому из нас не приведется хотя бы по разу подняться со всеми знакомыми русскими мужиками в атаку, чтобы понять каждого. Будем надеяться на собственную интуицию и наблюдательность.)
И я говорю: их повадки. Их речь. Их разворот головы. Когда одна фраза, какое-нибудь с виду вполне простое, с зачищенными эмоциями: «А что тебе не нравится?» – заставляет вздыматься волоски на шее.
Подсмотрел недавно такой диалог:
– А где ты будешь жить, если еще раз мне слово скажешь, ты знаешь?
– Где?
– Нигде. Понял, Вася?
Достоинства в этом не меньше, чем в словах «…русские после первой не закусывают…».
В минуты, когда с самыми тяжелыми посетителями ночных заведений мне приходилось общаться нормально, я с удивлением думал, что нас мало что разделяет.
Еще перед моими глазами прошли тысячи «срочников» и «контрактников», суровые солдаты, бодрые бойцы спецназа, штабное офицерье (можно и так – офицерская штабня), несколько раз я вблизи видел настоящих генералов. Красные мужественные головы на коротких шеях.
Русские люди на Кавказе несли в лицах хорошую, не показную деловитость и совершенно немыслимую здесь, простите меня, чистоту от постоянного осознания присутствия смерти, которая может случиться в любой день.
Еще я встречал несколько тысяч национал-большевиков и знаю добрую сотню из них, осмысленно пошедших в тюрьму.
Русские парни из породы новых революционеров веселы и горячи ровно в те минуты, когда знают, что скоро их свобода будет прервана на месяцы и годы.
Я знал рецидивистов, оперов, шоферов, грузчиков, профессоров, политиков, бизнесменов, миллионеров, нищих. Я работал в милиции, в рекламной службе, в магазине, в газете, на кладбище и еще где-то.
Мужество и терпение, жалость и злость – меж этих координат помещен русский человек.
Шесть лет я ходил в форме и брился два раза в день.
Однажды я сжигал со своей камуфляжной братвой загородные, при городской помойке, поселения бомжей. Бомжей было несколько сот, у каждого был свой домик, свой шалаш, своя посуда, и даже бритвы, и даже зубные щетки с редкой серой щетиной. От домика к домику были тропки: они ходят друг к другу в гости, угощая тем, что нашли на помойке. В углах их шалашей висели картинки из старых журналов: цветы, вожди, иногда машины.
Когда мы жгли их поселение, они плакали.
Еще я бывал на Рублевке, в загородных особняках губернаторов и миллиардеров. И даже в Кремле раз. Там тоже живые люди, они тоже плакали бы, если бы…
Я никак не могу вспомнить человека, о котором мог бы сказать: это безысходная гнида, такую можно только убить. Любой из встреченных мною был ярок либо в своей дури, либо в своей жестокости, либо в своей самой последней подлости. Таких людей хочется беречь и холить.
Нет, безусловно, кого-то можно убить, но почти всегда стоит обойтись и без этого. Пусть все живут.
Ощущаю с ними родство.
И мне кажется, что русских людей можно менять местами, потому что все они удивительно похожи и всякий раз окажутся на своем месте, куда бы их ни поместили.
Иногда я представляю, как все мы, кого я знал, сидим за деревянным столом, – и мы так хорошо сидим, знаете.
Тяжела моя родня, но пусть идут к черту все, кто говорит, что нет крови и нет почвы.
Есть кровь, и почва, и судьба. И речь, пропитанная ими.
Потом я работал политическим, как нынче выражаются, технологом, осмысленно и без угрызений совести менял одну за другой почти все партии из присутствовавших ныне в парламенте и сначала с ужасом, а потом с удовольствием понял, что все они одинаковы и люди, находящиеся в них, – одинаковы. Это обычные русские люди.
Мне ненавистно положение вещей, а не положение людей: тех или иных людей во власти.
А до людей мне все равно. У меня нет врагов. Есть несколько упрямых в своей алчности людей, и есть невыносимые дураки, но где нет дураков…
В любом случае в России, наверное, уже не будет настоящей гражданской войны.
Ее так долго не было, что истины стали едины для всех русских людей, вот о чем я говорю. В последние времена мы слишком мало отличаемся друг от друга, чтобы истово ненавидеть.
Помню, в середине и в конце 1990-х годов мне дико хотелось убить, физически уничтожить нескольких человек из числа – скажем условно – либералов, либеральных политиков, либеральных журналистов. Мне казалось, что они изо дня в день уничтожают то, что составляет меня, и мириться с их существованием нельзя.
Теперь я смотрю на этих людей почти с нежностью.
Они – одни из немногих, охраняющих то, что крепит и меня.
С ужасом думаю: а если бы убил тогда?..
Притом что либерализм ненавижу по сей день как чуму.
Еще я много времени провел в компании писателей; мы выпили удивительное количество вина.
Там был Сергей с черной наглой башкой, вызывающе красивый, вызывающе талантливый, взрывной, импульсивный, жадный до жизни, ратующий за социализм, за любое буйство и за драку.
Там был Дима из Петрозаводска, который написал несколько гениальных рассказов, в том числе про муху и янтарь. Он ненавидит самое слово «социализм», первым синонимом которого склонен видеть слово «мерзость». Он из того поколения, что осваивало распавшуюся советскую реальность, свободно предпринимая те или иные не всегда законные действия.
Там был замечательный Роман, странно близкий и Дмитрию, и Сергею, мрачный и веселый одновременно.
Там был Илья, который жаждет описать Алтай, заселить его ведомыми и неведомыми людьми; и когда мы спорили о национализме, Илья призывал нас навсегда забыть эти слова и никогда никого не делить.
Там был Денис, который говорит с грузинским акцентом, он вырос в Грузии. Денис все время обещает взяться за оружие, если кто-то придет к нему в дом, чтобы разделить его имущество.
Три года мы разговаривали и кричали иногда, чтобы я понял в конце концов, что мы почти неразличимы. Что у нас одни и те же слова, которые мы произносим в разной последовательности, и лишь это нас пугает.
Народ, воистину, данность в современной России. А нация – воистину – задание.
Но задание не для всех. Лишь для тех, кто в который раз рискнет взять на себя ответственность и артикулировать изначально понятное всем.
Задача почти невозможная, но начать стоит.
Просто потому, что никто, в сущности, не против и все уже готовы.
Я хожу по нашей земле с тем странным ощущением, когда тебе отзывается все вокруг тебя. Наверное, так ходят лесники по любимому лесу.
2007
Привиделось и прислышалось
В их стыдных для русского слуха именах слышна суть их характеров.
Горбачев… В народе его называли Горбач.
На первый – отстраненный – взгляд «Горбач» звучит строго, даже злобно. Скажи: «Горбач» – и представляется злой, с кривой рожей мужик, бесноватый и дурной. Но дело в том, что эта фамилия больше имеет отношение к горбуше, к рыбе из рода лососей, или к рыбе горбыль (южное наименование рыбы ласкирь).
Вспомните его лицо, закройте глаза – и увидите большеголовую рыбу со спокойным, медленным взором, вяло повиливающую хвостом, равнодушную к тому, что кто-то жрет ее семью, ее соседей, ее деток. Впрочем, вялость ее обманчива: она с легкостью уйдет от крючка, из сети и появится чуть позже – все такая же спокойная, открывающая рот, откуда исходят бессмысленные бульки.
Рыба эта мечена, то ли на боку ее, то ли на голове кляксой расплылось странное пятно. И когда окрестные рыбы сплываются посмотреть на меченую невидаль, она – не смотри, что вяла и туповата – начинает красоваться, поворачиваться разными сторонами. Горбуше кажется, что ею любуются.
Такую рыбу хочется выловить и бить ее веслом. Чтоб не встрепенулась, не ожила, не выпрыгнула из лодки, не ушла в глубину.
В фамилии Ельцин слышен звон бубенчика, повисшего над головой тупого, наглого и дурного мерина, завезшего свою телегу в лес, в непролазные дебри, в безысходную темь. Мерин скалит зубы, косит белым бессмысленным глазом и прет куда-то, не слыша крика проснувшегося возницы, плача детей, едущих в телеге…
Упрямый, беспощадный мерин, он ждет, что возница его остановит, слезет и даст мозолистым кулаком ему по морде, да несколько раз. А потом развернет и будет стегать кнутом – до самого дома. А дома зловредный мерин издохнет, и его выкинут на помойку, оттащат туда за ноги, и будут стаи мух виться над ним, откладывать в его большом теле свои личинки.
Слово «путин» в русском языке означало ломотную боль в пояснице, от которой заговаривали, кладя поперек порога и присекая кремнем. Ломотная и нудная боль, которая распространяется на все тело.
Еще фамилия Путин вызывает ассоциации с паутиной. В паутине висит длинная моль или еще какое-то тусклое шершавое насекомое, усохшее и бледное, с белыми крыльями.
Если едешь на мерине с рыбалки, тоскливый, полупьяный, ленивый, везешь в телеге пойманную глупоглазую меченую рыбу, в лесу эта липкая паутина обязательно облепит лицо, бледное насекомое повиснет на носу, семья пауков полезет в уши и за пазуху, и всепоглощающая брезгливость остановит сердце на мгновенье, заставит судорожно вытирать лицо, прочищать уши. Тем временем мерин понесет черт знает куда, завалишься от его скока на спину, ожившая рыба ожгет хвостом, порежет плавниками лицо. В спину вступит жуткая опоясывающая боль, так что ноги отнимутся.
Вот тогда – недвижимый, напуганный, измазанный в собственной крови, в рыбьей чешуе, в паутине, – ты и услышишь волчий вой…
2001
Отборный козий изюм
Начнем с того, что Татьяна Толстая – замечательный русский писатель; на том и завершим.
Перейдем сразу к следующему пункту: к ее публицистике. Это совершенно другой разговор, литературы вовсе не касающийся.
Читая публицистику Татьяны Толстой, вы не встретите ни одного нормального русского лица. Почти все русские люди, описанные Толстой, выглядят ущербно. Иных она, похоже, не встречала.
Первая учительница юной Тани – Валентина Тимофеевна – сущая мегера, «орет, стуча костяшками пальцев», всем своим видом корежа нежное детское мироощущение. Не повезло с первым учителем, всякое бывает. И с завучем не повезло – завуч появилась на той же странице – «толстая тетка… не человек, а слипшиеся комья». И с одноклассниками: на переменах Таню заставляли ходить вместе с Володей, и она держала «его потную лапку, усыпанную бородавками». Таня просто бредила от брезгливости, боялась, что «…скоро весь класс, весь “коллектив, все дружные ребята покроются бородавками…» (эссе «Женский день»).
Толстая, без сомнения, – адепт индивидуализированного общества: стоит сразу обратить внимание на то, с какой брезгливостью, обернув, как сельдь, в кавычки, она употребляет слово «коллектив».
Опустим школьные годы – все-таки девочка из хорошей семьи, утонченное восприятие, очевидное самолюбие, – в детстве к таким детям явно необходим индивидуальный подход. Но вот она повзрослела и, казалось бы, должна была стать чуть спокойнее. По крайней мере, хоть изредка видеть в соотечественниках хорошее, симпатичное. Не видит.
Листаем далее публицистику Толстой. Смотрите, вот появился некий «гражданин», естественно, он «по-плебейски» «пялится» куда-то (эссе «Лилит»). А вот «симпатичная бабушка с гноящимся глазом» (эссе «Ряженые»), далее Татьяна ее так и называет – «гнойная бабушка».
Славная женщина – Татьяна Толстая, верующая, очень любит об интеллигенции и ее отличительных признаках поговорить. Вслед за «гнойной бабушкой» появляется «румяная сумасшедшая старуха», мимо пробегает. Других бабушек Толстая в «нашем» (как она любит говорить) народе, видимо, не замечала.
Особые чувства питает Толстая к детям. Вот она заприметила ребенка-попрошайку, играющего на баяне, – «сажа и сопли образовали на личике черную корку» (эссе «Ряженые»). Уставший от домогательств Татьяны и ее друзей-голландцев, снимающих нищету на камеру, мальчик пытается убежать. Толстая зорко подмечает, что он двигается «как краб». Баян тяжелый, понимаете ли. А вообще, как еще могут двигаться дети, взращенные «гнойными бабушками» и отцами-«плебеями»? Только «как крабы». Естественно, в то, что мальчик нищий, Толстая не верит. Нарочно, поди, измазался соплями, сажей да играет себе в двадцатипятиградусный холод на баяне. Околеет за доллар (который, к слову, Татьяна со товарищи так ему и не дали).
Но веру в «свой» народ Татьяна не теряет.
Много и с удовольствием Толстая философствует на тему гиблого и бестолкового российского менталитета в эссе «Вот тебе, баба, блинок!». Текст заканчивается следующим фантазийным пассажем: «Босой оборвыш долго смотрит, разинув рот, в освещенные окна, за которыми нарядные дети водят хороводы вокруг рождественской елки. Кто знает, о чем он думает в этот момент. Может быть: “Эх, никогда мне так не повеселиться!” А может быть: “Буду трудиться в поте лица – тоже стану водить хороводы”».
Сколь велика сила художественного слова…
Толстая безжалостно поместила выдуманного ею героя посреди зимы голыми ногами в снег (оборвыш-то – «босой»!). Ей самой и ее детям явно не приходилось голыми пятками топтать ледяной наст. Но поражает другое! По мнению Толстой, «босой оборвыш», глядя на веселящихся детей, должен понять, что только трудом заслуживают такую радость. Я так полагаю, девочка Таня уже с детства «трудилась в поте лица», зарабатывая себе деньги на елку и рождественские подарки.
Только вот где трудиться этому «оборвышу»? Сколько, кстати, ему лет – шесть? девять? четырнадцать? Куда ему пойти, по мнению Татьяны? В порно-бизнес? Или стекла иномаркам мыть? Ну что вы. Необходимо идти на нормальную работу. Сейчас, слава богу, детский труд разрешен с четырнадцати лет. Это тебе не советский тоталитаризм.
Глядишь, годам к тридцати «оборвыш» и заработает себе на хоровод. Вот тогда и ухороводится до полного счастья. А пока ему писательница велела смирно стоять и любоваться на освещенные окна, постигая сущность бытия…
Читая этот восхитительный отрывок, я, вдохновленный Толстой, так и вижу продолжение описанной сценки. Открывается окно (душно в зале), и пред измазанным соплями и сажей личиком оборвыша появляется хорошее, тяжелое лицо писательницы. Она видит стоящего на цыпочках, дрожащего, наверняка уже простуженного мальца и говорит: «Холодно? Голодно? Трудись в поте лица, и все тебе будет. Кто работает, тот не мерзнет».
Окно закрывается, и слышен хорошо поставленный голос Татьяны: «Ребята! Прекращаем игры! Сейчас будет подан десерт!»
После вышесказанного о публицистике Толстой вообще не следовало бы писать – этим пассажем она сама поставила себе диагноз, но мы все-таки еще сделаем несколько горестных замет.
Татьяна Толстая – барыня. Она является персонажем то ли Гоголя, то ли Чехова. Где-то у классиков прошуршала платьем эта надменная дама с поджатыми губами, дала пощечину подвернувшейся дворовой девке… Такой и запомнилась. И вот вернулась, нежданная. Глаза насмешливые, голос ледяной. Уму-разуму учит темный люд, грязную сарынь.
Сарынь смертельно провинилась перед Толстой в 1917 году. Согласно Толстой, революция – непростительный народный грех. До сих пор «наш» народ кнута за «учиненныя непотребства» просит – вырывается где-то у барыни.
Представления Татьяны Толстой о дореволюционной эпохе как о «золотом веке» (так называется одно из эссе писательницы) малообоснованны, надуманны, литературны.
Вот как начинается вышеупомянутое эссе «Золотой век»: «Всем русским известна знаменитая ленинская фраза: “Каждая кухарка должна уметь управлять государством”. Интересно, что он, ни разу в жизни не сваривший себе крутого яйца, мог знать о кухарках?..»
Здесь Толстая совершает подлог, поскольку приведенных ею слов Ленин никогда не произносил. В работе «Удержат ли большевики государственную власть» он писал: «Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством». Смысл несколько иной, согласитесь? Ленин не говорит, что «должна». Напротив, он говорит «неспособна».
Заметьте, что цитирование Толстая предваряет снобистским: «Всем русским известна… фраза…» Может, кому и известна, но вот не вам.
«А между тем в России была женщина, – продолжает Толстая, – чьему умению управлять своим маленьким государством Ленин мог бы позавидовать».
Далее Толстая подробно описывает таланты Елены Молоховец, составительницы кулинарных книг. Попутно Толстая замечает, что «сам стиль жизни, воспринимаемый Молоховец как нечто само собой разумеющееся, давно канул в прошлое…», что перечисляемые кулинаром рецепты и советы (сытный завтрак, обед из четырех роскошных блюд и т. д.) были «рассчитаны на семью с обыкновенным аппетитом, среднего достатка».
Пафос статьи, состоящей из перечислений изысканных блюд, прост: вот-де как жили люди в старое время, да большевики пришли, отняли балык и устрицы у простого люда со «средним достатком».
Это похвально, что Татьяна изучает историю рубежа XIX–XX веков (времени «либеральных реформ и надежд», как нежно подмечает писательница) по кулинарным книгам. Мало того, она уверяет читателя, что и русские классики, в числе которых и Чехов, и Щедрин, тоже достойно описывали те сытные годы, тот «золотой век».
Оторопь берет меня, читатель. А может быть, Толстая не знает русскую классику? Страшно поверить. Возьмем упомянутого ею Чехова, который, согласно Татьяне, «самозабвенно» описывал «поглощение еды», процесс, «буквально переходящий в оргию». Цитирую: «Николай, войдя в избу, увидел <…> с какою жадностью старик и бабы ели черный хлеб, макая его в воду… По случаю гостей поставили самовар. От чая пахло рыбой, сахар был обгрызанный и серый, по хлебу и посуде сновали тараканы; было противно пить…» «И, вероятно, какая была бы прекрасная жизнь на этом свете, если бы не нужда, ужасная, безысходная нужда, от которой нигде не спрячешься!» – восклицает герой Чехова ниже.
Это повесть «Мужики».
Упоминает Толстая и о «бесчисленных мемуаристах», которые отмечали в своих трудах сытность российского стола. Приведу цитату лишь из одного мемуариста начала прошлого века. А. Н. Энгельгардт, «Письма из деревни»: «Наш мужик-земледелец ест самый плохой пшеничный хлеб с костерем, хлебает пустые серые щи, считает роскошью гречневую кашу с конопляным маслом, об яблочных пирогах и понятия не имеет…»
И не ведая о вышепроцитированном, в пастельных тонах описывает Толстая российское житие накануне революции: «…и нива колосилась, и трудолюбивый пахарь преумножал добро, и купец торговал мануфактурой и баранками, и Фаберже нес яички не простые, а золотые, и воин воевал, и дворник подметал, и инженер в фуражке со скрещенными молоточками строго и с достоинством всматривался в будущий прогресс… А русский чай был так хорош, что его подделывали завистливые иностранцы. Смотришь старые фотографии: боже! Богатство-то какое!»
Вот видите, к кулинарной книге еще и фотографии прибавились. Полный набор непредвзятого историка.
Пассаж Татьяны Толстой о «Фаберже» и о «пахаре» автор готов продолжить.
Итак, по поводу житья-бытья. Продолжительность жизни русского человека до революции была ни много ни мало 32 года (примерно столько же жили лишь африканцы – у них, видимо, тоже был «золотой век»). Согласно дореволюционной статистике, русские крестьяне потребляли продовольствия на 20,44 рубля в год (для сравнения: английские – на 101,25 рубля). К слову, о «нивах». Все развитые страны, производившие менее 500 кг зерна на душу населения, зерно ввозили. Россия, где урожай был в среднем около 450 кг зерна на душу, – зерно вывозила. Что, собственно, и дало основания нынешним либералам, в том числе и Татьяне Толстой, утверждать, что дореволюционная Россия кормила Европу хлебом. Да, кормила кое-кого. Только после этого большинство населения России кушало, как это у Чехова описано. А остальные – как у Молоховец, не спорим.
Я отдаю себе отчет, что Толстая этого не знает и если узнает – не поверит, потому что ей не хочется в это верить. Ей хочется верить в дореволюционную русскую аристократию, которая якобы «старалась как-то смягчить разрыв между собой и простыми людьми. Мучаясь комплексом вины, заигрывала с народом как могла… старалась идти на сближение, простить пороки (какая прелесть! у аристократии, видимо, не было пороков, только у „мужиков“. –Авт.), закрыть глаза на очевидную неблагодарность (еще лучше! никакой благодарности у этого быдла за самый лучший чай, пропахший рыбой, за лебеду, а также за вывезенный, а после пропитый в парижских кабаках аристократией хлеб. – Авт.), равнодушие и прямую ненависть».
В общем, ну не свинья ли народ? Столько стараний во имя него, а он ненавистью платит.
В эссе «Купцы и художники» Толстая с удовольствием цитирует Василия Розанова: «Вечно мечтает; и всегда одна мысль: как бы уклониться от работы (русские)».
Розанов пишет о мужиках. Причем пишет как барин. Своим барством он явно гордился. Ничего страшней для Розанова не было, когда дворники смотрели на него «запанибрата». «Я барин. И хочу, чтобы меня уважали как барина», – так он говорил.
Но разница между Розановым и Толстой все-таки есть. Розанов, записав свою, в сущности, верную мысль, не пытается ее распространять. У Толстой же в конечном итоге все сводится к тому, что русский народ работать не умеет и не хочет (эссе «Купцы и художники» посвящено мучительному становлению в России «нормального» рынка, за который так ратует писательница, без устали понукающая «косное» население страны).
Памятуя о пассаже Толстой, посвященном Ленину, не умевшему варить яйца, мне хотелось бы спросить Толстую: а что она, барыня, ни дня не занимавшаяся крестьянской работой, может знать о деревне? Поди, только то, что корову доят двумя пальцами, а когда курица несет яйца, ей больно (так Есенин писал о Гиппиус, мировоззренческое родство которой с Толстой явно).
Имеет ли Толстая хоть какое-то представление о том, как складывался народный характер в нашей крестьянской стране?
Россия тотально отличается от Западной Европы, от Австралии, от Америк, от Азии. Любой географ объяснит Толстой, что Россия – самая неприспособленная для жизни страна. В среднем по России выход растительной биомассы с одного гектара более чем в два раза ниже, чем в Западной Европе, и почти в пять раз ниже, чем в США. Чтобы пропитаться, чтобы согреться, русскому крестьянину приходилось вкалывать в несколько раз больше, чем греку, французу или китайцу.
Даже в Ирландии и в Англии скот пасется круглый год, знает ли об этом Толстая? А в России – три месяца. А потом скотину надо кормить. А чтобы ее кормить, нужно все лето косить. И по три раза в день сено ворошить. И собирать сено, если пошел дождь, а то сгниет и весь труд насмарку. А потом снова разбрасывать. Прошу фермеров: возьмите писательницу на лето в деревню, пусть она поймет суть русской поговорки «летний день зимний месяц кормит»!
Русский человек мечтает и желает уклониться от работы только потому, что он много веков работал так, как никакому немцу не снилось. Русские освоили огромную, в основном холодную и заснеженную часть суши, и моря вокруг этой суши, и ледники, и космос над ней, и три похода из Европы отразили, – подобных достижений ни один народ мира не имеет. Для любой нации хотя бы один подвиг из русской истории стал бы поводом для вечной гордости.
Толстая тем временем неустанно сетует, что русские «хотят работать, как в Монголии, а жить, как в Леоне». Ну ладно, уговорила, русские не хотят работать, а Ленин не варил яиц и даже не знал, кто их несет. Но разве Толстая работала в Монголии? Спросите у Толстой: чем, по ее мнению, преимущественно занимаются жители этой страны? Она и не знает, клянусь вам.