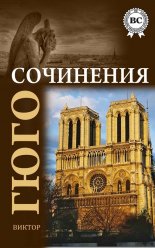Аптекарский остров (сборник) Албитов Андрей
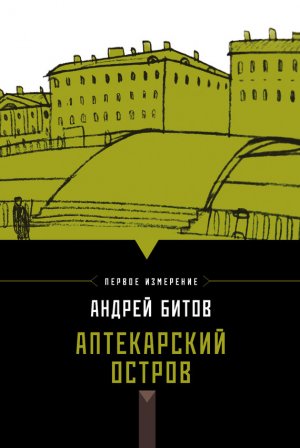
Аптекарский остров
Автобус
Хорошо бы начать книгу, которую надо писать всю жизнь… То есть не надо, а можно писать всю жизнь: пиши себе и пиши. Ты кончишься, и она кончится.
И чтобы все это было — правда. Чтобы все — искренне.
Вот пишу и не знаю… Ведь чтобы писать искренне, надо знать, как это делать. Иначе никто тебе и не поверит, что у тебя искренне. Сделать надо.
Вот это-то и ужасно: все-то — литература…
А я такой-то человек. У меня есть люди, которых я люблю, люди, с которыми я знаком, люди, которых я не знаю. Все эти люди как-то меня знают, что-то обо мне иногда думают, когда есть к тому повод. А я совершенно не представляю, что они обо мне думают. Но мне кажется, они не допускают, что я какой-нибудь другой, чем они. Что я могу чего-то больше или хотя бы иначе, чем они. Я даже могу допустить: иначе быть не может. Ведь я же не представляю себе Иванова отличным от остальных…
То-то и оно. Все люди — центры. Два с половиной миллиарда центров…
Иногда я попадаю не в фазу. Периодически. Довольно часто. Не в фазу — значит, как-то все у меня не как у всех, все со мной подло, все из рук валится, надо одно — а хочется другого.
Ничего не получается.
Вот, например, с автобусами. Вдруг получается так, что они только что отошли. А мне как раз надо бежать. Например, я сажусь на остановке, где ходят 49-й и десятка. 49-й ходит очень редко, а десятка — очень часто. Так вот, когда мне нужен 49-й, он подходит мало того что редко, а еще втрое реже… А когда мне нужна десятка, подходят два 49-х. А десятка… Я всегда думаю: может, она с моста свалилась?.. Такое дело. Я всегда, когда езжу через мост в автобусе, думаю: а что я буду делать, если сейчас мы полетим в воду? Положим, мы не убьемся… Наверняка не убьемся. А вот как быстро просочится в автобус вода?.. Думаю, напрягая мышцы, как я выбиваю стекло. И выныриваю. Пока все там гибнут в автобусе. Безусловно ведь, шофер не успеет открыть двери… Но вот я вынырну. И не вынырну, а только буду выныривать… А у меня в руках портфель, и на мне осеннее пальто. Это все набухает. Допустим, я умудрюсь сбросить. Я доплываю до быка, и взбираюсь, и сижу на нем, на остром ноже-ледорезе… И жалко пальто, которое сбросил, а оно совсем новое. И ботинок.
Так я думаю чаще всего, когда мне куда-нибудь очень, позарез надо, куда я еду. Что-то надо, ужасно надо сделать. Последний срок, последняя возможность. А мне удивительно неохота. Как раз сегодня было бы так прекрасно никуда не пойти, а остаться дома и спать. Или пойти в кино на утренний сеанс. Или выпить в автомате. А потом познакомиться с кем-нибудь. И пойти куда-нибудь на Острова…
И вообще, зачем это?.. Кто мне объяснит, что это так уж обязательно надо — то, что ты делаешь? И почему бы не свернуть в сторону, не свалиться в реку в автобусе?.. И тогда бы тебя доставили домой, и ты бы с полным основанием забыл про все дела и ничего бы не делал из того, что обязательно, просто совершенно обязательно надо было сделать… А им бы потом объяснил, в чем дело. Кому — им?.. Сам не знаю. Вот свалился в реку, и так прекрасно: и ты, и общество — полное согласие. И никто от тебя ничего не требует. Все прекрасно между тобой и обществом. Тебе сочувствуют… А раз такой пустяк — свалиться в реку — выход, и ты будешь прав, и все тебя оправдают, что не сделал того-то и того-то, что было так, позарез, надо… Если так… на кой хрен тебе вообще куда-то надо ехать? Кто это выдумал, что так надо?..
Написать бы книгу — без композиции, без языка, без всех этих фокусов… Ведь есть же что-то самое важное. Главное, так сказать. Все остальное — так, смазка, чтобы легче проходило. Как бы обойтись без этого, оставив самую суть?.. И самое смешное — допустим, это начало такой книги, то, что я пишу, что вот я собрался и начал, — самое смешное, что будешь писать, напишешь — и окажется и композиция, и язык (развязка, завязка, метафора) — и вся литература налицо. Если книга получится, конечно…
Деться тут некуда.
Последнее время я все думаю: написать бы всю правду. Не всю-правду: для этого нужно искажать, хитрить, — а всё-правду. Думаю уже месяц. Как раз мне надо очень делать кучу вещей. Позарез надо. Дальше некуда. Просто свет клином сошелся. Не сделаю, не выполню, не напрягусь — все рухнет. Все пропало.
А что пропало? Что рухнет? Что, собственно, рухнет?!
Ерунда какая-то. Все-то понятно. Просто мне трудно. А хотелось бы, чтобы не было. Чтоб ничего я не был должен…
А что я, собственно, должен? Будто бы?! А если и должен, то почему какую-то подобную чепуху?..
Уже месяц я подумываю, написать бы такую книгу… Вот сегодня ехал я в автобусе… Кстати, почему это я все придумываю в автобусе? Не додумались еще, чтобы в одну секунду перелетать от дела к делу. Ехать надо. Иногда полчаса, иногда больше, когда меньше. Совершенно законная свобода. Едешь куда-то. Ехал бы и ехал. Только бы не вылезать. Особенно если рано утром. И еще дремлет в тебе сон. А за окном мороз, и окно замерзло. И если ты еще занял место у окна и как раз под сиденьем — печка… А люди входят и выходят. И ты смотришь в лица. И девушки… Они тоже смотрят на тебя. И тоже выйдут.
И ты едешь себе, едешь…
Вот я ехал и думал о такой книге. И думал, что обязательно напишу про парня, который сидит напротив. И смотрит на всех умным взглядом и чему-то такому умному в себе ухмыляется. Тыщу лет я знаю, как он ухмыляется!.. Обязательно надо про него написать в такой книге…
И вот я приехал домой, лег в постель и решил, хотя и невозможно написать такую книгу, все-таки что-нибудь записать, и сразу вспомнил про этого парня и что надо про него написать, и вот я пишу, пишу, и все хочу про него написать, и уже седьмую страницу пишу, а даже не знал, о чем буду писать, пишу уже седьмую страницу и все думаю, что надо писать об этом парне, и никак не могу подступиться к нему — все что-то пишу…
Я иногда выхожу на улицу. Спешу. И кажется — зачем я вышел? Да можно ли в таком состоянии пускать человека на улицу?.. Вот идут мне навстречу две женщины. Старые, усталые, из последних сил. И говорят друг другу какими-то высокими голосами: «И ты думаешь, можно сделать такую выкройку?.. Ну что ты… Я ему так и сказала… Ты не ходила на его концерт?! Ван Клиберн — прелесть…» Усталые такие. Идут куда-то. А я вот (разве можно так?) смотрю и вижу, какие у них худые старые ноги в черных чулочках… И вот эта женщина опять покупает ирисок на рубль. И этот пьяница купил бутылку фруктового вина и сунул ее мимо кармана. Она брякнулась о кафельный пол, и розовая жидкая лужица на полу… А он стоит, расставив криво ноги, и все, не понимая, смотрит на лужицу, и такое бессмысленное детство бродит по его лицу.
А здесь стоит ребенок. Кто-то его забыл. Разве можно оставлять таких на улице! Стоит, косолапый звездочет, и совсем обо всем позабыл. Никто его не теребит. И он смотрит на воробья. А воробей, серая такая птичка, чистится и чистится. Весь чистый.
И вот вчера я так глупо ошибся… Бежал, спешил и со спеху впоролся в женский туалет (две двери рядом). Мне еще раньше говорили, что в женском туалете отдыхают проститутки.
И что уборщица даже специально для них держит пудру и папиросы. Я тогда не поверил.
А тут думал о чем-то — и впоролся. И вот сидят они в центре туалета, стулья в круг, и курят. Молодые, красивые, яркие, отвлеченные какие-то, такие простые… сидят и курят. И видно, беседовали — замолчали. Смотрят на меня так спокойно, без вызова, прервавшись… А я осознаю и вылетаю пробкой.
А книга — это чудо. Понимаете, это все, что я написал вот сейчас, — этого всего не было. То есть это было… Во мне, скажем. Великое чудо…
И вот со мной едет человек. Мы живем на одной лестнице.
И сойдем на одной остановке. Он едет с женщиной. Такая, уже не очень, женщина… В первый раз ее вижу. А вот про него я как много знаю! Конечно, мы даже не здороваемся, незнакомы. Но в том смысле, что я хожу по улицам, вижу тысячи людей, — по сравнению с ними я знаю о нем ужасно много. На одной лестнице все-таки. Так, от разу до разу, словно и не слушая, узнал о нем от разных людей. Отец, например, был с ним знаком, когда еще был студентом. И мама. Он вертихвост, по словам. Седой, немолодой уже человек, а вертихвост. Так и остался со студенческих лет. С тех пор они его и не узнали… Завкафедрой, седой человек, а вертихвост. Говорят, он замечательно катался на коньках, прекрасный был фигурист. Была у него первая жена. Умерла. Побродил-побродил — появилась еще женщина, с его кафедры. Вертихвост… Славная была, красивая. Ее я уже помню. Маленький был, а очень она мне нравилась. Дети у них были, Маша и Ваня. Ваня уже в школу пошел. А мама летела из командировки, и самолет разбился. Тогда весь Ленинград говорил об этом. С какой-то делегацией разбилась. И вот он ходит, вертихвост, с сеткой, набитой картошкой, фунтиками разными, ходит, фигурист… Пьяный все чаще. Худенький такой, седой, маленький мужчинка. Однажды совсем до дому не дошел — свалился. Завкафедрой, что студенты подумают!.. В газетах писали. А то — тащит его Ваня за рукав: «Ну пойдем, папочка. Не надо, папочка…» Тащит домой. Самое великое — дом… Что — книги! А то — однажды подошел ко мне. Никогда мы не здороваемся даже. Подошел и с особым вызовом, гордо так говорит: «Дайте мне пятнадцать копеек — я вашего отца знаю — я отдам». Неловко ему было пятнадцать копеек потом отдавать — не отдал… А когда трезвый, ходит такой неистребимый — седой, худенький, маленький, — делает красивое лицо, по-особому проходит мимо женщины, подпрыгивает при каждом шаге, чтобы казаться выше. Вертихвост… И сейчас едет со мной в автобусе. Мы сойдем на той же остановке. С ним женщина. И слышу, говорят они на «ты» о делах кафедры. А времени двенадцать ночи, и едут они домой, туда же, куда и я.
Можно написать об этом рассказ, повесть, роман — все об этом же. И вряд ли это будет больше того, что сидит в автобусе маленький человечек…
И вот я… Достать, что ли, велосипед. Приспособить к ободам колес лампочки… Синие, красные, зеленые. Надеть на голову кепку-лондонку до ушей… И поехать. Темным вечером.
Я еду — колеса крутятся. И с ними — лампочки. Зеленые, синие, красные. А у меня кепка-лондонка на голове. Зеленое, синее, красное… Словно это бал-маскарад. И шутихи летают в небе, крутятся и сыплют искрами. И серпантин, и канитель… Или я сижу на лошадке, и мчусь по кругу, и машу флажком красным…
Ах, какая канитель-карусель!
Кружится, кружится…
Вот площадь. Что-то около одиннадцати. Эта круглая площадь, с круглым сквером посредине, и круглые шары фонарей вокруг сквера. И шары окружены каким-то круглым туманом. К этим шарам тянутся ветки, заиндевелые, белые. Автобус едет по кругу площади, и меня прижимает к стенке. Центробежная сила.
И автобус останавливается. У филармонии. Видно, кончился концерт. Это, наверно, субъективно — я редко бывал в филармонии — там всегда масса девушек. Их почему-то даже больше, чем старушек, и, конечно, больше, чем парней. Почему-то они очень ходят в филармонию. И не то чтобы они были синие чулки и некрасивые — очень даже симпатичные девушки. И вот они садятся в наш автобус — одни девушки — концерт кончился — хорошенькие, модные девочки… Но что-то странное с ними. Какие-то такие очень каменные, холодные лица. Такое выражение. В общем, похожее у них выражение. Они даже совсем друг на друга похожи. Ну да, после концерта… Но все-таки… Почему у них такие лица? Ну да, вспомнил: сегодня концерт Имы Сумак. Какой-то второй или даже первый ее концерт в Ленинграде. Конечно же, это она! Я узнаю ее по фотографиям и рекламам. Конечно же, это она поднимается сейчас по ступеням автобуса. Одна, две, три… много! Двадцать одна Има Сумак вошла в автобус. А как они сидят, или как стоят, или платят кондуктору! Просто поразительно. Как они гордо скользят по моему лицу взглядом холодным и далеким, как вершины Анд. Не замечают меня. А я, можно сказать, единственный молодой человек в автобусе. Вот какая хорошая девушка — и тоже Има Сумак… Как она не заметила меня! Царица!.. Но вот, бедная, вдруг закапал нос, и она судорожно ищет платочек, и вся независимость спадает с ее лица. Она смущается, краснеет и косится, видел ли я…
Ах ты, моя славная!
Вот будет у меня когда-нибудь дочка. Назову ее Сашей. Саша — будет полное ее имя. Саша Андреевна.
Будешь ты, Саша Андреевна, моей дочерью. Ой, какая ты красивая, Саша Андреевна! Молодая и счастливая…
А вот вчера затащил меня приятель в один дом играть на бильярде. А шел я, между прочим, совсем в другую сторону. Очень мне было спешно. И вот встречаю приятеля, он мне говорит: «Пошли на бильярде…» И я иду, именно потому, что спешил и очень было надо.
И не очень-то я люблю бильярд. Я даже его очень не люблю. И вот гоняю шары. Они мечутся, кругленькие. Толкаются, щелкают, пихаются. Что-то одушевленное в них.
А дверь из бильярдной открыта. И через нее видно лестницу. Кусок лестницы. И в этом кадре всё идут, идут, поднимаются девушки в белых платьях, в совсем одинаковых платьях. Идут чинно так, серьезно и плавно. И похожи на больших ночных бабочек со сложенными крыльями.
А мы удивляемся, откуда в Доме писателей столько девушек в белых платьях? А мы сняли пиджаки — и в рубашках, в углу рта сигарета, глаз прищурен, «оборот налево, дуплет в середину»… И так бьем, и так разгибаемся после удара — бильярд, писатели…
А по лестнице, в том куске, что виден в рамке двери, всё идут, идут девушки в белых платьях. Как на заклание, на костер… Большие ночные бабочки.
«Откуда их тут так много? Восьмой направо в угол». — «Тут вечер какого-то института. Придется шар выставить…» — «А что одни девушки? Вот этот хорошо прошел, классный шар!» — «Они, наверно, думают, что среди писателей есть женихи… Ха-ха! На две лузы…»
А девушки идут и идут.
Сашенька моя, Андреевна!..
Все это можно понять… Вот автобус. Два сиденья напротив. На каждом из них — мужчина и женщина. Сидят напротив женщины и мужчины. И все читают. А я стою над ними, держась за поручень, и вижу их затылки и раскрытые книжки. Я не знаю, какие это книги, и пытаюсь узнать по тексту. Текст прыгает.
«Целыми днями… Ли-ли… Лилиан лежала у моря… и в саду, который окружал ви-ви… виллу Ле… Лева… Левалли. В этом запущенном романтическом саду… саду встречались… на каждом шагу встречались мра… мраморные статуи, как в стихотворениях… Эй… Эй… Эй-хен… дорфа».
Тьфу, пропасть!
«Лучше прожить пять лет… чем про-про… про-су-ще-ство-вать, просуществовать пять минут». Что — лучше? Лучше просуществовать пять лет, чем прожить пять минут? Или лучше просуществовать пять минут, чем прожить пять лет? Или прожить пять лет, чем просуществовать пять минут?
Тоже непонятно. Почему? Кто это так уж точно знает?
«Счастье, конечно… в любви…» В любви? Ну конечно. Счастье в любви. Ничего особенного, «…но взаимной». «Счастье, конечно, в любви, но взаимной». Не правда ли, как замечательно сказано! Подумать только.
Ну еще… Последняя. Что пишут в последней?
«Как же удержать этого… этого… огненного… нет, ог-нен-но-кры-ло-го Ки-ки… этого Ки-ки… Этого Ки-фа-ре-да, чье безмолвие яснее слов говорит о желании». Яснее слов говорит о желании? Как-то не очень ясно говорит. «Насытить его — значит рас-статься с ним». Кого насытить? Этого Кикифареда? А расстаться с чем? Тоже с ним? Или с желанием?
Нет, с меня хватит…
И пожалуй, как понять друг друга? Ох уж эти книжки! Пассажиры! Вы же сидите рядом, вы сидите напротив: женщина рядом с мужчиной и мужчина напротив женщины… И ни черта не понимаете! И не смотрите друг на друга…
А тут предъявляют автобусные карточки. Вы обращали внимание, как это делается? Вот старик вынимает карточку и показывает. А кондуктор в это время рвет билеты и на него не смотрит. А он говорит: «Карточка». И он кладет ее обратно в карман. А потом снова вынимает. И говорит: «Карточка». И лицо у него такое… Что и не безбилетник он, а наоборот, имеет право, и желание показать достоинство и абсолютная мольба на лице: «Обратите внимание!.. Карточка!»
И вот, наконец, Новый год! Я еду в автобусе. Еду встречать. Это же самый прекрасный, самый искренний и естественный праздник в году! Старое забыто — начинается новое… Как мне всегда хочется, чтобы праздник этот был чист, светел и красив! И я еду начищенный с ног до головы. А в кармане у меня соседкины пудреница и карандаш, а то даже бальные туфли, по одному в боковых карманах.
Автобус набит. Все красивые. Все шумят, смеются. Все радуются. Будет праздник. А праздник, быть может, — только ожидание его. И все напьются, будут пьяны, и мильон девушек потеряет свою невинность, будут разбиты тонны посуды… И недоедены, расплеваны, разблеваны тонны еды. Пищи… И все равно едут и едут на дни рождения и Новые года. И Новые года идут один за другим. Новые года — детские: елка и подарки под елкой и рано спать. Новые года — подростковые: посидеть немного за столом со взрослыми, молчать, краснеть — «жених растет» — и позволенная рюмка со всеми. И Новые года — не дома, а в компании: жмет рубашка, а рядом твоя соседка, и пить, пить, словно только это и делал всю жизнь, и потом ничего не помнить…
И ты едешь, едешь в автобусе встречать и встречать Новый год, Новый год…
И вот я не еду встречать Новый год в автобусе… Это самый мрачный и, пожалуй, самый чистый Новый год в моей жизни. Я новичок, салага. Всего две недели в армии. И — ни копейки. Не открыть ни бутылки, ни даже пачки папирос. И приказ по отряду: в новогоднюю ночь — всем дома. Дома… То есть в казарме. Но старички кто ушел в самоволку, кто так нагулькался. А нам, новичкам, — и нечего. Кто-то пил одеколон. Но вот и одеколона нет. Кто-то разводит зубную пасту. А я… Я получил сразу три письма из Ленинграда, первые письма сюда из дому: от мамы, друга и от нее. И я не вскрываю письма, жду, чтобы открыть их в двенадцать. И мне погано. В основном погано потому, что завидую, завидую… И мне кажется, бог как весело! встречают там, в Ленинграде. И память подсказывает только соблазнительное, прекрасное, радостное. И растравляю, растравляю себя и не могу остановиться. Потому что я верю, верю, что они любят меня там… Но все они сейчас встречают, и пьют, и не помнят обо мне. Конечно, вспомнят — но забудут… Потому что я — не к празднику. И мать — она любит меня больше всех — и она сидит сейчас дома, и богатый стол, и все вокруг любимые люди — и хорошо. И друг, он, конечно, предложит за меня тост, там, среди друзей, и все вспомнят и погрустят секунду и чокнутся от дури. И она… Она верна, верна!
И какой-то азиат жалеет меня и угощает меня планом. Я выкуриваю папироску. И вот мне смешно-смешно. Боже, как мне смешно! Какие все остроумные люди, какие лица! О боже…
А потом я опираюсь о нары и плыву, плыву… Корабль, ночь. Звезды, ветер. А потом я мушкетер. Атос или д’Артаньян.
И потом иду по залам, залам, и все прекрасные картины по стенам. Никогда не видал такого прекрасного…
А потом я просыпаюсь. В поту, голова разламывается. Где я? Почему? А по радио кончаются двенадцать ударов. И я вспоминаю… Самая большая радость — я ведь ее ждал весь день — вскрыть письма! Но во мне нет радости. И я прочитываю их кое-как. А потом всю ночь не могу уснуть от головной боли и кашля.
И вот я снова еду в автобусе встречать Новый год. И все едут. И наверное, думают, что все, все едут встречать Новый год в автобусе. Или они и не думают об этом. Конечно, не думают. Ведь праздник.
А с кем-то несправедливо поступили, кто-то потерял все деньги, у кого-то вообще все пошло прахом, кто-то умер только что и у кого-то умерли, кто-то встречает Новый год в поле, кто-то в тюрьме. Их тьмы, этих людей. Они не едут в автобусе. А мы себе едем и едем. Всё встречаем и встречаем Новый год за Новым годом.
Всё пируем…
Вот иду я по улице, возвращаюсь, допустим, с работы. Рабочий день, значит, кончился. Освободился я. Решил пройтись пешком по набережной. Солнце, воздух. Реденькие, жиденькие стоят топольки. Будут когда-нибудь большими. А я — старым. Можно будет что-нибудь по этому поводу сказать. Помню, как их сажали, например. А сейчас я молодой, освободился я, иду по набережной. Корабли стоят на приколе. Солнце греет. Матросы на кораблях ничего не делают, греются. И музыка на корабле играет. Изумительная такая, дешевая музыка.
А поцелуев, извините, нет.
Ох, какая же это музыка! Что-то такое за душу берет… Конечно, вкус. Конечно. Люблю Баха, не люблю Сен-Санса. Симфония — да, джаз — да, оперетта — нет. Но песенки… Ах, эти песенки! То, что много лет хранилось в тайне.
Вкус — да! Да ну его к черту.
Иду я, к примеру, в вышеописанной обстановке, и так мне хорошо, так сладко, так щемит что-то… Плакать хочется. Тут около меня притормаживает ЗиМ. И вижу — там генерал. Да не просто — две звездочки. Остановил шофера-солдата, дверцу открыл, высунулся и обращается к милиционеру, как проехать туда-то. А милиционер не знает. И вдруг — странное дело — я каким-то волчком завиваюсь, забегаю, чуть не сгибаюсь и говорю: туда-то и туда-то, направо и налево, так-то и так-то. А голос дрожит гаденько-гаденько и даже выше стал. И машина уехала. А я стою, провожаю взглядом, и поза вся неестественная: скорченная и слюна чуть не капает. И вдруг понимаю: что ж это я, ведь я же терпеть генералов не могу, ведь я же чины ненавижу! Я всегда так говорил и говорю и думаю так же. Что же это такое!
Так стыдно, так стыдно.
Что это?
Что это?.. Почему бы мне не убить вот этого человека? Он сделал мне гадость, или он мне мешает, или просто мне не нравится его физиономия. Почему бы и нет? Почему бы мне не растлить собственную дочь? Или не выкрасть десять тысяч золотого займа из бабушкиного стола?
Почему я не делаю всего этого?
И почему все-таки, раз я так не поступаю, то все же часто поступаю грязно, погано, подло? И почему, в таком случае, иногда я поступаю хорошо, чисто, благородно?
Почему? Зачем? Для чего?
И вообще-то, если представить, то вся жизнь — скопление каких-то обстоятельств. Они могли быть такими, но могли быть и другими. И от каждого из таких обстоятельств — своя цепочка, своя жизнь. И тогда почему бы не рассмотреть свою жизнь так, что она могла бы быть тыщу раз разной и где-то, в одном случае, прекрасной? Может, я рожден быть чем-то вовсе другим? И только какое-то чудовищное и нелепое стечение обстоятельств помешало мне? Например, где-нибудь в Африке быть пигмеем… Представляете, охотиться на зебр?..
И еще хорошая специальность — водитель мотороллера. Наверно, им неплохо платят. Пожалуй, это здорово — возить молоко и книги. Ехать — бутылки в кузове звяк-звяк! Заходить в разные квартиры, и там тебя уже знают: «Может, выпьете чайку?» А вот в этой квартире открывает всегда такая славная девушка…
Но только последнее время, мне кажется, они стали ужасно носиться. Наверно, их перевели на сдельщину. Вот они и носятся. Выжимают из своих пердунков все, что можно.
А треску!
Хорошо также варить варенье. И надписывать на банках «клубника отличная» и ставить дату, или «смородина удовлетворительная» и дата. И ставить банки на шкаф плотными рядами. А потом составить их опись. Хорошо — разбираться в хламе. Сортировать. Рассортировав, заворачивать в бумагу, перевязывать бечевкой и опять же надписывать «обивка от бывшей ширмы» или «пластинки битые» и опять же класть на шкаф.
Все это очень хорошо.
Теперь еще и снег пошел — подумать только… А ведь весна.
А мама хочет сервант. Никто ей не сочувствует. А ей очень хочется. Я говорю: зачем сервант? А она говорит: мало ли кому чего — просто охота…
Ничего… Все — будет ничего.
Вы, говорят, слишком молоды… А я говорю: не виноват.
Вот сейчас хожу и думаю: вот об этом бы написать и об этом. И вон об том…
А потом, страшное дело, буду ходить и — о чем бы написать? О чем? Мое же дело?! Об этом? Но почему же именно об этом? Или о том? Тоже ни к чему…
И еще говорят:
<>«Кто это у нас такой маленький-маленький! Кто это у нас под столом ползает? Кто это такой холесенький-холесенький! Ух ты, гули-гуленьки… Ах ты, цыпочка-цыпа! Кто это у нас такой квадратненький! Угловатенький такой кто у нас? У-тютюшеньки-тютю. Кто это у нас такой несознательный-несознательный! Такой недооценивающий-недооценивающий?.. Какой миленький маленький авторчик! Ух ты, мой поросеночек… Всё пишет и пишет, пишет и пишет. Ах ты, сладенький… Сейчас я тебя съем-съем. Тпруашеньки и аашеньки не хочешь? Ух ты, бады-бады! Ух ты, бады! Ах ты, неполноценненький мой… Что же ты не то пишешь? Ой, гулюсеньки мои!..Что же ты извращаешь? Правду, говоришь, пишешь?.. Ах ты, негодненький! Говоришь, искренне надо?.. Ах ты, сволочь, мракобес… а я-то думал, ты заблуждаешься! Я-то тебе верил, гад!! Скоро праздник. Мы будем демонстрировать свою мощь! А ползучие гады будут высовывать свои жала из-под ворот…
И ты, ты будешь там!!!»
И действительно, кому хочется быть ползучим гадом и высовывать свое жало?..
Вот сейчас приеду домой и все, все приберу! Вымою, выколочу, выброшу все ненужное и открою форточку. И надену чистую рубашку. Все приберу, приберу и начну жить сначала.
И в голове тоже порядок наведу. Все негодные мысли отброшу. Выкину их, негодяек! Потом заплачу все долги, все выполню, что кому обещал, и напишу всем письма, и сделаю всем приятные сюрпризы…
Стану жить по режиму, вылечусь, вставлю зубы, буду делать по утрам зарядку и обтираться холодной водой. И каждый день буду бегать вокруг Ботанического сада.
А когда, после всего этого, я стану абсолютно свободен, я поеду за город, заберусь в лес, там будет полянка, лягу на спину и буду смотреть в небо.
И так буду лежать на спине и смотреть в небо долго-долго — всю жизнь.
1960–1961
Большой шар
Инге Петкевич
Папа брился. Делал он это обстоятельно. Он оттягивал пальцем кожу на взмыленной щеке, проводил бритвой, трогал пальцем выбритое место, вытирал бритву и палец о газету. Он надувал то левую щеку, то правую, вбирал нижнюю губу и при этом еще пел. Папа гладил брюки. Он плевал на пальцы и шлепал по брюху утюга, он фыркал на брюки и при этом пел.
Тоня была как на иголках. Она сидела на краешке дивана, положив руки на колени и выпрямив спину, всем своим видом показывая, как она «терпеливо ждет». Любимец, довоенный еще пупс, безногий и черномазый, лежал за ее спиной сиротливо и неприкаянно. Тоня сидела, а потом вскакивала, подбегала к окну и, вспрыгнув, ложилась на него животом. Окно выходило во двор, и там было серо и пусто. Выше было голубое-голубое небо. А во дворе было от этого вовсе пусто. Пробежал мальчишка, пища в «уйди-уйди».
И скрылся в подворотне. Из подворотни доносился гул. Волнами.
Тоня сползла с подоконника и снова примостилась на краешек дивана «терпеливо ждать». Папа, уже в брюках, начинял карманы. «Когда же я куплю пиджак?» — сказал папа, надевая побуревший китель. Он еще раз посмотрел на себя в зеркало, почему-то насупился, поджал губы, сдвинул брови и, сохраняя это суровое и красивое лицо, повернулся к Тоне, искоса еще поглядывая в зеркало, и сказал:
— Ну пошли, Антон.
Они вышли из подворотни и остановились, привыкая к свету и шуму. Бесконечной серой лентой, а выше — красные пятна лозунгов, а выше — очень голубое небо, тянулась по улице демонстрация. И как берега — люди, никуда пока не идущие: смотрят на демонстрантов. Солнце лилось на Тоню и папу, и они щурились. И рыжие Тонины волосы горели на солнце. Папа посмотрел на нее и сказал:
— Ты у меня сегодня как флажок.
Он еще постоял немного, глядя на демонстрантов, и заторопился. Рядом с домом был садик, и туда он отвел Тоню. Это был очень удобный садик: в двух шагах, и ребенок на воздухе, и в безопасности, и не надо улицу переходить.
— Ну, Антон… Ты тут погуляй. А я схожу, мне надо. В одно место.
И повернулся. И пошел.
Ушел, и Тоня сразу услышала: «Лиса! Лиса Патрикеевна явилась!» Подскочили мальчишки и за косу дернули, и она кого-то за нос, и звали попрыгать на аэростате. Но это все было неинтересно сегодня: и аэростат, который, полуспущенный, лежал огромной пухлой лепешкой на пустыре, за развалинами, и на котором так здорово было прыгать, и сами развалины, которые начинались сразу за садиком. И Тоня снова очутилась на улице.
Колонны, колонны… А на тротуаре шла торговля. Слева продавали красно-зеленые бумажные шарики на палочках, справа две цыганки, торговавшие шарами, ссорились из-за шаров. Вернее, из-за жалкой синенькой шкурки, которую можно надуть, и она станет синим шаром. Они тянули шкурку в разные стороны, дергали, то одна, то другая, словно пилили:
— Это мой шар!
— Нет, не твой!
— Это не твой шар!
— Нет, это мой!
Шкурка лопнула. Нет шара.
И тогда они ссорились из-за места: чье оно, кто из двух первый пришел и кто раньше его занял. И тоже не могли договориться.
Колонны шли и шли. Тоне очень захотелось идти со всеми вот в такой колонне. Может, нести что-нибудь, а может, петь. Но главное, идти в колонне. Тут, правда, все незнакомые люди. И Тоня колебалась. Вот сделает шаг — и она уже в колонне и идет со всеми. И она не делала шага. И сердце колотилось от этого часто-часто. Только шаг…
Трень-бом-динь! — словно где-то далеко зазвенел колокольчик — и Тоня уже в шеренге и идет со всеми. Никто не удивился и не спросил ничего. Она шла с этими многими незнакомыми людьми, и от этого что-то прыгало внутри радостное, щенячье, и ей самой хотелось прыгать. Но Тоня не прыгала.
И тут сбоку, обгоняя колонну, прошел очень серьезный солдат… и было с ним что-то удивительное! На голове был шлем с наушниками, за плечами металлический ящик (сразу видно, сложный-сложный аппарат), а от ящика вверх — железный прут, он торчал над головой. Солдат шел в таком виде, серьезный и важный, и был он как человек, на которого смотрят: ничего не видел вокруг. Он прошел, как не из этого мира, погруженный во что-то, сбоку колонны, обгоняя. Трень-бом-динь! — прозвенело где-то внутри Тони и в то же время словно издалека, и она тоже обгоняет колонну сбоку, следом за солдатом.
Она с трудом поспевала за ним, сталкиваясь с демонстрантами, обгоняя их и боясь почему-то, что он ее заметит. Так они двигались некоторое время вдоль колонны, как вдруг солдат свернул на боковую улицу. Она была безлюдна, а после такого многолюдья казалась особенно пустой и тихой. Солнце делило улицу вдоль: одна сторона была залита им, на другой — уступами — резкие тени. Они шли по теневой, и странной казалась другая — светлая, и пустынность, и тишина, и флаги от дома к дому — тоже казались странными. Солдат стал переходить на солнечную сторону и вдруг заметил метнувшуюся за ним Тоню. Он приостановился — и Тоня остановилась, не зная, куда деться на этой пустой улице и что теперь будет. «Что тебе, девочка?» — сказал солдат и отогнул один из наушников. Тоня молчала. Солдат засмеялся и полез в карман. Достал что-то, повернул в руках. «На», — протянул он Тоне. Тоня отступила и недоверчиво на него посмотрела. «На же, бери, — еще раз сказал солдат и шагнул к ней. — Это твои волосы». Тоня испугалась и машинально взяла, все еще глядя ему в лицо. За его головой колебался железный прут. Солдат засмеялся и пошел. Тоня посмотрела, что у нее в руке. Это была маленькая катушка с рыжей проволокой, тоненькой, как волосок, и шелковистой. Тоня подняла голову и поискала глазами солдата. Он уже был довольно далеко и тут свернул в подворотню большого серого дома. У самой подворотни он обернулся, увидел Тоню и помахал ей рукой, а издали — словно поманил.
И скрылся. Тоня медленно подошла к дому. В подворотне были громоздкие деревянные ворота, сплошные, пригнанные. Тоня стояла и разглядывала их. Она видела полоску посередине, где разделялись створки, и прямоугольник внизу одной из створок (наверно, туда и скрылся солдат). И тут в другой створке откинулось маленькое окошко, и оттуда выглянул кто-то и сказал: «А тебе что тут надо? Проходи, пацанка, проходи…»
Тоня испугалась и побежала, свернула в какую-то из улиц, и еще раз, и перешла на шаг. Совсем успокоилась и шла по какой-то незнакомой улице, и слева был парк за красивой решеткой, а справа очень длинное здание с белыми колоннами, а впереди купол церкви, и ни одного разрушенного здания не было на этой улице. И ни одного человека. Тоня шла, зажав катушку в кулак, и поглаживала одним пальцем шелковую проволоку, шла и не узнавала этих мест. Она пыталась представить, в какой стороне находится их улица, по которой она шла с колонной и на которой стоит их дом. И это ей не очень удавалось.
И может, вовсе это не ее город, такой солнечный, красивый и пустой. А другой, совсем другой… Волшебный. И тут случаются необыкновенные вещи! Такие, такие… Она никак не могла представить какие… И тогда из боковой улочки вышла женщина, на руках у нее был малыш, а выше… выше… на голубом небе — огромный (таких и не бывает даже!) красный шар. Трень-бом-динь! Трень-бом-динь! — настойчиво и где-то уж совсем рядом с Тоней зазвенел колокольчик. Шар… И золотой кораблик на нем. Шар натягивал ниточку в руках у женщины и рвался вверх.
Трень-бом-динь! Трень-бом-динь!
Тоня и не заметила, как оказалась прямо перед женщиной с малышом и встала. Она и не видела их — она видела только большой и такой круглый и прекрасный шар, а таких больших и не бывает вовсе. Женщина с малышом тоже остановилась. Так они стояли друг перед другом. «Что тебе, девочка?» — спросила женщина. Она была нарядная и красивая, меховая. «Шар…» — сказала Тоня.
— Как шар? — сказала меховая женщина. — Это наш с Люкой шар. Правда, Люка? — сказала она, боднув своего малыша носом. — Мы его купили. Он нам очень понравился, и мы его купили. — Она говорила уже не Тоне, а малышу: — Люка у нас очень любит такие шары… — Люка сидел на руках у меховой мамы, розовый и равнодушный, как китайский божок, и бессмысленно таращился на Тоню. — Так что, девочка, шар этот — наш. И нам с Люкой надо бежать, потому что сейчас вернется наш па-поч-ка… — И она, еще раз боднув равнодушного Люку носом, хотела уже идти дальше.
Но Тоня все стояла перед ней, и — трень-бом-динь! — только самый большой на свете, самый круглый и самый красный шар — только он и был на свете.
— Что же ты, девочка? Пропусти нас… — недовольно протянула женщина и шагнула на Тоню.
— Тетенька! Тетенька! — закричала Тоня.
— Что, девочка? — строго сказала меховая тетенька.
— А где вы его достали? — сказала Тоня и «его» почему-то произнесла шепотом.
— А это мы с Люкой сейчас тебе объясним, — вдруг смягчившись, сказала тетенька. — Это ты сейчас пойдешь по этой улице и свернешь по первой улице направо. Пойдешь по ней, а там совсем близко. Недлинный переулок. He-длинный… Нет, он ничего себе. Это у него название такое. Там дом такой зеленый. Он один там такой зеленый. Ты сразу его увидишь.
У него еще у ворот женщины такие каменные стоят. Вот, пройдешь во двор, и там, прямо, парадная. Третий этаж… А мы с Люкой побежали-побежали. Ух ты, мое сокровище! — боднула она Люку и действительно побежала, но только несколько шагов, а там пошла. И скрылась.
Тоня быстро и словно во сне нашла и не нашла — угадала и Недлинный переулок, и зеленый дом с белыми каменными женщинами и прошла во двор. Двор был странный. Дом внутри был тоже зеленый, но темный, облупившийся. А в середине двора, огороженные круглой решеткой, кольцом росли большие старые деревья, и были они словно взявшись за руки. А в самой середине был круглый фонтан, а в середине фонтана красивая белая птица. Тоня увидела прямо через сквер парадную и направилась через сквер. Там были скамейки, и они все были заняты. Тоня уже проходила в парадную, как услышала скрипучий голос: «Девочка! Девочка!» Тоня остановилась и обернулась. «Подойди сюда, девочка», — сказала старуха на одной из скамеек. Тоня вернулась. «Ты ведь пришла за воздушными шарами?» — сказала старуха и пристукнула клюкой. «Да», — сдавленно сказала Тоня, изумившись, откуда старуха могла узнать. «Будешь за мной», — сказала старуха. «И вам шар?» — удивилась Тоня. «Мы все здесь за шарами», — сказали люди на скамейках.
Тоня примостилась на деревянную жердочку, окружавшую газон. На газоне лежали прошлогодние бурые листья. Тоня не совсем понимала, что с ней происходит. Она осторожно покосилась на старуху. Та сидела, положив подбородок на клюку. Тоня увела взгляд. Ей было немного страшно. И уже точно, что — трень-бом-динь! — это не ее город, а изумрудный или еще какой-нибудь. И может, ей все это снится. Она еще раз покосилась на старуху. Старуха была на месте. Говорила что-то соседу. «Сейчас я что-нибудь узнаю…» — подумала Тоня и прислушалась.
— И вот дом горит, — говорила старуха, — а я все вверх-вниз, вверх-вниз. Вытаскиваю что могу. А сын все не идет и не идет. А на улице темно уже. Только сугробы белеют. И дом горит…
И тогда-то ОН и появился. Черный такой, мрачный… Я выношу — а ОН принимает. А сына все нет. А я старая, что я с НИМ сделаю? Я его боюсь. Что ему стоит? Я выношу — а ОН принимает. Так все и принял. А потом сын пришел, а ничего и не осталось: все ТОТ принял. Один самовар остался. Я его в сугроб сунула. Серебряный…
Трень-бом-динь…
«Все правда, — думает Тоня. — Так оно и есть».
— М-да, — говорит сосед. — Тяжелые были времена…
— А сейчас что? А сейчас что? — как-то звонко и скороговоркой напала старуха. — Вот шар — и тот тридцать рублей стоит!..
«Тридцать рублей!» — эта новость пронзила Тоню. Она как-то и не подумала об этом: таким все странным было вокруг.
Тридцать рублей!..
Тоня вскочила.
— Бабушка! Бабушка!
— Что, деточка?
— А Портовый проспект есть в этом городе?
— А как же, деточка. Совсем рядом. А что тебе?
— Ой, — обрадовалась Тоня, — я там живу!
— Странная девочка, не правда ли? — сказала старуха соседу. — Как выйдешь, деточка, так направо поверни и все иди и иди, все прямо и прямо. Там и будет твоя улица.
— Бабушка, а я успею? — встревожилась Тоня.
— Куда успеешь?
— Я вернусь — шары еще будут?
— Вот уж не знаю, девочка. Этого я наверняка не могу. Не знаю. А ты бегом, бегом…
И Тоня побежала. И тоже очень легко нашла свою улицу. Да, это ее улица. Совсем такая. Народу было по-прежнему много, но колонн уже не было. До дома было еще довольно далеко. Тоня бежала — шар, шар! — и совсем уже еле дыша взлетела по лестнице.
Папы дома не было. В отчаянии Тоня опустилась на диван и тут же вскочила: она же не поспеет, опоздает… Помчалась на кухню. Там у плиты, распаренная и сердитая, возилась Марья Карповна. Необъятная, она с легкостью носилась по кухне, ожесточенно громыхала мисками и кастрюлями, словно те были живыми и на них можно было сердиться. И рук ее почти было не разглядеть, так они мелькали.
— А тебе что тут надо? Уходи, уходи… — не переставая мелькать, буркнула Марья Карповна.
— Тетя Мария, дайте мне, пожалуйста, — жалобно растягивая слова, говорила Тоня, — папы нет дома, вечером он вам отдаст, дайте, пожалуйста… Ну честное слово, папа бы наверняка купил, только дома его нет.
— И ходят, и ходят… Чего тебе?
— Дайте мне тридцать рублей до вечера…
— Тридцать рублей! Ишь чего захотела. Так вот вдруг возьми и дай какой-то девчонке… — говорила Марья Карповна, шлепая тесто красными и пухлыми руками. — А зачем тебе?
— Шар такой!.. — Тоня взмахнула руками какой.
— Воздушный, что ли?
— Ну да, — уже обрадовавшись, сказала Тоня.
— И это тридцать рублей за воздушный шарик! — ужаснулась Марья Карповна. — Тридцать рублей, шутка сказать, дерут-то как! Тридцать рублей-то еще заработать надо… Деньги-то какие!..
— Ну тетенька Марья… Папа вам вечером отдаст.
— Вечером, говоришь? Да и то, какие ж это сейчас деньги!.. Два мороженых — и все деньги… Э-эх…
Она обтерла руки о фартук и вразвалку проковыляла к себе в комнату. Вернулась с красненькой.
— И то ведь ребенку радость, — говорила она, разглядывая тридцатку. — Праздник ведь… Как же тебя не побаловать, сирота моя несчастная… Ой, горит! Ах ты господи! — бросилась она к плите, потом к Тоне: — На, хватай да беги, пока не раздумала… Ох ты, господи, праздник!.. — рычала Марья Карповна, хватаясь за горячую кастрюлю и с грохотом сбрасывая крышку.
А Тоня уже мчалась по Портовому проспекту, сжимая в кулаке тридцатку, обегая, протискиваясь, проскальзывая, мелькая рыжей головой.
Зеленый дом. Большие белые женщины. Круглый скверик во дворе. И в скверике никого нет. И старухи нет. «Опоздала, опоздала…» — стучала кровь в голове. Тоня взлетела на третий этаж. Хорошо еще, что сразу ясно, какая дверь. Одна всего. Другая заколочена.
С налету Тоня позвонила. И тут же испугалась. Позвонить в незнакомую дверь — раньше она постеснялась бы, а может, и не решилась вовсе. Тоня еще не отдышалась, и сердце стучало на всю площадку. Дверь долго не открывали.
Открыла ее полная, дряблая женщина, еще не старая и удивительно белая. Все у нее было вниз: и щеки, и фигура. Казалось, она стекала вниз. Она была растрепанная, запыхавшаяся и белая-белая.
— Что тебе? — спросила она грубо.
— Шар… У вас шары? — сказала Тоня и разжала кулак с побелевшими пальцами. — Вот.
Так она стояла перед большой белой женщиной, держа перед собой на ладошке красненький комок.
Женщина смерила это все: и Тоню, и комок.
— Нет здесь никаких таких шаров! — сказала она и захлопнула дверь.
У Тони немного закружилась голова, все поплыло куда-то вправо, вправо. Что-то внутри с замиранием ухнуло вниз, как в лифте. Тоня ухватилась за перила. Потом из белого тумана выплыли, в обратном порядке, чем исчезали: перила, лестница, потолок, площадка, дверь и звонок на двери. «А как же шар? Самый большой на свете… Самый круглый… самый красный… и золотой на нем кораблик?»
Шара не было. Но его не могло не быть. Это Тоня понимала. И не сходила с места.
Так она простояла около часа. Какие-то люди спускались и поднимались по лестнице, и Тоня отворачивалась от них в сторону. Она хотела еще раз позвонить, но не могла. И только смотрела на узкую щель почтового ящика и в его пять дырочек внизу и тихо приговаривала: «Вот сейчас… откроется… Раз, два, три… Три-и-и… Вот сейчас…» Она достала из кармана катушку, погладила шелковую проволоку и с замедлением: «Ра-а-аз… два-а-а-а…»
За дверью послышался смех, и она распахнулась. Подобранная и веселая, появилась та самая большая белая женщина с мусорным ведром.
— Ты все еще здесь, девочка? — сказала она уже значительно мягче. — Шаров нет. Они были, но все уже кончились. Ты иди домой, иди… — И она стала спускаться.
Тоня не верила. Она гладила шелковую проволоку и уже знала, что шара не может не быть. Когда женщина поднялась с пустым ведром, и увидела Тоню на том же месте, и встретилась с ней взглядом, она вдруг побелела еще больше и левая щека у нее запрыгала.
— И ты все стоишь?.. — сказала она. — Да я бы сейчас для тебя хоть десять сделала… Но нету. Ах ты, бедная моя… Ну что мне с тобой делать? Ах ты господи!! — вдруг вскрикнула она. — Ведь есть же один, есть! Только с брачком… Бочок у него подгорел… Да ты подожди, я сейчас, сейчас… Мигом. Только надую. Газ еще остался. Ты подожди…
И торопливо она исчезла за дверью и дверь оставила полуоткрытой.
Трень-бом-динь! Трень-бом-динь! — приближался издалека звон колокольчика. Ближе, ближе. Что-то разрывалось в Тоне, распирало, и она всхлипнула.
И появилась женщина, неся перед собой огромный красный шар. А вот и золотой кораблик…
Трень-бом-динь!
Тоня, ничего не видя, шагнула с вытянутыми вперед руками и взялась за веревочку. Женщина улыбалась.
— Бери, милая, бери…