Игра времен (сборник) Резанова Наталья
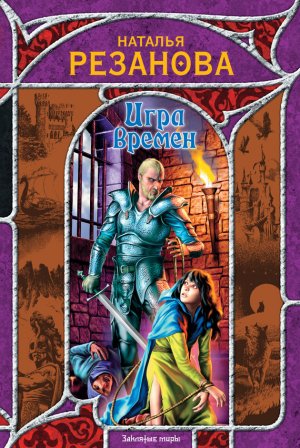
Игра времен
1. Лесная и оборотни
Это произошло в годы, когда Западная империя падала под бременем смут, а Восточная империя во всей силе и славе своей была так же далека, как Индия или Китай. Христианство уже теснило древнюю веру, но многие жертвенники еще дымились. Деревянные города, окруженные бревенчатыми стенами и земляными валами, гордо именовались столицами королевств и герцогств, но самые названия тех государств, не то что их границы, не удержались в памяти последующих поколений. Летописи тех времен темны и запутанны, а саги и предания – страшны и дики.
Именно тогда железная дружина Сламбеда, еще не ставшего торговым союзом, отправилась на присвоение земель одного из таких эфемерных государств – Винхеда. О дальнейшем мы узнаем из сламбедской же хроники. Это редкий, хотя и не единичный случай, когда о событиях сообщают побежденные, не победители, ибо победители не знают грамоты.
Вот что пишет Амвросий Сламбедский в своей «Начальной хронике»:
«Отряды комеса не в силах были противостоять сламбедцам, несравнимо лучше обученным и экипированным, за что и прозваны были «железнобокими». Тогда, ища спасения, вызвали они из глубины винхедских лесов воинов-оборотней, как говорят, имевших волчьи, медвежьи и песьи головы. Сие утверждение – безусловное суеверие, противное истинной вере, но о том есть множество очевидцев. Сии оборотни, сказывают, от зрелища крови впадали в некое бешенство, ничем не остановимое, сражались они, не испытывая боли даже и от множества ран, и каждый из них в бою стоил десятерых. И сламбедцы в страхе отступили. Но и винхедам пришлось познать, что иное лекарство – горше болезни, ибо эти оборотни были столь свирепы, что не могли жить, не творя убийств, и проливали кровь, не ведая разницы между противниками и союзниками, без жалости и снисхождения и к тем, и к другим…»
Мальчик вырвался ночью из гибнущей деревни и бежал, покуда у него не подкосились ноги. Кровь струилась по его лицу, сознание мутилось. Задохнувшись, раскинув руки, он рухнул на землю.
Приходя в себя и еще не открыв глаз, он почувствовал запах, который сразу заставил его рот наполниться слюной. За свои десять лет он и хлеба-то никогда не ел досыта, не то что мяса. А пахло мясом. Мальчик открыл глаза и тут же снова зажмурился – светило солнце. Он лежал на небольшой лесной поляне. Рана на его виске была промыта и перевязана. Перед ним горел костер, а на угольях жарились ломти мяса. За ними приглядывала сидевшая у огня девушка. У нее было темное лицо с гладкой, как шлифованный камень, кожей и светлые волосы. Если бы не эти волосы, которые шевелил ветер, она бы до странности сама напоминала каменное изваяние, настолько неподвижна она была. На ней было крестьянское платье, на плечи накинута овчина, на коленях – тяжелый посох, обитый медью. Очевидно, она заметила, что мальчик очнулся, и спокойно произнесла:
– Ты ешь, ешь. Веткой подцепи и ешь.
Он подполз на животе к костру, но вытащить кусок мяса не решался. Тогда она сделала это сама, вынув длинный нож с узким лезвием. Форма его рукоятки говорила, что он мог быть использован и как метательный. Очень трудно было следить за ее движениями. Они существовали словно бы сами по себе, в разрыве, а не длились. Но мальчик и не следил, а выхватил наконец кусок мяса и начал жадно есть, давясь и обжигаясь, перебрасывая ломоть из одной ладони в другую и совершенно не обращая внимания на девушку. Однако, как видно, он о ней не забыл, потому что через некоторое время заговорил, смутно и сбивчиво:
– Железные пришли… все забрали, скотину свели, сестру свели… потом пришли Оборотни… а их нельзя убить железом… стали убивать железных… железные убежали… а Оборотни стали убивать нас… всех убивать… страшно… морды у них звериные… зубы… и они рычали и выли… в шкурах… и рубили…
Он замолчал, облизывая обожженные пальцы. Затем сжался в комок.
– Не бойся, – сказала девушка. – Никто тебя больше не тронет. Сейчас я отведу тебя в обитель, к отцу Лиутпранду.
– К святому отцу?
– Да. А туда они не придут.
– Я боюсь… они – оборотни…
– Они такие же оборотни, как я – святая дева.
Мальчик тупо уставился на ее светлые волосы и темное лицо, словно что-то с трудом припоминая. И затрясся всем телом.
– Да что с тобой, недоумок? – с досадой воскликнула она. – Ты не так понял. Я хочу сказать – они не настоящие оборотни.
Но больше мальчик не произнес ни единого слова.
Девушка тем временем уничтожила следы костра, засыпав его землей и уложив сверху нарезанный мох. Потом подошла к нему.
– Идем. – Поскольку он не двигался, она рывком поставила его на ноги. – Идем!
Он не понимал, куда и сколько времени они шли. Опьянев от непривычной сытости, от слабости, от страха, он двигался как в бреду, и если бы не сильная рука, цепко держащая его за плечо, он бы упал. Пожалуй, он больше ничего не ощущал, только эту руку. Однако, по всей вероятности, из леса они не выходили, и никто им не встречался. Не было ни дороги, ни тропинки, а деревья перед его глазами сливались в неразличимую зеленую гущу.
Прошло несколько часов, и деревья наконец расступились. Они стояли на опушке у подножия холма. По склону тянулась хорошо утоптанная пустынная дорога. Она вела к высившемуся на вершине холма большому приземистому зданию, увенчанному крестом и обнесенному высокой оградой из цельных мощных бревен. На воротах висел колокол.
– Вот монастырь, – сказала девушка, выпустив его плечо. – Иди туда и позвони в колокол. Тебя примут, накормят и не будут обижать. Мне туда нельзя. Иди один.
Медленно, не оглядываясь, он побрел вверх по склону. Закинув посох на плечо, девушка не отрываясь смотрела на крышу с крестом, и в глазах ее было странное выражение. В то мгновение, когда мальчик дернул за веревку, девушка, не дожидаясь появления привратника, беззвучно отступила назад, в лес.
Отец Лиутпранд, настоятель монастыря во имя Святого Духа, возвращался к себе в обитель. Приходских священников не было, приходилось посылать для совершения треб монахов и служить самому. Солнце припекало, но он не спешил уходить с лесной тропинки в тень и даже не прикрывал лысину капюшоном. «Старческая кровь леденит», – усмехался он про себя. Впрочем, внимательный глаз угадал бы в нем человека не столь старого, сколь преждевременно состарившегося от непосильных трудов. Он был худ, сутул, вокруг тонзуры, обратившейся в плешь, еще сохранились редкие рыжевато-седые волосы. Настоятельствовал он в Винхеде много лет, проповедовал, крестил, венчал, хоронил. Он любил этих темных полуязычников и, пожалуй что, понимал их во всем, кроме тех областей жизни, коих понимать не хотел. Самого его также любили, почитали, называли святым, но не понимали совсем. Он мало что мог объяснить своей пастве, которая и имя-то его произносила с трудом. Не мог растолковать, почему на изобильной земле царит вечный голод, почему честные труженики живут в постоянном страхе, а те, кто не знает страха, так неизбывно жестоки. Выход из этого тупика он видел только в обращении к Богу, но видел также, что большинство людей к Богу прийти не готовы.
Честно говоря, он устал не только от подобных мыслей, но и от голода. Путь до монастыря был не ближний, однако нищета в деревнях была столь вопиющей, что отец Лиутпранд не считал себя вправе брать со скудного крестьянского стола.
– Добрый день, отец святой!
Он обернулся на голос.
На краю тропы стояла девушка в крестьянском платье. В руках у нее была свежепойманная щука (пресвитер вспомнил, что поблизости – река), а у ног лежал посох, окованный медью, которым она, очевидно, глушила рыбу.
– Благослови тебя Господь.
– Я прошу тебя принять от меня эту рыбу, а после поговорить со мной.
Он принял щуку у нее из рук, но во взгляде его было сомнение. Что-то в ней мешало принять ее за деревенскую. Она была выше пресвитера ростом, на лице, чрезвычайно смуглом, выделялись серые глаза и крупный бледный рот.
– Устав запрещает тебе разделять трапезу с женщиной?
Отец Лиутпранд ответил откровенно:
– Я мог бы нарушить его, если б ты была старой или слабой и больной, нуждающейся в помощи. Но тебя нельзя отнести к таковым.
– Ты не прав. В помощи нуждаются не только недужные и убогие. Хотя мне нужен скорее совет. Готовь себе обед, святой отец, и пусть мое присутствие тебя не смущает. Я вернусь, когда ты насытишься.
Когда она ушла, он разложил костерок, разделал рыбу и поджарил ее, нанизав на прутик. Но съел не все, а только половину. Оставшееся он, аккуратно завернув в листья, уложил в сумку. Когда он покончил с этим занятием, девушка вновь стояла перед ним.
– Я не заметил, как ты подошла.
– В этом-то все и дело, – сказала она.
И исчезла.
Отец Лиутпранд, несколько ошеломленный, смотрел перед собой, пытаясь определить, как это случилось.
– Я у тебя за спиной, – раздался голос. Как только он убедился в этом, она опять исчезла. И в следующий раз вышла из-за дерева на другой стороне тропы.
– Это колдовство, – сказал он, не обвиняя, а просто признавая факт.
– Нет. Я же не стала невидимой взаправду. Просто ты перестал меня видеть. Это не колдовство, а человеческое умение. Правду говоря, я даже не знаю, что можно счесть настоящим колдовством.
– Зачем же ты сделала это?
– Просто чтоб начать разговор.
– Тогда еще, чтоб начать разговор. Несколько дней назад к нам в обитель пришел мальчик. Он был ранен, бредил и, возможно, так и останется не в полном уме. В бреду он говорил об убийствах, а также о том, что его спасла от Оборотней и привела к вратам монастыря святая дева. Кое-кто счел это за чудо, но я видел, что рана перевязана человеческими руками. Это была ты?
– Да.
– Так вот – кто ты и чем занимаешься?
– Я – Дейна из Лесных. Слежу за Оборотнями.
Отец Лиутпранд нахмурился.
– Я всегда считал, что Лесные и Оборотни – одно и то же. И до недавнего времени и тех, и других – суеверным вымыслом.
– Нет. Это разные кланы. Оборотни – воины, а Лесные были охотниками и пастухами зверей. Теперь Лесных больше нет. Одних убили Оборотни, другие стали христианами и ушли в деревни и монастыри.
Отец Лиутпранд хотел было спросить, что значит «пастухи зверей», но спросил другое:
– Ты – тоже христианка?
– Да. Ты сам меня крестил. Поэтому я к тебе и пришла.
Настоятель кивнул. Если она крестилась в детстве, немудрено, что он ее забыл – его паства была слишком велика. Тем не менее это сообщение его немного успокоило. Он поднялся на ноги.
– Пойдем. По дороге ты расскажешь мне о Лесных и Оборотнях.
Дейна рассказывала:
– Общего у Лесных и Оборотней только то, что живут они в лесу. А Лесные и вовсе его никогда не покидали. Только Лесных уже нет, а об Оборотнях давно ничего не было слышно, потому что в этих краях не было войны. Поэтому я надолго уходила отсюда, была в горах и дальше, а когда вернулась – здесь война, и они тоже.
– Постой. Мне кое-что неясно. Я видел твое «ненастоящее колдовство» или «человеческое умение». Предполагаю, есть и другие. Почему же, обладая такими способностями, Лесные были побеждены?
– Это и в самом деле удивительно, но Лесные не любили и не хотели убивать. Поэтому они так быстро обратились в христианство.
– А Оборотни – язычники?
– Да, но вера у них иная, чем у мирных язычников.
– Расскажи мне больше об этом племени.
– По-настоящему это не племя и не род. У них не бывает ни жен, ни семей, ни родственных связей. Все они мужчины и воины. Они объединяются во фратрии или братства. Мне известно всего четыре таких. Та, которая действует в Винхеде, именуется фратрией Медведя.
– Опять подожди! Ты говоришь так, будто Оборотни – это люди. Почему же их называют оборотнями?
– Потому что… я знаю следующее. Юноша приходит во фратрию, как только научается владеть оружием, и после долгих и очень жестоких испытаний становится полноправным членом братства. Если выживает, конечно. Во время испытаний он учится вызывать зверя. И, когда он идет в бой, в него вселяется этот зверь. То есть он вызывает в себе его. Есть разные способы… Мне трудно объяснить. Они рождены людьми, но людьми себя не считают и носят шкуры своих зверей – волков, рысей, псов, медведей, а на лицо надевают их маски. Они не изображают зверей, как ряженые на весенних праздниках. Они становятся зверями. Они одержимы. Они живут войной, любят войну, их радует убийство больше, чем добыча. Все остальное они ненавидят и презирают. Им все равно, кого убивать и зачем…
– Чудовищно… – прошептал отец Лиутпранд. – Безбожно…
Дейна промолчала. Некоторое время они шли, ничего не говоря. Затем отец Лиутпранд нерешительно произнес:
– А что до того, что их нельзя убить железом?
– Ошибка. Она исходит из того, что одержимый Оборотень не чувствует боли. Его на куски можно заживо резать, но остановится он не прежде, чем истечет кровью и умрет. Поэтому люди верят, будто Оборотней нельзя поразить железом, а только деревом, камнем или огнем.
– Но если это так, если на деле они не оборотни, а одержимые, они просто больны, и их можно излечить. Если их разделить и прибегнуть к помощи зкзорцизмов… – задумчиво проговорил отец Лиутпранд.
– Ты представляешь себе, как это можно сделать? – жестко спросила она.
Он ответил вопросом на вопрос:
– А чего хочешь ты? Ведь ты явно не за духовным утешением пришла ко мне?
– Пока нет. Хотя духовное утешение мне нужно. И если бы у нас имелась женская обитель, я бы, наверное, удалилась туда. Но прежде чем я уйду, я должна уничтожить Оборотней в Винхеде. Они исчезнут, как Лесные!
– Как?
Очень обыденно она сказала:
– Я проникну к Оборотням. Подчиню их себе. И отправлю на гибель. А ты мне поможешь.
Он посмотрел ей в лицо, ища признаков безумия. И не нашел. Серые глаза были ясны и безмятежны.
И все же он устало произнес:
– Ты не в своем уме. – Не дождавшись ответа, продолжил. Это было тяжко – весь предшествующий разговор был тяжек, потому что доселе ему никогда в жизни не приходилось беседовать о чем-либо подобном с женщиной. За последнее соображение он и ухватился. – Ты заставляешь меня говорить вещи, о которых говорить я не должен, и даже думать о них мне не пристало. Ты – женщина. Ты молода и хороша собой. И ты идешь в банду озверелых негодяев-язычников. Неужели ты настолько глупа, будто не понимаешь, что тебя ждет? Или тебе это безразлично?
На сей раз она ответила, словно растолковывая неразумному ребенку нечто очевидное:
– А ты как думаешь, неужели я смогла бы поведать тебе все так подробно, если бы уже не побывала у них, и без всякого для себя вреда? Я и тебе сумела отвести глаза, а ты несравнимо умнее их.
На лесть отец Лиутпранд не поддался. Он с горечью осознал, что говорил с ней уже не как пастырь духовный, а как мирянин, старый, битый жизнью мирянин.
Она как будто попыталась его утешить.
– Ведь я же могу просто исчезнуть.
– Да просветит тебя всеблагой Господь, – пробормотал он.
Она кивнула и отступила с тропы. Отец Лиутпранд догадался, что сейчас она уйдет. А он не смог ее переубедить.
– Ты – такая же одержимая, как они! – выкрикнул он.
Она обернулась.
– Ошибаешься, отец. Я – гораздо хуже.
Он двигался по лесу, но никто не смог бы услышать его шагов, никто из людей, только дикий зверь, и то лишь знающий, что такое охота, и приученный бояться приближения человека. Но был ли он человеком? Только не с виду. С человеком его роднил исключительно способ передвижения – на двух ногах, но походку уже нельзя было назвать человеческой, равно как и все остальное – седую шкуру, прикрывавшую тело, оскаленную пасть, над которой тускло блистали глаза, а то, что чудовище почему-то встало на задние лапы, делало его еще страшнее. Хладнокровный и непредвзятый наблюдатель заметил бы, что волчья шкура облекает тело примерно до колен, оставляя свободными ноги в штанах и сапогах, в поясе она перехвачена ремнем с закрепленными на нем мечом и топором, а страшная морда волка была лишь личиной на лице, сохранившаяся же при выделке верхняя часть черепа могла служить шлемом новому хозяину. Но в том-то и дело, что он ни разу в жизни не встретил хладнокровного и непредвзятого наблюдателя. Для всех прочих он был зверем, ужасным, невозможным, сверхъестественным. Оборотнем.
Он шел с севера на юг, шел уже много дней, и шаг его был все так же ровен и легок, и до цели ему оставалось не так уж далеко. Он шел, лес обступал его со всех сторон, нависал над ним кронами деревьев, стлался под ноги пружинистым ковром палых листьев и хвои.
Внезапно он замедлил шаг и повернул голову. Лица его не было видно под маской, но поза выдавала напряженное внимание. Казалось, серая шерсть на спине его сейчас встанет дыбом. Затем он резко свернул со своей невидимой, словно в воздухе начертанной тропы и крадучись двинулся между деревьями. Пробираться ему пришлось недолго. Перед ним была небольшая прогалина, образовавшаяся после падения могучего старого вяза. На поваленном стволе, свесив ноги, сидела женщина, на плече у нее примостился ворон, и она наклонила голову так, будто птица что-то говорила ей, а она слушала. Он замер, вглядываясь. Женщина отвернулась, видна была лишь завеса светлых волос, но нечто в ее облике, в развороте плеч, прикрытых овчиной, говорило, что она молода. На много переходов кругом не было ни одной живой души, а женщина – на расстоянии одного прыжка. Он прыгнул, и в прыжке узкий охотничий нож вошел в его горло. Девушка не сидела, а стояла, и ворон, сорвавшись с плеча, с карканьем кружил над ее головой.
Нападавший по инерции пролетел вперед, упал ничком. Рукоять ножа ударилась о землю, и острие вышло у основания затылка. Девушка перевернула труп, вытащила нож, отерла лезвие, воткнув его в землю. Стянула волчью маску, вымазанную кровью, не взглянув на искаженные смертной гримасой черты лица, принялась пристально изучать знаки на оружии и одежде убитого – резьбу на рукояти топора, по-особому завязанные ременные застежки рубахи, костяные амулеты, свисавшие с пояса. Ворон перестал кричать и уселся на ветку.
Есть разные способы выпустить зверя. Дым конопли, сок белены или сушеные мухоморы. Но те, чей дух и тело прошли через должные ритуалы посвящения, не нуждаются в этом. Достаточно удара в щит и боевого клича вождя.
Тюгви, старший среди братьев фратрии Медведя и сам Медведь, бил мечом о бронзовый щит, висящий на дереве. Только для этого щит и был нужен. В бою Оборотни щитами пренебрегали. Размеренный звон разносился над поляной, где размещался лагерь Оборотней. Обычно он был почти пуст, понятия дисциплины Оборотни не знали. Но теперь они собрались здесь. Тюгви не смотрел на них. Ему не было нужды. Он был старше их всех летами и давно забыл те времена, когда еще не стал Оборотнем. Высокий, кряжистый, в косматой медвежьей шкуре, он покуда еще не надвинул на лицо звериную маску, и она скалила клыки над темными, маленькими, глубоко сидящими глазами. Многие Оборотни под шкурами носили знаки своей удачи – золотые гривны и оплечья, драгоценные браслеты. Единственным украшением Тюгви был железный ошейник, на каких держат медведей. Он недаром был старшим среди братьев. Не потому что был храбрее других – не было «храбрее», трус не мог стать Оборотнем, и не потому что сильнее – слабых не было, слабые не выживали при испытаниях, но сила его была не только в теле, его могущество и власть имели основой то, чем другие Оборотни не обладали. Это можно было бы назвать магией, однако магические способности Оборотни считали достоянием презираемых врагов: Лесных, а также трусливых баб и христианских шаманов. Впрочем, Оборотни презирали всех, кроме Оборотней. Только одних они уничтожали походя, к другим же следовало применить воинскую силу. Особенно к железнобоким. Они называли себя воинами, но уповали лишь на крепость брони, защищавшей их ничтожные тела, да на быстроту ног своих коней (Оборотни никогда не сражались верхами), и за одно это их следовало наказать. Совсем недавно Оборотни разбили и рассеяли их, и вот они снова собрались и вернулись. Как прежде, они захватывали жилища земляных червей, громили их погреба с пивом и брагой, брали их женщин, рубили на мясо их скот – все то, что по праву принадлежало Оборотням. Сами Оборотни земляных червей грабили редко – от лени и от презрения. Но отобрать добычу у хищника… у того, кто смеет выдавать себя за хищника!
Тюгви ударил в последний раз, четко определив момент превращения. Вокруг него не было ни одного человека. Звериные шкуры приросли к телам, лица стали мордами. И Тюгви рывком натянул на лицо медвежью маску, и рев вырвался из его легких. Ему ответил вой остальных. Сам Тюгви мог совершить превращение без подготовки, которая требовалась прочим. Теперь он чувствовал их единую волю, их желания и устремления, которыми без труда можно было управлять. Ибо Оборотни, в редкие мирные часы не признававшие ни дисциплины, ни порядка, после превращения становились едины и жили единым.
Бой!
Все остальное – стерто.
Они передвигались по-звериному – бесшумно, при ходьбе наклонившись вперед. Стояла уже глубокая ночь, когда они добрались до места, а вышли они с закатом. Ночь – их время.
Железнобокие расположились в селении земляных червей, разогнав хозяев. Оборотни тихо окружили деревню, сняли часовых. Но дальше… перерезать спящих врагов не составило бы никакой чести, не доставило бы радости. И Тюгви вновь зарычал, а остальные завыли, пробуждая уснувших.
Первые минуты среди железных царила суматоха. Пока они метались, вскочив с тюфяков, либо натягивали свое тяжелое вооружение, кто-то из них с факелом в руке выбежал к коновязи, догадавшись погнать на Оборотней запасных коней. Лошади железнобоких – необычайно для здешних мест сильные, тяжелые и рослые, иначе бы они не годились для закованных в латы всадников, – подгоняемые огнем, тяжелым скоком вынеслись на улицу селения. Их оскаленные морды с горящими глазами напоминали демонов ада, копыта вырывали комья земли. Железнобокий что-то гортанно кричал. Один из Оборотней змеей проскользнул между лошадьми и вырос прямо перед дружинником, замахнувшимся на него факелом. На мгновение пламя осветило их обоих – высокий, светловолосый дружинник в лорике, с факелом в правой руке и дротиком в левой, и Оборотень в волчьей шкуре, вооруженный коротким прямым мечом. Только на мгновение, затем выбитый факел упал на землю, а за ним тот, кто его держал. Оборотень же метнулся вперед, за ним – остальные. Факел затоптали – Оборотни видели в темноте. Легкие, быстрые тени заполнили селение. Теперь наступало время одиночных поединков, более всего ценимых оборотнями и доставлявшим им самое сильное наслаждение. Тюгви-медведь первым поднял топор, врубился в группу дружинников, разведя их клинки, словно они были сделаны из камыша. Дротик, брошенный из переулка, вонзился в бок Оборотня в рысьей шкуре, но тот даже не приостановился, чтобы вырвать его. Во владеющем ими сейчас воинском экстазе Оборотни не только не чувствовали боли – они были сильнее и в то же время легче и подвижнее, чем большинство людей. Но у железнобоких были свои преимущества – их защитное оружие, само наличие которого презирали Оборотни, помощь пешей обслуги, наконец, привычка во всем следовать определенным правилам, доведенная до автоматизма. После краткого замешательства они сумели построиться в боевом порядке, пригодном для пешего сражения. На них были пластинчатые доспехи, более тяжелые и прочные, чем лорики обслуги, на головах – высокие остроконечные шлемы. Вооружение их составляли широкие мечи и копья, и они загородились высокими, в рост, деревянными щитами, обитыми бронзой, о которые мог разбиться и безудержный порыв Оборотней. Обслуга заняла позиции в переулках, вооружившись луками и стрелами. Несколько факелов были заброшены на покрытые дранкой кровли, и пламя занимавшихся пожаров осветило пространство сражения – выстроившихся в круг посредине улицы облитых металлом железных, перебегающих, петляя, от дома к дому Оборотней. И только Оборотням была видна еще одна фигура на крыше жилища рядом с кольцом железных, и мертвый свет луны, и рыжий свет пожара озаряли стоящие торчком уши и вздыбленную седую шерсть на волчьей голове. Казалось, очень медленно, как во сне, а на самом деле одним стремительным движением волчьеголовый взмахнул поднятым мечом и молча прыгнул прямо в середину круга, в гущу воинов противника. Он исчез из глаз Оборотней, но в рядах железных произошло движение, строй их сломался, и этого было достаточно, чтобы бросить Оборотней в сокрушительную атаку. Им не нужно было приказа Тюгви – ничьего приказа. Прорвавшись в круг железных – распавшийся круг, – они в яростном самозабвении крушили щиты топорами, разбивали мечами шлемы, а если кому-то удавалось сбить шейную пластину с доспеха, впивались зубами в глотки врагов, опьяняясь их кровью, и лучники не могли больше стрелять, ибо в этом смешении тел не могли отличить своих от чужих.
Вскоре в деревне не осталось никого, кто мог бы противостоять Оборотням. Враги бежали либо были перебиты. Настало время грабежа. Одни Оборотни разбрелись по домам, выискивая то, что не успели захватить либо выпить железные. Другие обшаривали трупы, забирая золото: пряжки, гривны, наручи, кольца – украшения, бесполезные для Оборотней, но ценимые ими. Третьи свежевали убитых лошадей и жарили конину на угольях. Наконец, нужно было позаботиться о павших Оборотнях. Их оказалось двое, и с ними поступили по обычаю – с оружием в руках положили на костер. Никто не оплакивал убитых братьев. Ведь они умерли не от болезней и старости, а так, как им надлежит. Когда тела их сгорят, оставшиеся возьмут по горсти пепла, разведут вином и выпьют на пиру за их новое рождение. Чрево женщины не способно выносить Оборотня. Только прах его, носясь в воздухе и проникая в дыхание, способен возродить его к жизни. А часть праха, что выпьют с вином или веселым медом братья, всегда пребудет с ними. Так что Оборотни не умирают, и нечего бояться смерти в бою и нечего о ней плакать.
Близился рассвет. Уход зверя и возвращение человека всегда тягостны для Оборотня, туманя сознание и отнимая силы. Тюгви, благодаря своей воле, удерживался на грани между этими двумя состояниями. Он сам не знал, что мешает ему соскользнуть в расслабление.
Он поднял голову, сдвинув маску. На затянутой дымом и предутренним туманом улице среди догорающих домов медленно передвигающиеся фигуры Оборотней казались призраками, собственными тенями.
Мимо прошел волчьеголовый, чьи действия нынче во многом решили исход боя.
– Младший.
Тюгви не повышал голоса, но властность в нем была непререкаема.
Волчьеголовый приблизился.
– Ты хорошо нынче рубился. – И без паузы: – Сними маску.
Волчья голова сдвинулась на лоб, и открылось совсем молодое лицо с резкими чертами, с кожей гладкой, как из камня. Глаза, очень светлые на темном, глянули в глаза Тюгви.
– Я не знаю тебя, – утвердительно сказал Тюгви.
– Так, старший. – В его тихом голосе словно перекатывалось приглушенное рычание. И еще Тюгви расслышал в нем слабый акцент. Да и детали вооружения говорили за себя.
– Север? Фратрия Волка?
– Все так, старший.
– Имя?
– Ульф.
– Почему ты явился к нам, Ульф?
– На севере нет войны.
Ответ был исчерпывающий, можно больше ни о чем не спрашивать. В отсутствие сражений и воинских подвигов, коснея в бездействии, Оборотни либо легко падали духом, либо, ведомые неодолимым беспокойством, оставляли собственные фратрии и перебирались в те, что воевали. Так бывало всегда. В появлении Ульфа не было ничего странного, а по оружию его, знакам на поясе, да и потому, как он сражался, ясно, что он – полноправный воин. И все же…
По улице брел Хагано, один из ближайших учеников Тюгви. Он снял свою собачью маску и щурился от дыма. Лицо его было бледно, на губах и усах засыхала кровь. На него наваливалась слабость, как всегда бывает с Оборотнями после обратного превращения. Но, когда Тюгви велел ему и Ульфу следовать за ним, Хагано беспрекословно подчинился. Он не размышлял над тем, почему старший так торопится, и принимал это как данное. Так они и шли: впереди Тюгви – твердым и решительным шагом, за ним Ульф – почти неслышным, последним, вялый и спотыкающийся, – Хагано.
А Тюгви спешил. Он хотел утвердиться в своих подозрениях до наступления дня, а когда они подошли к лесу, солнце уже выползало из-за кромки деревьев. Правда, в лесу еще стоял сумрак. Они двигались между деревьями, Хагано споткнулся о сырой полусгнивший ствол и чуть было не упал. Сейчас от его ночной ловкости и легкости движений не осталось и следа. Тюгви обернулся и положил руку ему на плечо.
– Сиди здесь и жди.
Они с Ульфом пошли дальше, пока не продрались на круглую поляну, со всех сторон окруженную густыми зарослями можжевельника. Тюгви жестом приказал Ульфу остановиться, обошел его кругом противосолонь: голова опущена, руки свисают, вновь зашел ему за спину…
Потом послышался глухой рев.
Ульф обернулся. На него надвигался старый бурый медведь, матерый, со множеством шрамов, проглядывающих сквозь мех. Но прежде чем он успел приблизиться, к земле припадал, показывая клыки, молодой волк, худой, но крупный. Шерсть, светлая и оттого глядящаяся седой, стояла дыбом на его загривке. Медведь был много тяжелее, он мог одним ударом передней лапы переломить противнику позвоночник, но в желтых волчьих глазах горела такая лютая злоба, что медведь не решился нападать открыто, а попытался обойти противника, тяжело затрусив по поляне. Но не тут-то было. Волк, не выпуская медведя из виду, каждый раз встречал его оскалом кинжальных зубов. Сам он не нападал, выжидая, пока медведь не устанет или не выкажет слабости. Наконец игра надоела медведю, он поднялся на задние лапы, готовый всей своей тяжестью превратить в месиво хребет волка, и занес вооруженные смертоносными когтями передние лапы, но в это мгновение волк неожиданно легко оттолкнулся от земли, серой тенью преодолел пространство до открывшегося горла противника и сомкнул на нем челюсти. Медведь взревел, пытаясь стряхнуть повисшего на нем волка, потом рухнул и покатился вместе с ним по земле, тщась раздавить врага, но безжалостная хватка становилась все крепче… и крепче…
Хагано дремал, сидя на бревне. Из забытья его вывел чей-то взгляд – тяжелый, упорный. Он поднял глаза. Перед ним стоял волчьеголовый.
– Иди помоги старшему, – сказал он.
Прежде чем до Хагано дошел смысл его слов, волчьеголовый исчез. Мгновение Хагано медлил, раздираемый сомнениями – бежать ли за ним, или спешить на помощь Тюгви? Преданность старшему победила, и Хагано устремился к нему. Он увидел Тюгви посередине круглой поляны. Тот лежал навзничь, неподвижно. Маска съехала, и лицо старшего из Оборотней было так бледно, будто кровь в нем заменилась мелом. Казалось, он мертв, но, когда Хагано склонился над ним, он не заметил на теле старшего ни одной раны. Потом Тюгви открыл глаза, и Хагано отшатнулся – такая безумная исступленная радость читалась в его взгляде. Так бывает, когда свершается то, на что давно перестал надеяться.
– Слушайся Ульфа, – прошептал он, – его сила больше моей… Когда я умру, он займет мое место.
Обычно в промежутках между сражениями Оборотни, за исключением учеников, не прошедших еще испытаний и занятых изучением воинских искусств под надзором своих наставников, делали что хотели, не отдавая никому отчета, в основном – спали либо охотились. На охоту пошли и Тюгви с Хагано, пешие, без собак – звери убивают зверей, но звери не служат зверям. Передвигаясь беззвучно, как подобает Оборотням, в плотном, прогретом июльским солнцем воздухе они улавливали малейшее дуновение, приносящее разнообразные запахи, и самые отдаленные звуки. Пока что и то, и другое указывало вполне определенно. Осторожно озираясь, они вышли на поляну, заросшую высокой, уже начинающей терять соки травой. Как подобает Оборотням, они не любили ни солнца, ни открытых пространств, но охотничий инстинкт был сильнее. Маски их были сдвинуты, оба смотрели вперед. И так же, не оглядываясь, ровным голосом Тюгви произнес:
– Ты осуждаешь меня, младший.
Хагано, шагавший ему вслед, ничего не ответил. Его худое лицо напряглось.
– Осуждаешь. Язык твой не поворачивается сказать этого, но после стольких лет ученичества тебе не скрыть от меня своих мыслей.
Тюгви говорил правду. Отношения между старшим воином и его учеником во фратрии бывали ближе, чем между отцом и сыном, тем паче что Оборотни забыли своих отцов и знать не желали своих детей. Они без слов понимали друг друга. Но сейчас Тюгви счел возможным начать разговор.
– Да, ты был моим учеником, и я полагал, что на смену мне придешь ты. И твое место занял чужак, юнец, едва прошедший воинские испытания. Но так нужно. Он – больше чужой, чем ты думаешь. Я сразу заметил, что он не такой, как мы, и теперь, по прошествии дней, в этом убедился.
Хагано внимательно слушал.
– Это не воин-оборотень, а оборотень-воин. Не человек с душой волка, а волк с душой человека. Мы принимаем в бою звериный облик, он – наоборот. Я слышал о подобных ему прежде, но сам раньше никогда не видал. Он никогда не выходит из леса, кроме как ради сражения. Он никогда не ест человеческой пищи. Он появляется и исчезает незаметно. Тебе мало примет? Хагано, сын мой. Ульф для фратрии важнее тебя. Сейчас он еще слишком молод, но с годами это будет вождь, каких еще не знал мир!
Поглощенный видением, представшим его воображению, Тюгви не смотрел на своего ученика. Он был Оборотнем и мыслил как Оборотень. А потому Тюгви ровно ничего не понимал в людях. Оборотень не мог испытывать зависти – самого человеческого из всех чувств.
– Он – больше зверь, чем все мы… – продолжал Тюгви, на что Хагано, прервав молчание, задал неожиданный вопрос:
– А если он поест в человеческом облике, он так и останется навсегда человеком?
Тюгви не успел ответить. Он прислушался и поднял руку в знак внимания. Хагано последовал немому приказу. Быстро и осторожно они пересекли поляну и оказались на обрыве над рекой. Слух не обманул старого Оборотня – на узком песчаном мыске под обрывом стояла и пила воду молодая олениха. Тюгви сделал шаг назад и бросил на Хагано короткий взгляд, смысл которого был ясен – честь удара предоставлялась младшему. Один-единственный удар ножом, иначе ты плохой охотник. Хагано, подбираясь для прыжка, вытягивал нож из-под шкуры.
Когда Тюгви вновь подошел к краю обрыва, Хагано уже снова вытягивал нож – из-под лопатки оленихи, лежавшей на песке. Затем он, полоснув лезвием по горлу животного, припав к открывшейся ране, согласно обычаю, напился горячей крови. Это было его право. Когда он поднялся, то, глядя на кровь на его губах, Тюгви кивнул, словно в согласии с какими-то собственными соображениями. Потом велел тащить тушу наверх.
Почти одновременно с Тюгви и Хагано вернулся Гаури, Оборотень в рысьей шкуре. Он разбил погреб одного земляного червя и приволок с собой два бочонка меда. При виде этого Оборотни, бывшие в лагере – те, что спали или просто безразлично валялись на земле, – зашевелились. Подбросили дров в почти потухший было костер, начали сбивать крышки с бочонков, нацелились разделывать тушу. Но Тюгви прекратил приготовления единым движением руки. Все Оборотни смотрели на него. Видно было, что старший желает говорить. Он стоял над тушей оленихи, вынув меч из ножен, и оглядывал собравшихся. Это означало важное. А что может быть важнее битвы? Значит, бой… но пойдут ли они в бой сейчас или после пира?
Однако старший заговорил о другом.
– Братья-оборотни, – медленно начал он. – Воины, свободные люди, непобедимые герои. Единственно достойные имени мужчин. Но прежде всего – братья. Ни один род не сравнится с вами крепостью уз. Единый дух, единая плоть, единая воля, единая кровь. Ни смерть, ни предательство не нарушат нашего союза. И мертвый, и предавший все равно будет связан клятвой. Всегда и везде вы будете вместе. А кто хоть на миг забыл об этом, тому я напомню.
Никто не умел сказать так, как старший. И прежде чем успел он закончить, они стояли вокруг него – все, кто был здесь, числом около трех десятков. Тюгви напомнил о древнем братском ритуале – одном из многих, одном из самых сильных: когда собравшиеся воины вместе погружают руки в кровь убитого зверя и эта кровь соединяет их навеки.
Так и было сделано.
И только после этого тушу разделали и зажарили на костре. Ночь обещала много сочного мяса, сладкий мед и братские поединки. И это тоже была жизнь, достойная Оборотня.
Хагано не был пьян, он слишком мало выпил для этого. Однако ноги слегка отяжелели – он почувствовал это, когда отошел от бочки к костру. Какое-то беспокойство томило его. Между пирующими он увидел Ульфа. Остальные дружно насыщались, рычали, хохотали, костер отбрасывал блики на их побагровевшие лица. Ульф сидел неподвижно, опустив на лицо волчью маску. Руки его, сжатые в кулаки, лежали на коленях – так же, как и у Хагано, они были покрыты коркой темной засохшей крови.
Отпихнув ближайшего соседа, Хагано уселся рядом с Ульфом. Волчьеголовый не шевельнулся, но, конечно, заметил его. Нет, он не настолько пьян, чтобы затевать драку с Ульфом… И все же… Он повернулся и спросил напрямик:
– Боишься есть человеческую пищу?
Полусдвинув маску, Ульф молча вытащил свой длинный нож и подцепил ближайшей кусок оленины, жесткой, едва прожаренной. Хагано отвел взгляд. Или волчьеголовый готов ради доказательства своего бесстрашия поступиться оборотническим даром, или… волки тоже едят оленину.
Между тем Тюгви, сидя под деревом, пил черпак за черпаком. Все прошло так, как он хотел. И скоро тяжелая ноша спадет с его плеч, и он снова станет свободен на празднике битвы, подчиняясь лишь единой воле братства, избавленный от участи подчинять ее себе.
Случилось так, что Гаури-рысь пошел в деревню земляных червей за добычей. И там его подстерегли железные. Он был один против всех, и они окружили его, взяв в кольцо, сами скрывшись за своими высокими щитами, и, смыкаясь все плотнее, задавили этими щитами насмерть. Так выяснилось, что не все железные, разбитые Оборотнями, погибли или бежали из Винхеда. И они вновь принялись за свое, но при том изменили тактику, никогда не задерживаясь подолгу в одном месте, ограничиваясь единой ночевкой, догнать же их не представлялось возможным, благо они были верхами. Теперь это не были железные отряды Сламбеда, вернее, их остатки, но банда убийц и мародеров. Так железнобокие и Оборотни, которые были врагами, совместно рвали и терзали маленький лесной край, а дружина комеса, призванная своим служением оградить мирных жителей от воинственных пришлецов, заперлась в деревянной крепости своей Винхед, не решаясь вмешиваться в дела лучше вооруженных, лучше обученных, и несравненно более злых противников.
И случилось так, что Оборотни решили отомстить за собрата, погибшего без чести и потерявшего долю в будущем рождении. Но когда они собрались для этого, Тюгви отказался вести их. Смятение охватило Оборотней, но однако они слушали его со вниманием, а он стоял, наклонив большую голову под медвежьим шлемом, и говорил, потому что говорить может только старший, остальные – просто болтают.
– Я уже стар, чтобы вести вас. Силы в моих руках, чтобы держать меч и топор, еще достаточно, но сила Оборотня во мне ослабевает. Я не брошу оружия, и смерть моя не будет смертью труса. В бою я найду свой конец, и это будет скоро. Пора братьям отплатить мне за сладкий мед и отпустить старого вожака на свободу. Фратрии нужен новый вожак, который поведет вас к новой славе.
Смятение, проникшее в круг Оборотней, не покидало его. Вожака всегда выбирали, но крайне редко выбирали прежде смерти прежнего. А Тюгви всем казался так силен и могуч, что никто и не задумывался о преемнике. К тому же бывало так, что, не сумев выбрать старшего, фратрия либо сама уничтожала себя в раздорах, либо просто распадалась. Они зашумели и загомонили:
– Но кто им будет?
– Кто?
Один голос, перекрывая остальные, громко выкрикнул имя:
– Ульф!
Кричал Хагано, и Тюгви про себя отметил это, удовлетворенно кивнул. Он не ошибся в ученике. И тихо повторил:
– Ульф.
Остальные были в недоумении. Щенок, мальчишка, показавший себя, хоть и прекрасно, только в одном бою? Многие не преминули высказать это вслух и еще добавили:
– У него нет ни чести, ни славы! Нужно доказать, что можешь быть вожаком!
– Так пусть докажет! – крикнул Хагано, и Тюгви снова кивнул.
Ульф стоял тут же. Он был, как и большинство собравшихся, в маске, и кое-кто заметил, что, прислушиваясь к остальным, он не поворачивал головы, но оборачивался всем телом. Как волк.
– Пусть докажет, – повторил Тюгви.
Оборотни отступили от Ульфа.
Говорить умеет только старший. Ульф всегда говорил мало и так, словно ему было трудно произносить слова. Но сейчас он был вынужден говорить.
– Железные, – сказал он. – Мы убьем их. Но на привале мы их уже убивали. Больше нет веселья. Нужно взять их на марше.
И смолк. Это была самая длинная речь, произнесенная им за время пребывания во фратрии Медведя. Она понравилась. Но не все с ней согласились.
– На марше – нетрудно сказать! А если они сбегут – они же трусы?
– Когда они верхами, их нипочем не догнать!
– Особенно днем, а ночью они не ездят!
Ульф не стал никого перебивать, а выждал, пока все прокричатся.
– Я задержу их в пути, – голос клокотал в его горле с мучительными усилиями, – так что они поедут в сумерках. Потом я их остановлю.
И хоть с трудом, но так он это сказал, что лишь один из Оборотней спросил:
– Как?
– Я позову моих братьев, – медленно ответил Ульф и в образовавшейся тишине добавил: – Иных братьев.
Все молча смотрели на него. Уверенность Тюгви, подозрение, в котором пытался увериться Хагано: в том, что Ульф – превращенный волк, – сейчас догадкой коснулось многих. Это настораживало. Ибо волки-оборотни настоящих волков избегают. Но это и привлекало – всем хотелось видеть, на что способна в бою чародейная тварь, кроме мастерского владения оружием. А если так…
– …пусть так и будет! – Это снова был Хагано. И остальные подхватили его крик.
Тюгви мог быть доволен. Хагано оказался достойным воином и достойным Оборотнем. Если он не сумел распознать силу, то сумел принять ее и склониться перед ней. И фратрии не понадобилась подсказка. Теперь оставалась самая малость – Ульф должен доказать, что он не просто волк, но вожак стаи.
На закате они пришли на место, указанное им Ульфом, – у излучины реки, где конная тропа выбегала из леса и уводила к деревне, огибая горбатый холм. Проще всего было бы напасть на железнобоких в лесу, но, вероятно, именно потому Ульф этого не захотел. Сам он все еще не появлялся. Он обещался задержать врагов. Никто не спрашивал его, как он это сделает – собьет железных с пути, устроит засеки на тропе или придумает еще что-нибудь. Однако, уходя, он казался совершенно уверенным в своих силах – и, похоже, был прав: темнело, а железные из леса не выезжали. Но не переусердствовал ли он? Что, если железные решили заночевать в лесу? Это противоречило всему, что было известно о повадках железных, и все же могло случиться.
Но чуткое ухо Оборотня уже улавливало доносящийся топот. Пусть он был еще далеко. Пусть. Враги приближаются. Пора готовиться.
Первый железнобокий, показавшийся из леса, издал радостный вопль. Лес они ненавидели и теперь, выбравшись на открытое место, позволили себе расслабиться. Сбив строй, они выехали на тропу – нелепые и страшные одновременно – огромные, тяжелые и неподвижные, каждый – башня из кованой брони и кольчужной сетки. Многие бросили поводья. Никто не смотрел по сторонам. Железные медленно трусили на своих могучих конях по направлению к деревне, переговариваясь на своем наречии, которое Оборотни не снисходили понимать. Быстро темнело. Только река поблескивала в сумерках, и черные силуэты железных выделялись на фоне серого неба. Пора было нападать. Оборотни, бесясь от нетерпения, ожидали знака от Ульфа, и один Тюгви понимал, что никакого знака не будет. Все произойдет по-другому…
Это случилось, возможно, в ту минуту, когда солнце полностью скрылось за горизонтом, луны же не было и в помине. Оборотни, залегшие на склоне, поначалу ничего не увидели, да и сами железнобокие в первый миг не сообразили, что за безумие охватило их лошадей, а когда поняли, было уже поздно. Никогда такого не бывало, чтобы посреди лета, когда звери не голодают, стая волков бросилась на отряд хорошо вооруженных людей. Но это произошло. Серые тени вырвались не из леса, откуда только что появились железнобокие, а справа, от реки, будто нарочно обойдя противника. Волки не могли загрызть закованных в броню всадников, но были в состоянии посеять среди них смятение. Железные не понимали, простые ли звери напали на них, или дьявольские порождения ненавистных им леса и ночи. Зато лошади это понимали отлично. Их обуяла паника, и они начали метаться, грызть удила, бить задом и бросаться на дыбы. Укротить их было невозможно, и так же невозможно было быстро подняться с земли тяжеловооруженному железному, если он упал. А они падали, и между ними и над ними в сгущавшемся мраке продолжали кружить серые призраки, и Оборотни силились разглядеть среди них человеческую фигуру, но тщетно. Тогда сердца Оборотней наполнились весельем, как от пьяного меда, – Ульф натравил на железнобоких стаю волков, словно свору собак, о, Ульф был прав, когда говорил о веселье, он понимал в этом толк. Они не хотели упускать своей доли в пиршестве крови и словно по приказу, которого они так и не дождались, ринулись по склону на спешенных железнобоких. Тем же помстилось, верно, что сам ад выбрался на волю. А когда взошла наконец луна, и некому было обороняться на истоптанной дороге, и Оборотни насытились весельем среди безмолвных волков и храпящих лошадей, они заметили, что все волки исчезли.
Кроме одного.
Никто не видел, как он появился, а может быть, он все время был здесь, только в ином обличье, возглавляя стаю. Сейчас же он стоял на двух ногах, в руке его был меч, а над головой у него висела луна, как во время предыдущего боя, в деревне, словно бы он и ее водил за собой на привязи. Он запрокинул голову к луне и завыл. Ответом ему был общий вой. Оборотни приветствовали его. Он был вожак. Ибо среди волков и людей он был волком в облике человека.
– Вот видишь, как просто, – сказала Дейна.
– Куда уж проще, – пробормотал отец Лиутпранд.
Когда она подошла к нему после панихиды по убитым, он ее не узнал. После встречи в лесу он был совершенно уверен, что больше никогда ее не увидит. Тогда он не смог ее переубедить, а ее решение представлялось ему самоубийственным. Принести в жертву жизнь, честь, веру, достоинство – при мысли об этом тошнота подкатывала к горлу – ради такой бессмысленной цели, как месть… И теперь отец Лиутпранд был так потрясен, что забыл о кощунстве, каковое являл собою ее приход на кладбище.
Волчью шкуру, перевязь с мечом и сапоги она где-то спрятала и теперь была только в рубахе и штанах, вооруженная своим старым посохом. От постоянного ношения шлема волосы ее, очень коротко обрезанные, свалялись и приобрели тусклый оттенок пакли. Теперь никто бы не выделил ее среди деревенских жителей. Никто и не выделил.
– До меня доходят новые слухи, все более страшные. И ты утверждаешь, что сумела исполнить свой замысел?






