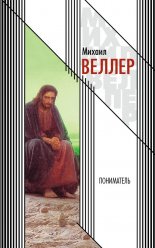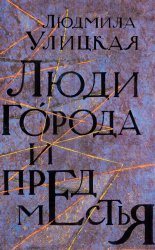Полное собрание рассказов Набоков Владимир
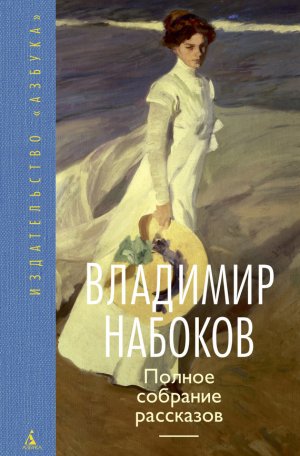
Я женился, кажется, через месяц после твоего отъезда из Франции и за несколько недель до того, как милые немцы с ревом ворвались в Париж. Хоть я и мог бы представить документальные доказательства нашего брака, я теперь совершенно убежден в том, что никакой жены у меня не было. Ее имя тебе может быть известно из другого источника, но это не имеет значения: это имя галлюцинации. А посему я могу говорить о ней столь же безучастно, как говорил бы о герое разсказа (точнее, одного из твоих разсказов).
Это была любовь скорее с первого прикосновения, чем взгляда, потому что я встречал ее несколько раз и прежде, ничего особенного при этом не испытывая; но как-то вечером я провожал ее домой, и она сказала что-то романтическое, отчего я со смехом нагнулся и легонько поцеловал ее волосы, — и кому из нас не знакома эта ослепительная вспышка, когда ничего не подозревающий солдат подбирает с пола куклу в доме, который нашпиговали взрывчаткой, прежде чем его покинуть: он ничего не слышит; для него это всего лишь восторженное, беззвучное и безграничное распространение того, что прежде было точкой света в темном центре его бытия. Да и то сказать, мы думаем о смерти в райских терминах оттого, что видимая твердь, особенно ночью (над нашим затемненным Парижем с сухопарыми арками бульвара Эксельманс и безпрестанным альпийским журчаньем безлюдных писсуаров), кажется самым точным и вечно присутствующим символом этого огромного беззвучного взрыва.
Но разглядеть ее я не могу. Она остается такой же смутной, как и лучшее мое стихотворение — то самое, которое ты так язвительно высмеял в «Литературных Записках». Когда хочу вообразить себе ее, я принужден мысленно держаться за маленькое родимое пятнышко на ее шелковистом предплечье, как, быает, сосредоточиваешься на знаке препинания в неразборчиво написанной фразе. Быть может, если б она щедрее или чаще красила лицо, я мог бы сегодня возстановить его в памяти, или пусть только тонкие поперечные бороздки на сухих, жгуче-накрашенных губах; но нет, всё не то, не выходит — хоть я еще иногда и ощущаю их уклончивое прикосновение, как бы в жмурки играющее с моими чувствами в одном из тех щемящих снов, в которых она и я неуклюже хватаемся друг за дружку в душераздирающем тумане, и не могу разглядеть цвета ее глаз из-за пустого блеска подкатывающих слез, в которых тонут райки.
Она была гораздо моложе меня — разница в летах была не такой, как у смуглолицего Пушкина и Натальи Николавны, с ее прелестными обнаженными плечами и длинными серьгами; но все-таки этой разницы было довольно для такого рода ретроспективной романтики, которая находит удовольствие в подражании судьбе неповторимого гения (вплоть до ревности, вплоть до грязи, вплоть до острой ножевой боли, когда перехватишь взгляд ее миндалевидных глаз, брошенный на ее белокурого Кассио поверх павлиньего веера), даже если стихам его подражать не можешь. Мои ей, впрочем, нравились, и она вряд ли стала бы зевать, как это имела обыкновение делать та, другая, в тех случаях, когда стихи ее мужа бывали длиннее сонета[93]. Ежели она осталась для меня привидением, то ведь и я, может быть, был для нее тем же: думаю, что ее привлекала разве что непонятность моих стихов; потом она проделала дыру в их покрове и увидала в прорехе чужое, нелюбимое лицо.
Как ты знаешь, я давно собирался последовать примеру твоего удачного побега. Она описала мне своего дядю, который, по ее словам, жил в Нью-Йорке: сначала он давал уроки верховой езды в каком-то южном учебном заведении, а потом женился на богатой американке; у них была маленькая дочь, глухая от рождения. Она сказала, что давно потеряла их адрес, но несколько дней спустя он чудесным образом отыскался, и мы написали ему драматическое письмо, на которое никакого ответа не воспоследовало. Впрочем, это не имело большого значения, потому что у меня уже было солидное поручительство от чикагского профессора Ломченко; но к началу оккупации очень мало еще было сделано для получения нужных бумаг, а между тем я предвидел, что если мы останемся в Париже, то какой-нибудь услужливый соотечественник рано или поздно укажет заинтересованным лицам некоторые места в одной из моих книг, где я утверждаю, что, несмотря на множество своих черных грехов, Германия всегда будет посмешищем для всего мира.
Итак, мы пустились в наше злосчастное свадебное путешествие. Мы бежали: в давке и толчее апокалиптического исхода; в ожидании поездов вне расписанья, шедших по неизвестному назначению; пешком проходя через затасканные декорации абстрактных городов; живя в вечных сумерках физического изнеможения, — мы бежали, и чем дальше мы бежали, тем становилось яснее, что то, что гнало нас, было крупнее тупицы в сапожищах и портупее с ассортиментом всякой со свистом летающей дребедени, — нечто, чего он сам был только обозначением, нечто чудовищное и неосязаемое, безвременное и безформенное уплотнение незапамятного ужаса, который все еще наваливается на меня сзади даже здесь, в зеленом вакууме Центрального парка.
О, она-то переносила все это весьма мужественно, с какой-то ошеломленной бодростью. Но однажды она ни с того ни с сего расплакалась в участливом железнодорожном вагоне: «Собака, говорила она, собака, которую мы оставили. Не могу забыть бедной собаки». Искренность ее горя поразила меня, так как у нас никогда не было никакой собаки. «Я знаю, сказала она, но когда я представила себе, что мы все-таки купили того сеттера, то… — только подумай, он бы скулил теперь за запертой дверью». Никогда и речи не было о покупке сеттера.
Не забыть бы еще ту часть пути, где мы видели семью беженцев (две женщины с ребенком), у которых в дороге умер не то старик-отец, не то дед. На небе безпорядочно громоздились облака черного и телесного цвета, с безобразным ореолом света, брызнувшего из-за холма, накрытого тенью точно куколем, а мертвец лежал на спине под пыльным платаном. Палкой и руками женщины попытались было вырыть у дороги могилу, но земля была слишком неподатлива; они бросили копать и теперь сидели рядышком, среди худосочных маков, чуть в стороне от тела с торчавшей кверху бородой. А мальчик все царапал да скреб землю, ковырял, покуда не вывернул плоский камушек, и тогда забыл о мрачной цели своих трудов и, сидя на корточках (причем его тонкая выразительная шея выставляла напоказ палачу все свои позвонки), с удивлением и удовольствием глядел на тысячи крошечных коричневых мурашек, кишевших, сновавших туда-сюда, разбегавшихся, направлявшихся в безопасные места в департаменты Гар, и Од, и Дром, и Вар, и в Нижние Пиринеи, — мы же приостановились только в По.
В Испанию было не пробраться, и мы решили двинуться в Ниццу. В городишке, именуемом Фожер (десятиминутная остановка), я с трудом протиснулся из вагона, чтобы прикупить провизии. Когда через несколько минут я вернулся, поезд уже ушел, и безтолковый старик, повинный в той жуткой пустоте, которая предо мною открылась (угольная пыль, блестевшая на солнцепеке меж равнодушных голых рельс, да одинокая апельсинная корка), грубо заявил мне, что я, во всяком случае, не имел права выходить из вагона.
В лучшем мире я мог бы устроить так, чтобы жену мою разыскали и сообщили ей, что делать (оба билета и большая часть денег были у меня); а тут моя бредовая борьба с телефоном ни к чему не привела, так что я, разом оборвав нить карликовых голосов, тявкавших на меня издалека, послал две или три телеграммы, которые, должно быть, теперь только отправлены, и поздно вечером сел на первый местный поезд в Монпелье, дальше которого ее поезду тащиться не полагалось. Не найдя ее там, я должен был выбрать один из двух возможных вариантов: продолжать путь, потому что она могла сесть на марсельский поезд, на который я не успел, или ехать обратно, так как она могла вернуться в Фожер. Не помню теперь, какой запутанный клубок разсуждений привел меня в Марсель и Ниццу.
От полиции никакого проку не было, если не считать автоматической разсылки неверных сведений в несколько малообещающих мест; один полицейский чин накричал на меня за то, что надоедаю по пустякам; другой увел вопрос в сторону, подвергнув сомнению подлинность моего брачного свидетельства из-за того, что штемпель, по его мнению, был поставлен не с той стороны; третий, толстый commissaire с маслянистыми карими глазками, признался, что в свободное время тоже пописывает стишки. Я обошел разных знакомых среди множества русских, живших или застрявших в Ницце. Те, у кого была еврейская кровь, говорили о своих обреченных родных, битком набитых в поезда адского следования, и когда я сидел в людном кафе, глядя на млечно-голубое море, а позади приглушенно-гулкий, как из морской раковины, рокот без конца разсказывал и пересказывал повесть о зверствах и бедствиях, о сером заморском рае, о повадках и прихотях безсердечных консулов, — то в сравнении с этим мое несчастье приобретало вид какой-то нереальной обыденщины.
Через неделю после моего приезда ко мне зашел довольно вялый сыщик и провел меня по кривой и вонючей улице к вымазанному сажей дому с вывеской «Отель», полустертой от грязи и времени; там, по его словам, отыскалась моя жена. Предъявленная мне особа оказалась, разумеется, совершенно мне незнакомой, но мой Шерлок Хольмс в продолжение некоторого времени всё пытался заставить нас сознаться в том, что мы женаты, между тем как ее молчаливый и мускулистый сожитель стоял тут же и слушал, скрестив голые руки на тельняшке.
Когда я наконец избавился от всей этой публики и добрался до своего квартала, мне случилось пройти мимо плотной очереди, ожидавшей открытия съестной лавки; и там, в самом конце ее, стояла моя жена, на цыпочках силившаяся разглядеть, чем, собственно, там торгуют. Кажется, первое, что она мне сказала, было, что она надеется, что продают апельсины.
Ее разсказ показался мне слегка туманным, но вполне банальным. Она вернулась в Фожер и пошла прямо в полицейский участок, вместо того чтобы справиться на вокзале, где я оставил для нее записку. Какие-то беженцы предложили ей присоединиться к ним; она провела ночь в велосипедном магазине, где не было велосипедов, на полу, вместе с тремя пожилыми женщинами, лежавшими, по ее словам, в ряд, как три бревна. На другой день она сообразила, что ей не хватит денег добраться до Ниццы. Тогда она заняла у одной из этих бревноподобных женщин. Но она ошиблась поездом и заехала в город, названья которого она не могла вспомнить. Приехала в Ниццу два дня тому назад и в русской церкви нашла каких-то знакомых. Те ей сказали, что я где-то поблизости и разыскиваю ее и, конечно, скоро объявлюсь.
Немного позже, когда я сидел на краешке единственного на моем чердаке стула и сжимал ее узкие юные бедра (а она расчесывала свои мягкие волосы, в такт гребню откидывая голову), ее разсеянная улыбка вдруг перешла в странную губную дрожь, и она положила руку мне на плечо, глядя на меня сверху вниз, словно я был отражением в пруду, которое она только теперь заметила.
— Я солгала тебе, мой милый, — сказала она. — Я лгунья. Я провела несколько ночей в Монпелье с одним человеком, грубым скотом, с которым познакомилась в поезде. Я совсем не хотела этого. Он торгует вежеталем.
Время, место, род пытки. Ее веер, перчатки и маска. Я провел эту ночь и множество других, вытягивая из нее все по кусочкам, но всего так и не вытянул. У меня была странная фантазия, что прежде всего я должен выяснить каждую подробность, возстановить каждую минуту и тогда только решить, могу я это пережить или нет. Но предел нужного знания был недостижим, да и как я мог даже приблизительно представить себе ту черту, за которой я мог бы считать себя удовлетворенным, когда знаменатель каждой дроби узнанного потенциально был, разумеется, столь же безконечен, что и количество интервалов меж этими дробями.
Ах, в первый раз она была так измучена, что всё ей было всё равно, а в следующий ей было всё равно, потому что была уверена, что я ее бросил, и она, по-видимому, думала, что ее объяснения должны были быть каким-то утешительным призом для меня, а не вздором и пыткой, как оно было на самом деле. И так все это тянулось целую вечность, причем она время от времени не выдерживала, но скоро опять овладевала собой и отвечала на мои непечатные вопросы шепотом, затаив дыхание, или норовила с жалостной улыбкой улизнуть в относительно безопасную область не идущих к делу комментариев, а я все надавливал на обезумевший коренной зуб до тех пор, пока челюсть едва не разрывалась от муки, огненной муки, которая казалась все же лучше тупой, ноющей боли терпеливого смирения.
И заметь, что в перерывах этого дознания мы пытались добыть у неуступчивых властей нужные документы, которые в свою очередь позволили бы подать законным порядком формальное прошение на получение бумаг третьего рода, а те дали бы их обладателю право обратиться еще за другими бумагами, которые могли бы дать, а могли бы и не дать ему возможность узнать, как и почему это случилось. Ведь если бы я даже и мог вообразить эту проклятую, все повторявшуюся сцену, мне никак не удавалось связать ее остроугольные гротескные тени со смутными очертаниями конечностей моей жены, когда она сотрясалась и содрогалась и таяла в моих яростных объятьях.
И вот ничего больше не оставалось, как терзать друг друга, часами торчать в префектуре, заполнять формуляры, совещаться с друзьями, уже изследовавшими внутренности всевозможных виз, препираться с секретарями, снова заполнять формуляры, в результате чего ее похотливый и изобретательный коммивояжер омерзительным образом смешался с крысоусыми рычащими чиновниками, с полуистлевшими связками устаревших ведомостей, с вонью лиловых чернил, со взятками, подсовываемыми под гангренозные клякспапиры, с жирными мухами, щекочущими потные шеи быстрыми, холодными, точно войлоком подбитыми лапками, с только что вылупившимися топорными, вогнутыми фотографиями шести ваших человекообразных двойников, с трагическими глазами и терпеливой учтивостью просителей родом из Слуцка, Стародуба или Бобруйска, с раструбами и дыбами инквизиции, с ужасной улыбкой лысого человечка в очках, которому сказали, что его паспорт утерян.
Признаюсь, однажды вечером, после особенно гнусного дня, я опустился на каменную скамью, рыдая и проклиная шутовской мир, в котором холодные и влажные руки консулов и полицейских чинов жонглируют миллионами жизней. Я заметил, что и она плакала, и сказал, что все это, в сущности, не имело бы такого значения, какое имеет теперь, если бы она не сделала того, что сделала.
— Можешь думать, что я сошла с ума, — сказала она с возбуждением, которое на миг чуть не сделало ее настоящей, — только ничего этого не было, ничего, клянусь тебе. Может быть, я одновременно живу несколькими жизнями. Может быть, я хотела испытать тебя. Может быть, эта скамья мне снится, а на самом деле мы живем в Саратове или на какой-нибудь звезде.
Было бы утомительно разбирать различные стадии, через которые я прошел, покуда не принял наконец первоначальное объяснение ее отсутствия. Я не разговаривал с нею и много времени проводил один. Она, бывало, блеснет и погаснет, и появится опять с каким-нибудь пустяком, который, как ей казалось, должен был мне понравиться, — то с фунтиком вишен, то с тремя драгоценными папиросами, и тому подобное, — обращаясь со мной с невозмутимой немногословной приветливостью сестры милосердия, которая навещает угрюмого выздоравливающего больного. Я перестал ходить к большинству общих наших знакомых, потому что они потеряли всякий интерес к моим паспортным делам и, казалось, начали обнаруживать легкую неприязнь. Я сочинил несколько стихотворений. Я выпивал столько вина, сколько мог раздобыть. Потом был день, когда я прижал ее как-то к своей застонавшей груди, и мы уехали на неделю в Кабуль, где лежали на круглой розовой гальке узенького пляжа. Как это ни странно, чем счастливей казались наши новые отношения, тем сильнее я чувствовал подводную струю острой грусти, но я все уговаривал себя, что это неотъемлемая черта всякого подлинного счастья.
Между тем что-то там переместилось в изменчивом узоре наших судеб, и я наконец вышел из какой-то мрачной и душной канцелярии с двумя пухлыми visas de sortie[94], трепетно неся их обеими руками, как драгоценный сосуд. В них была надлежащим образом впрыснута сыворотка США, и я помчался в Марсель, где мне удалось достать билеты на ближайший же пароход. Я вернулся и протопал к себе наверх. Увидел розу в стакане на столе — сахаристую розовость ее очевидной красоты, пузырьки воздуха, прилепившиеся, как паразиты к стеблю. Оба ее платья исчезли, исчез гребень, исчезло клетчатое пальто вместе с лиловой лентой и лиловым же бантом, служившими ей шляпой. Не было приколото записки к подушке, ничего вообще не было в комнате, что могло бы служить мне каким-то объяснениемъ, ибо роза была, конечно, только une cheville[95], как говорят французские рифмачи.
Я пошел к Веретенниковым, которые ничего не могли мне сообщить; к Гельманам, которые отказались разговаривать со мной; к Елагиным, которые не знали, сказать мне или нет. Наконец, старуха Елагина — а ты знаешь, какой Анна Владимировна может быть в критические минуты, — велела подать себе свою палку с резиновым наконечником, тяжело, но с живостью поднялась всем своим грузным телом со своего любимого кресла и повела меня в сад. Там она мне сообщила, что, будучи вдвое старше меня, она имеет право сказать мне, что я деспот и мужлан.
Ты только представь себе эту сцену: крохотный, гравием посыпанный садик с синим кувшином из «Тысячи и одной ночи» и одиноким кипарисом; растрескавшаяся терраса, где, бывало, любил дремать с пледом на коленях ее отец, когда вышел в отставку со своего новгородского губернаторства, чтобы провести несколько последних вечеров в Ницце: бледнозеленое небо; в сгущающихся сумерках чуть веет ванилью; цикады издают свою металлическую трель на две октавы выше среднего до; и Анна Владимировна, у которой складки кожи на щеках свисают и трясутся, когда она бросает в меня оскорбления хоть и по-матерински, но совершенно незаслуженно.
В продолжение последних нескольких недель, дорогой мой В., всякий раз, что она без меня посещала те три или четыре семейства, с которыми мы оба были знакомы, моя призрачная жена наполняла сочувственно отверстые уши всех этих добрых людей необычайным разсказом. Именно: что она безумно влюблена в молодого француза, который мог бы предложить ей замок с башнями и имя с гербом; что она умоляла меня дать ей развод, но я отказал; что я даже сказал ей, что скорее застрелю и ее и себя, чем отправлюсь в Нью-Йорк один; что она сказала, что ее отец в сходных обстоятельствах поступил как поступает благородный человек; что я отвечал, что мне плевать на ее cocu de рre[96].
Было еще множество нелепых подробностей в том же роде — но они были замечательно подобраны, и не удивительно, что старуха Елагина заставила меня поклясться, что я не стану преследовать любовников с заряженным пистолетом. Они уехали, сказала она, в шато в Лозере. Я спросил, видела ли она этого человека хоть раз. Нет, но ей была показана его фотография. Я уже собрался уходить, когда Анна Владимировна, которая отошла было и даже дала мне поцеловать свои пять пальцев, вдруг снова вспыхнула, стукнула палкой по гравию и сказала своим сильным грудным голосом: «Но чего я вам никогда не прощу, так это ее собаки, бедного пса, которого вы своими руками повесили перед отъездом из Парижа».
Превратился ли этот «благородный господин» в коммивояжера, или произошла обратная метаморфоза, или, может быть, он был ни то, ни другое, а просто какой-нибудь неудобосказуемый русский эмигрант, волочившийся за ней еще прежде того, как мы поженились, — все это было совершенно несущественно. Она ушла. Стало быть, конец. Было бы полным безумием сызнова, как в кошмарном сне, приниматься за розыски и ждать ее.
На четвертое утро долгого и унылого морского путешествия я встретил на палубе церемонного, но симпатичного пожилого доктора, с которым игрывал в шахматы в Париже. Он спросил меня, как моя жена переносит качку. Я отвечал, что еду один; он был явно огорошен и сказал, что видел ее дня за два до отплытия, в Марселе, где она, как ему показалось, довольно безцельно бродила по набережной. Она сказала, что я вот-вот приеду с багажом и билетами.
Здесь-то, я думаю, и лежит разгадка всей повести — хотя если ты напишешь ее, пожалуй, не делай его доктором, потому что это уж очень заезжено. В ту минуту мне стало ясно, что ее вообще никогда не было. И я тебе еще вот что скажу. Как только я добрался до места, то поспешил удовлетворить какое-то свое болезненное любопытство и отправился по адресу, который она мне однажды дала: он оказался адресом безымянного проема меж двух конторских зданий. Я поискал фамилью ее дядюшки в телефонной книге; ее там не было; я навел кой-какие справки, и Гекко, который знает всех, сказал мне, что и человек этот, и его лошадница-жена и впрямь существуют, но что после смерти своей глухой дочери они давным-давно переехали в Сан-Франциско.
Разсматривая прошлое в образах, вижу наш исковерканный роман на дне глубокого, туманом наполненного ущелья меж двух прозаических скальных утесов: жизнь некогда была настоящей, будет настоящей и впредь, надеюсь. Не завтра, однако. Может быть, послезавтра. Ты, счастливый смертный, с чудесной семьей (как Инесса? что близнецы?) и разносторонними трудами (как поживают твои лишайники?), ты вряд ли сможешь разобраться в моей беде в смысле человеческих отношений, но, может быть, сквозь призму твоего искусства что-нибудь для меня да прояснится.
Но какая все-таки жалость. К чорту твое искусство, я ужасно нещастлив. Она все бродит да бродит взад и вперед, там где бурые сети растянуты для просушки на горячих каменных плитах и крапчатый отблеск воды играет на боку зашвартованной рыбацкой лодки. Я допустил, неизвестно где и как, какую-то роковую ошибку. В бурых ячейках невода там и сям поблескивают белесые пластинки обломанной рыбьей чешуи. Если не буду осторожен, все это может кончиться в Алеппо. Пощади меня, В., ведь ты бросишь на весы гирьку непереносимого предуказания, если поставишь это слово в заглавие.
Забытый поэт
В тысяча восемьсот девяносто девятом году, в солидном, удобном, словно фланелью подбитом тогдашнем Петербурге известная культурная организация, Общество ревнителей русской словесности, решила устроить торжественное чествование памяти поэта Константина Перова, умершего за полвека перед тем в пылком двадцатичетырехлетнем возрасте. Его называли русским Рембо, и хотя французский юноша был подаровитей, такое сопоставленье не лишено основания. Восемнадцати лет сочинил он замечательные «Грузинские ночи» — длинную, раскованную «поэму-сон», иные пассажи которой прорываются сквозь покров шаблонного восточного колорита, и тогда веет райским холодком, который вдруг обнаруживает чувствилище истинной поэзии между лопатками читателя.
Спустя три года появилась книга его стихотворений: он тогда увлекся каким-то немецким философом, и иные стихи этого периода производят удручающее впечатление, ибо в них он пытается сочетать, с карикатурным результатом, настоящую лирическую судорогу с метафизическим объяснением мироздания; прочие же и теперь не менее ярки и необычны, чем в те дни, когда странный этот юноша вывихивал суставы русского словаря и свертывал шею общепринятым эпитетам, чтобы заставить поэзию захлебываться и вопить, а не чирикать. Большинству читателей нравились более всего те его стихи, где идея равноправия, столь характерная для пятидесятых годов, выразилась в восторженной буре темного красноречия, которое, по словам одного критика, «не столько указывает вам врага, сколько вызывает непреодолимое желание борьбы». Что до меня, то я предпочитаю его более прозрачную и в то же время более шероховатую лирику, например «Цыганку» или «Нетопыря».
Перов был сын мелкого помещика, о котором известно только, что он пытался завести чайную плантацию в своем Лужском имении. В юности Константин (если заимствовать интонацию биографа) проводил большую часть времени в Петербурге, кое-как посещая университет, потом кое-как подыскивая себе канцелярскую должность, — в сущности, об его деятельности известно очень мало, если не считать заурядных сведений, которые легко вывести из быта людей его круга. Отрывок из письма Некрасова, который случайно увидел его в книжной лавке, рисует образ угрюмого, неуравновешенного, «неуклюжего и сурового» молодого человека «с глазами ребенка и плечами ломового извозчика».
Упомянут он также в одном полицейском донесении: «негромко разговаривал с двумя другими студентами» в кофейне на Невском. Говорят, его сестра, бывшая замужем за рижским купцом, укоряла поэта за его увлечения белошвейками и прачками. Осенью 1849 года он навестил отца специально затем, чтобы просить у него денег на путешествие в Испанию. Отец его, человек простой и несдержанный, дал ему оплеуху, а спустя несколько дней бедняга утонул в местной речке. Его одежду и недоеденное яблоко нашли под березой, но тела так никогда и не обнаружили.
Слава его едва теплилась: отрывок из «Грузинских ночей» (всегда один и тот же) во всех антологиях; пламенная статья Добролюбова в 1859 году, восхваляющая революционные намеки в самых слабых его стихах; ходячее в восьмидесятых годах мнение, будто атмосфера реакции душила и в конце концов погубила отличный, хотя и несколько косноязычный талант, — вот, пожалуй, и всё.
В девяностые годы, с появлением более здорового интереса к поэзии, который, как это иногда случается, совпал с устойчивой и скучной политической эрой, стихи Перова начали было открывать заново, при том же либерально настроенные люди были непрочь следовать за указкой Добролюбова. Успех подписки на сооружение памятника в одном из городских парков превзошел ожидания. Известный издатель собрал по крохам все доступные материалы для биографии Перова и напечатал полное собрание его сочинений в одном довольно увесистом томе. Журналы посвятили ему несколько ученых статей. Вечер его памяти в одной из лучшх столичных зал привлек массу народа.
За несколько минут до начала, когда участники еще сидели в комитетской комнате за сценой, дверь распахнулась настежь и вошел крепкого вида старик во фраке, знававшем лучшие времена на его или на чужих плечах. Не обращая ни малейшего внимания на уговоры двух добровольных распорядителей из студентов с нарукавными повязками, пытавшихся задержать его, он с безупречным достоинством направился к членам комитета, поклонился и сказал: «Я — Перов».
Один мой приятель, который вдвое меня старше, последний живой свидетель происшествия, передает, что председатель (который, будучи редактором газеты, имел большой опыт по части навязчивых посетителей) сказал, не поднимая головы: «Выставьте его вон». Этого никто не сделал — возможно, оттого, что принято соблюдать некоторую учтивость в отношении пожилого, хотя и весьма пьяного, надо было полагать, человека. Он же сел за стол и, обращаясь к выглядевшему безобиднее других Славскому, переводчику Лонгфелло, Гейне и Сюлли-Прюдома (а позднее члену террористической организации), деловито осведомился, внесены ли уже «деньги на памятник», и ежели внесены, то когда он мог бы их получить.
Все отчеты согласно подчеркивают, с каким необычайным спокойствием предъявил он свое требование. Он ничуть не напирал. Он высказал его так, будто совершенно не допускал мысли, что ему могут не поверить. Более всего поражало, что в самом начале этого престранного происшествия, в этой отдельной комнате, среди всех этих почтенных людей, какой-то человек с бородою патриарха, с выцветшими карими глазами и носом картошкой, ровным голосом разспрашивал о доходах от сборов, не затрудняясь предъявить даже такие доказательства, какие мог бы подделать обыкновенный самозванец.
— Вы родственник ему, что ли? — спросил кто-то.
— Я Константин Константинович Перов, — терпеливо сказал старик. — Меня известили, что в зале находится кто-то из моей родни, однако к делу это нейдет.
— Вам сколько лет? — спросил Славский.
— Мне семьдесят четыре года, — отвечал он, — притом я жертва нескольких неурожаев кряду.
— Вам, вероятно, небезызвестно, — заметил актер Ермаков, — что поэт, чью память мы сегодня чествуем, утонул в Оредежи ровно пятьдесят лет тому назад.
— Вздор, — возразил старик. — Я разыграл эту комедию, имея на то свои причины.
— Ну а теперь, любезный, — сказал председатель, — вам надлежит удалиться.
Они забыли о его существовании и стайкой вышли на ярко освещенную сцену, где другой длинный стол, покрытый торжественным красным сукном, с нужным числом стульев позади, уже некоторое время приковывал к себе внимание публики бликом непременного в таких случаях графина. Слева от него был выставлен портрет маслом, взятый на вечер из Шереметевской картинной галлереи: на нем был изображен двадцатидвухлетний Перов, смуглый молодой человек с романтической прической, в рубашке с открытым воротом. Треножник был целомудренно задрапирован листьями и цветами. Кафедра, с другим графином, возвышалась впереди, а за сценой дожидался своего часа рояль, который должны были позже выкатить для музыкальной части программы.
Зала была битком набита литераторами, просвещенными адвокатами, педагогами, учеными, восторженными студентами обоих полов и проч. Несколько скромных агентов тайной полиции, посланных присутствовать на вечере, расположились в неприметных местах в зале, ибо правительство знало по опыту, что самые благонамеренные культурные собрания обладают странным свойством превращаться в оргии революционной пропаганды. Уже тот факт, что одно из ранних стихотворений Перова содержало скрытый, но одобрительный намек на бунт 1825 года, указывал на необходимость соблюдения некоторых предосторожностей: кто же поручится, к чему может привести публичное чтение таких, например, строк:
- Сибирских пихт угрюмый шорох
- С подземной сносится рудой.
Как говорится в одном отчете, «скоро воцарилось смутное предчувствие скандала в духе Достоевского (автор имеет в виду знаменитую балаганную главу из Бесов) и возникло ощущение какой-то неловкости и безпокойного ожидания». Причиной тому было то обстоятельство, что пожилой господин умышленно вышел на эстраду вслед за семью членами юбилейной комиссии и сделал попытку усесться вместе с ними за стол. Председатель, более всего желая избежать потасовки прямо на глазах у публики, как мог старался уговорить его перестать. Под прикрытием вежливой улыбки, он шепнул старцу, что велит вывести его из залы, ежели он не выпустит спинки стула, которую Славский с непринужденным видом, но стальной хваткой незаметно старался вырвать из его узловатой руки. Старик не уступал, но стула не удержал и таким образом остался без места. Он огляделся, заметил рояльный табурет за сценой и хладнокровно выволок его на эстраду, на долю секунды опередив руку невидимого служителя, который попытался втащить его назад. Он уселся на некотором разстоянии от стола и тотчас сделался предметом всеобщего внимания.
Тут члены комитета совершили роковую ошибку, опять решив игнорировать его: им, повторяю, очень хотелось избежать скандала; к тому же куст голубой гортензии рядом с мольбертом наполовину скрывал этого пренеприятного субъекта от их взоров. Но у публики старик, к несчастью, оказался на полном виду, когда опустился на свой неподобающий пьедестал (поминутным скрипом напоминавший о своих вращательных способностях), раскрыл футляр для очков и, по-рыбьи округлив губы, подышал на стекла, совершенно невозмутимый и спокойный, своей почтенной головой, поношенной черной фрачной парой и прюнелевыми штиблетами напоминая одновременно нуждающегося профессора и преуспевающего гробовщика.
Председатель направился к кафедре и начал вступительное слово. По зале носился шепот, ибо людям, естественно, хотелось знать, кто этот старик. Крепко посадив очки на нос и положив руки на колени, он покосился на портрет, потом отвернулся и оглядел первый ряд. Ответные взоры невольно переходили с блестящего купола его головы на курчавую голову портрета, потому что, покуда председатель произносил длинную речь, подробности вторжения старца распространились, и воображение иных из присутствующих уже лелеяло мысль, что поэт, принадлежавший к чуть ли не баснословной эпохе, прочно поселенный в ней хрестоматиями, существо анахроническое, живое ископаемое в неводе невежественного рыбака, какой-то Рип ван Винкель[97], — и в самом деле на старости лет явился в этом своем сером воплощении в собрание, посвященное славе его юных дней.
— …так пусть же имя Перова, — говорил председатель, заканчивая речь, — никогда не будет предано забвению мыслящей Россией. Тютчев сказал, что «сердце России не забудет» Пушкина как первую любовь. О Перове можно сказать, что он был первым российским опытом свободы. Поверхностному наблюдателю может показаться, что свобода эта сводится к феноменальному изобилию поэтических образов Перова, которое по достоинству оценит скорее художник, чем гражданин. Но мы, представители более трезвого поколения, мы склонны раскрывать для себя более глубокий, более насущный, более человечный и более общественно-значительный смысл в таких его строках, как
- Когда последний снег в тени таится,
- В апреле, под кладбищенской стеной,
- И отливает синим и лоснится
- На быстром солнце круп кобылы вороной
- Соседа моего, и столько луж, похожих
- На чаши с небом, в чернокожих
- Руках земли, — тогда, в худой шинели,
- Моя душа проходит по панели,
- Чтоб посетить слепых, и нищих, и глупцов,
- И тех, кто спину гнет для круглых животов,
- Чье зренье похоть ли, забота ль притупила, —
- Ни дыр в снегу, ни кубовой кобылы,
- Ни луж сих дивных не заметить им…
Раздался гром аплодисментов, как вдруг хлопанье оборвалось, а затем прокатились разрозненные раскаты смеха: дело в том, что в то время как председатель, еще дрожа от только что произнесенных им слов, вернулся к столу, бородатый незнакомец поднялся и, в ответ на аплодисменты, несколько раз угловато покивал и неловко помахал рукой, выражая вместе формальную признательность и некоторое нетерпение. Славский и двое распорядителей сделали отчаянную попытку стащить его со сцены, но из глубины залы стали кричать «Позор, позор!» и «Оставьте старика!».
В одном из попавшихся мне на глаза изложений этой истории высказывалось предположение, что среди публики у него имелись сообщники, но я думаю, что массовое сочувствие, возникающее столь же неожиданно, как и массовое озлобление, вполне удовлетворительно объясняет оборот, который начало принимать дело. Несмотря на то что старику приходилось отбиваться от трех человек, он ухитрялся сохранять достоинство, и когда его не слишком решительные противники ретировались и он снова завладел рояльным табуретом, опрокинутым во время схватки, по зале прошел гул одобрения. Однако, как это ни прискорбно, общий настрой собрания безнадежно пошатнулся. Тем из присутствующих, кто был помоложе и побуйней, такое развитие событий начало нравиться чрезвычайно. Председатель, раздувая ноздри, налил себе стакан воды. Из двух углов залы осторожно переглядывались два агента сыскной полиции.
За речью председателя следовал отчет казначея о суммах, полученных от различных учреждений и частных лиц на сооружение памятника Перову в одном из загородных парков. Старик не спеша достал клочок бумаги и огрызок карандаша и, приладив бумагу на колене, принялся отмечать цифры по мере того, как они произносились. Затем на сцене ненадолго появилась внучка сестры Перова. Этот номер программы доставил организаторам много хлопот, ибо эта толстая, лупоглазая, восковой бледности молодая женщина лечилась от меланхолии в заведении для душевнобольных. В жалком розовом платье, с трагически перекошенным ртом, она была наскоро представлена публике и потом передана обратно в крепкие руки дородной женщины, которую заведение к ней приставило.
Когда Ермаков, в те годы любимец театралов и, так сказать, драматическая разновидность оперного beau tenor[98], начал читать сливочно-шоколадным голосом монолог Князя из «Грузинских ночей», стало ясно, что даже его преданнейших поклонников реакция старика занимала больше, чем красота исполнения. Когда дошло до строчек:
- Коль правда, что металл не знает тленья,
- То, значит, где-нибудь должна лежать
- Та пуговица, что мне в день рожденья,
- В семь лет случилось в парке потерять.
- Сыщите мне ее — тогда она
- Залогом будет, что вот так любая
- Душа отыщется, не погибая,
- Сохранна, сочтена, и спасена, —
его самообладание впервые дало течь, и он медленно развернул большой платок и с кряком высморкался, так что густо подведенный, алмазно-яркий глаз Ермакова закосил, как у пугливого коня.
Платок проследовал обратно в недра сюртука, и лишь несколько мгновений спустя сидевшим в первом ряду стало видно, что из-под очков у него текут слезы. Он не пытался отереть их, хотя раз или два его рука с растопыренными пальцами поднималась-было к очкам, но тут же опускалась обратно, точно он боялся таким жестом (что и было жемчужиной всего изощренного спектакля) привлечь к своим слезам внимание. Громовые рукоплескания по окончании чтения были, несомненно, скорее данью старику за его игру, чем Ермакову за декламацию поэмы. Затем, едва аплодисменты стихли, он встал и подошел к краю сцены.
Члены комитета не пытались остановить его, и тому имелись две причины. Во-первых, председатель, возмущенный до крайности вызывающим поведением старика, удалился на минуту, чтобы сделать кое-какие рапоряжения. Во-вторых, странные сомнения начали тревожить и некоторых организаторов; так что когда старец облокотился о пюпитр, в зале воцарилась полнейшая тишина.
— И это слава, — сказал он таким глухим голосом, что из задних рядов раздались крики: «Громче, громче!»
— Я говорю, и это-то слава! — повторил он, сумрачно оглядывая публику поверх очков. — Десятка два ветреных стишков, жонглированье трескучими словесами, и имя твое поминают, точно ты и впрямь принес человечеству какую-то пользу! Нет, господа, не надо себя обманывать. Империя наша и трон Государя-батюшки стоят как стояли в своей непоколебимой мощи, аки гром оцепенелый, а сбившийся с пути юноша, кропавший бунтарские стишки тому назад полвека, — ныне законопослушный старец, пользующийся уважением честных сограждан. Старец, прибавлю, который нуждается в вашем вспомоществовании. Я жертва стихий: земля, которую я возделывал в поте лица своего, агнцы, коих я своими руками вскормил, пшеница, махавшая мне златыми дланями…
И только тут двое дюжих городовых быстро и безболезненно выдворили старика. В публике успели только заметить, что, когда его тащили, его манишка торчала в одну сторону, борода в другую, одна манжета болталась на запястье, но в глазах его сохранялась всё та же степенность и то же достоинство.
В репортаже о чествовании главные газеты лишь мельком упоминали о «достойном сожаления инциденте», омрачившем его. Но бульварная «Петербургская газета» — лубочный, черносотенный листок, издававшийся братьями Херстовыми[99] для мещанских низов и для полуграмотной, блаженной в своем неведении прослойки рабочего люда, разразился вереницей статей, утверждавших, что «достойный сожаления инцидент» был ничто иное как возвращение из небытия настоящего Перова.
Между тем старика подобрал купец Громов, очень богатый самодур и чудак, дом которого был полон бродячих монахов, шарлатанов-лекарей и «погромистиков». «Газета» напечатала несколько интервью с самозванцем. В них он бранил на чем свет стоит «лакеев революционной партии», обманом лишивших его собственного имени и присвоивших его деньги. Он намеревался взыскать законным порядком эти деньги с издателей полного собрания сочинений Перова. Один вечно пьяный литературовед, приживальщик Громова, указал на (к сожалению, довольно разительное) сходство между наружностью старика и портретом.
Появилась обстоятельная, но весьма малоправдоподобная версия самоубийства, инсценированного им для того, чтобы жить по-христиански на лоне Святой Руси. Кем он только не был — разносчиком, птицеловом, паромщиком на Волге, пока наконец не обзавелся небольшим наделом земли в отдаленной губернии. Мне попался экземпляр довольно мерзкой на вид книжонки, «Смерть и воскресение Константина Перова», которой торговали на улице дрожащие от холода нищие, вместе с «Похождениями Маркиза де Сада» и «Мемуарами амазонки».
Однако лучшей моей находкой, добытой среди старых бумаг, была захватанная фотография бородатого самозванца на мраморе неоконченного памятника Перову, в обезлиствевшем парке. Он на ней стоит очень прямо, скрестив на груди руки, в круглой меховой шапке и новых галошах, но без пальто; у его ног сгрудилось несколько сочувствующих, и их маленькие белые лица смотрят в объектив с тем особым, опупелым, самодовольным выражением, какое бывает у самосудной толпы американских погромщиков на старых фотографиях.
В этой атмосфере цветущего хулиганства и черносотенной пошлости (столь тесно связанной в России с идеей правления, независимо от того, прозывается ли самодержец Николаем, Александром, или Иосифом) интеллигенции трудно было примириться с катастрофическим совмещением образа чистого, пылкого, революционно-настроенного Перова, каким он предстает в своей поэзии, с вульгарным стариком в грубо размалеванном хлеву. Трагично было то, что, в то время как ни Громов, ни братья Херстовы сами вовсе не верили, что человек, служивший им источником забавы, и в самом деле был Перов, многие честные и культурные люди не могли отвязаться от невыносимой мысли, что они отвергли Правду и Справедливость.
Как сказано в недавно опубликованном письме Славского к Короленке, «дрожь берет при мысли, что безпримерный в истории дар судьбы — воскрешение большого поэта прошлого, как некоего Лазаря, — может быть неблагодарно отринут — мало того, сочтен за злостный обман со стороны человека, вся вина которого заключается в том, что он полстолетия молчал, а потом несколько минут нес околесицу». Слог витиеват, но смысл ясен: российская интеллигенция не столько боялась оказаться жертвой обмана, сколько взять на себя ответственность за ужасную ошибку. Но было тут и другое, чего она боялась еще больше: разрушения идеала, ибо радикал готов смести все на свете, но только не банального болванчика (каким бы сомнительным и пыльным он ни был), которого радикализм почему-нибудь поставил на пьедестал для поклонения.
Передавали, что на тайном заседании Общества ревнителей русской словесности многочисленные бранные письма, безпрерывно посылавшиеся стариком, тщательно сличались экспертами с одним очень старым письмом, которое поэт написал в юности. Оно было обнаружено в некоем частном архиве, считалось единственным образцом руки Перова, и никто кроме ученых, изследовавших выцветшие чернила этого письма, не ведал о его существовании — как, впрочем, и мы не ведаем теперь, к какому же они пришли заключению.
Ходили, кроме того, слухи, что была собрана некоторая сумма, которую предложили старику в тайне от его непрезентабельных приверженцев. По-видимому, ему предложили выплачивать солидную помесячную пенсию, с условием, что он тотчас вернется на свою мызу и будет жить там в приличествующем ему молчании и забвении. По-видимому, предложение это было принято, так как исчез он столь же внезапно, что и объявился, а Громов между тем возместил потерю своей забавы, поселив у себя подозрительного гипнотизера французского происхождения, который года через два стал пользоваться некоторым успехом при дворе.
Памятник был своим чередом открыт и приобрел большую популярность у местных голубей. Спрос на собрание сочинений, как и следовало ожидать, сошел на нет посредине четвертого издания. Наконец, спустя несколько лет, старейший, хотя, возможно, и не самый умственно-одаренный житель уезда, где Перов родился, разсказал сотруднице одного журнала, что припоминает, как отец говорил ему, что нашел скелет в камышевых зарослях местной речки.
На этом можно было бы и кончить, кабы не пришла революция, вывернувшая пласты тучной земли вместе с белесыми корешками разнотравья и жирными лиловыми червями, которые в других обстоятельствах остались бы погребенными. Когда в начале двадцатых годов в мрачном, голодном, но болезненно-деятельном городе размножились разные диковинные культурные учреждения (например, книжные лавки, где знаменитые, но обнищавшие писатели продавали собственные книги, и проч.), кто-то обеспечил себе двухмесячное пропитанье, устроив Перовский музейчик, и эта затея привела к еще одному воскрешению.
А экспонаты? Все налицо, кроме одного (письма). Подержанное прошлое в убогом помещении. Миндалевидные глаза и каштановые локоны на драгоценном Шереметевском портрете (с трещиной в области открытого ворота, как бы от неудавшегося обезглавливанья); потрепанный томик «Грузинских ночей», будто бы принадлежавший Некрасову; плохо вышедшая фотография сельской школы, построенной на том месте, где некогда стояли дом и сад в имении отца поэта. Старая перчатка, забытая каким-то посетителем музея. Несколько изданий сочинений Перова, разложенных так, чтобы занять собою как можно больше места.
И так как все эти жалкие реликвии отказывались составить одну счастливую семью, пришлось добавить несколько предметов эпохи, например халат, который известный радикальный критик носил в своем вычурном кабинете, и кандалы, которые он же носил в сибирском своем остроге. Но так как ни эти убогие вещи, ни портреты разных литераторов того времени все-таки не были достаточно объемисты, то посреди унылой этой комнаты установили модель первого железнодорожного поезда, пущенного в России (в сороковых годах, между Петербургом и Царским Селом).
Старик, которому уже перевалило далеко за девяносто, но который не лишился еще дара речи и держался более или менее прямо, водил вас по музею, словно он был там гостеприимный хозяин, а не сторож. Было странное ощущение, что вот сейчас он пригласит вас в другую (несуществующую) комнату, где будет подан ужин. В действительности же ему принадлежали только печка за ширмой да лавка, на которой он спал; но если вы покупали одну из книг, выставленных на продажу у входа, то он вам ее надписывал, словно это само собою подразумевалось.
И однажды утром женщина, приносившая ему еду, нашла его на лавке мертвым. В музее некоторое время жило три сварливых семейства, и вскоре от его экспонатов ничего не осталось. И как будто чья-то огромная рука вырвала с хрустом кипу страниц из множества книг, или будто какой-то легкомысленный сочинитель засунул в сосуд истины эльфа фантазии, или будто…
Впрочем, это несущественно. Так или иначе, в продолжение последующих двадцати с чем-то лет Россия утратила всякую связь с поэзией Перова. Молодые советские граждане столь же мало знают о его произведениях, что и о моих. Без сомненья, наступит время, когда его вновь откроют и опять будут им зачитываться; а все же нельзя отделаться от ощущения, что люди тем временем много теряют. Хотелось бы тоже знать, к какому выводу придут будущие историки насчет старика и его необычайной претензии. Но это, разумеется, вопрос второстепенной важности.
Быль и убыль[100]
В первые цветоносные дни выздоровления после тяжкой болезни (с которой, как полагали все, и прежде всего сам больной, девяностолетнему организму уже не справиться) мои добрые друзья Норман и Нура Стон уговаривали меня повременить еще с возвращением к научной деятельности и заняться на досуге чем-нибудь безвредным, вроде звездословиц или солитэра.
Первое исключается совершенно, потому что охотиться за именем азиатского города или названием испанского романа в чащобе перетасованных слогов на последней странице вечернего сборника новостей (занятие, которому моя младшая правнучка предается с рвением необычайным) по мне гораздо утомительней манипуляций с животными тканями. О солитэре же можно подумать, особенно если и сам расположен к интеллектуальной его разновидности; разве раскладывание собственных воспоминаний не того же рода игра, где в праздной ретроспективе сам себе раздаешь события и переживания?
Передают, будто Артур Фриман сказал о мемуаристах, что это люди, у которых не довольно воображения, чтобы сочинять романы, и недостает памяти, чтобы писать правду. Мне придется плавать в тех же сумерках самовыражения. Мне, подобно другим старикам, открылось, что все недавнее докучает своей расплывчатостью, между тем как в конце туннеля видишь и цвет, и свет. Ясно вижу очертания каждого месяца 1944-го или 1945 года, но когда наугад выбираю 1997-й или 2012-й, времена года смазываются до неразличимости. Никак не могу вспомнить имени почтенного ученого, разбранившего мою недавнюю статью, — впрочем, забыл я и те наименования, которыми его наградили мои не менее почтенные сторонники. Не могу сказать с уверенностью, в каком году Эмбриологическая секция Рейкьявикского общества любителей природы выбрала меня своим почетным членом или когда именно Американская академия наук присудила мне самую свою знаменитую премию. (Помню, однако, какое острое удовольствие доставили мне оба эти отличия.) Так человек, глядящий в огромный телескоп, не видит перистых облачков первоначальной осени над своим зачарованным садом, но зато видит (как дважды случалось наблюдать моему коллеге, ныне, увы, покойному профессору Александру Иванченке) роение гесперозои в сырой долине Венеры.
Конечно, «безчисленные смутные картинки», завещанные нам тусклыми, плоскими, до странного печальными фотографиями прошлого века, преувеличивают впечатление нереальности, которое век этот производит на тех, кто его не помнит; и однако люди, населявшие мир в мои детские годы, кажутся нынешнему поколению более отдаленными, чем им самим казался век девятнадцатый. Они все еще по пояс увязали в напускной стыдливости и предразсудках. Они цеплялись за традиции, как лоза за мертвое дерево. Они ели за большими столами, вокруг которых располагались в принужденных сидячих позах на твердых деревянных стульях. Одежда состояла из нескольких компонентов, причем каждый хранил на себе измельчавшие и безполезные следы какой-нибудь устаревшей моды (в продолжение утреннего ритуала облачения городскому жителю приходилось просовывать не меньше трех десятков пуговиц в такое же количество петель, а потом еще завязывать три узла и проверять содержимое пятнадцати карманов).
Они в письмах обращались к совершенно незнакомым людям с формулою, смысл которой — поскольку слова вообще имеют смысл — может быть передан как «милосердный господин», и предваряли теоретически безсмертную подпись невнятицей, выражавшей идиотскую преданность человеку, самое существование которого было для пищущего абсолютно безразлично. Они обладали атавистической склонностью оделять общество качествами и правами, в которых они отказывали отдельному человеку. Они увлекались экономикой с почти тою же страстью, с какой их праотцы увлекались богословствованием. Они были поверхностны, безпечны и близоруки. В отличие от других поколений им свойственно было не замечать выдающихся людей, предоставив честь открытия их классиков нам (тот же Ричард Синатра был при жизни безыменным «лесничим», предававшимся мечтаниям под какой-нибудь теллуридской сосной или читавшим свои изумительные стихи белкам Сан-Изабельского леса, в то время как все знали другого Синатру, второстепенного писателя, тоже восточного происхождения).
Элементарные аллобиотические явления приводили их так называемых спиритов к глупейшим трансцендентальным допущениям и заставляли так называемый здравый смысл столь же глупо и невежественно пожимать плечами в косую сажень. Наши обозначения времени показались бы им «телефонными» номерами. Они то так, то этак забавлялись электричеством, не имея ни малейшего понятия о том, что это такое, — и не мудрено, что случайное открытие его настоящей природы явилось чудовищной неожиданностью (я в то время был уже взрослый человек и отлично помню, как старый профессор Эндрюс плакал навзрыд в толпе изумленных людей на дворе университета).
Но несмотря на все смешные обычаи и осложнения, которыми был опутан мир моей молодости, это был доблестный и крепкий мирок, переносивший напасти с сухим юмором и способный невозмутимо отправиться на далекое поле брани, чтобы одолеть варварскую пошлость Гитлера или Аламилло. И если бы я дал себе волю, то взволнованная память нашла бы в минувшем много и яркого, и доброго, и романтического, и прекрасного — и горе тогда веку нынешнему, ибо никто не знает, на что еще способен полный сил старик, если засучит рукава. Но будет об этом. История не моя область, так что лучше мне обратиться к личным воспоминаниям, не то мне могут заметить, как говорит г-ну Саскачеванову обаятельнейшая героиня современного романа (что подтверждает и моя правнучка, которая читает больше моего), «всяк сверчок знай свой шесток» — и не вторгайся в законные владения разных там «слепней и стрекузнечиков».
Я родился в Париже. Мать моя умерла, когда я был еще младенцем, и оттого она вспоминается мне лишь неясным пятном восхитительного лакримозного тепла по ту сторону портретной памяти. Отец был учитель музыки и сам сочинял (до сих пор берегу старинную программку, где его имя стоит рядом с именем великого русского музыканта); он дал мне университетское образование и умер от какого-то загадочного заболевания крови во время южно-американской войны.
Мне шел седьмой год, когда мы с ним, да еще бабушка, добрее которой не доставалось ни одному ребенку, уехали из Европы, где вырождающийся народ подвергал неописуемым гонениям расу, которой я принадлежал. Никогда не видывал я апельсина больше того, что мне дала одна женщина в Португалии. Две пушечки на корме парохода были нацелены на зловеще распаханный кильватер. С важным видом кувыркалась ватага дельфинов. Бабушка читала мне разсказ о русалке, которая обрела ноги. Любознательный ветерок тоже участвовал в чтении и шумно переворачивал страницы, желая узнать, что же будет дальше. Вот, собственно, и все, что мне запомнилось из этого плаванья.
По прибытии в Нью-Йорк путешественников в пространстве точно так же поражали старомодные «небоскребы», как удивили бы они странствующих во времени; название неточное, потому что их отношения с небом, особенно на неземном склоне оранжерейного дня, не только не подразумевали никакого скреба и скрежета, но были несказанно изящны и безмятежны: моим детским глазам, глядевшим на раздолье парка, украшавшего в те годы центр города, они представлялись далекими, сиреневыми и до странного водянистыми, когда их первые осторожные огни мешались с красками заката и с какой-то мечтательной прямотой обнаруживали пульсирующие недра своего полупрозрачного корпуса.
Негритята тихо сидели на искусственных валунах. На стволах деревьев были прибиты дощечки с их двойными латинскими именами, а шофферы приземистых, пестрых, жукообразных таксомоторов (они таксономически соединяются у меня в памяти с теми, тоже пестрыми, автоматами, на музыкальный запор которых вставленная монетка действовала как безотказное слабительное) прикрепляли к спине свои засаленные фотографические портреты; ведь мы жили в эпоху Опознавания и Классификации, понимали личность человека или вещи, только если она имела имя или прозвание, и не верили в существование чего-бы то ни было безымянного.
В недавней и все еще ходкой пьеске о причудливой Америке «Стремительных Сороковых» годов особенным ореолом окружена роль Продавца Шипучей Воды, но его бакенбарды и крахмальная манишка нелепо анахроничны, да и не было в мое время этого непрерывного, неистового верчения на высоких грибовидных табуретах, которым злоупотребляют исполнители. Мы вкушали свои скромные смеси (через соломинки, которые на самом деле были куда короче тех, какими пользуются на сцене) с видом угрюмой алчности. Помню нехитрую прелесть и мелкую поэзию ритуала: обильную пену, образовывавшуюся над затонувшим комом мороженых синтетических сливок, и коричневую слякоть «молочношоколадного» сиропа, которым поливали его макушку. Латунь и стекло поверхностей, стерильные отражения электрических ламп, стрекот и переливчатое мрение пропеллера, посаженного в клетку, плакат из серии «Мировая война», на котором изображался Дядюшка Сэм[101] со своими усталыми и синими, как у Рузвельта, глазами, или девица в нарядном мундире, с гипертрофированной нижней губой (эта выпуклость губ, этот надутый ротик-капкан, были преходящей модой женского обаяния с 1939 до 1950 года), и незабываемая тональность какофонии дорожного шума, доносящегося с улицы, — эти вот образы и мелодические фигуры, рациональное изучение которых только время может предпринять, почему-то связывали понятие «молочный бар» с миром, где люди терзали металл, и он им за это мстил.
Я ходил в нью-йоркскую школу; потом мы переехали в Бостон; а потом опять переехали. Мы, казалось, переезжали безпрерывно — и одни дома были невзрачнее других; но каким бы маленьким ни был город, я знал наверное, что найду там место, где латают велосипедные шины, место, где торгуют мороженым, и место, где показывают кинематографические фильмы.
Эхо, кажется, добывали, рыская по горным стремнинам; затем его подвергали обработке особенным составом на меду и резине, покуда его сгущенный говор не совпадал на лунно-матовом экране в бархатно-темном зале с движениями губ на череде последовательных фотографий. Ударом кулака человек сбивает своего ближнего с ног, и тот падает на башню, составленную из ящиков. Немыслимо гладкокожая девушка поднимает выщипанную в нитку бровь. Дверь захлопывается с тем плохо подогнанным стуком, какой доносится с дальнего берега реки, где трудятся дровосеки.
Я до того стар, что еще помню пассажирские поезда; в младенчестве я любил их со страстью, в отрочестве же я обратился к улучшенным изданиям скорости. Они и теперь еще, бывает, тяжело проходят через мои сны, со своими утомленными окнами и пригашенными огнями. Их колер мог бы сойти за цвет спелого разстояния, за цвет сплава вереницы покоренных верст, когда б его сливовый отлив не поддался действию угольной пыли и не сделался под-стать стенам цехов и трущоб, которые предшествовали городу с тою же неизбежностью, с какой грамматическое правило и клякса предшествуют приобретению общепринятого знания. Карликовые бумажные колпачки, запас которых имелся в конце вагона, податливо-вяло принимали в себя (передавая пальцам насквозь просвечивающий хлад) тонкую, как в гроте, струю из послушного фонтанчика, который, если надавить, отводил голову назад.
Старцы, напоминавшие убеленных паромщиков из еще более древних сказок, то и дело нараспев выкликали свои «следущстанции» и проверяли билеты у пассажиров, между которыми, если ехать достаточно долго, непременно попадалось много раскинувшихся, до смерти уставших солдат, и кто-нибудь из них, живой и пьяный, витиевато без умолку болтал и только бледностью выдавал свои близкие отношения со смертью. Он всегда появлялся в одиночку, но всегда там был, молодой уродец, глиняный Голем, в разгар периода, бойко именуемого Гамильтоновым в иных новейших хрестоматиях по истории — в честь посредственного ученого, в угоду тупицам придумавшего этот период.
Мой отец, человек блестящего, но непрактичного ума, отчего-то никак не мог приноровиться к академическим порядкам настолько, чтобы удержаться на одном каком-нибудь месте надолго. Я мысленно вижу их все, но один университетский городок представляется мне особенно живо: нет нужды называть его, довольно сказать лишь, что в разстоянии трех палисадников от нас, в густо-зеленом переулке, стоял дом, сделавшийся теперь национальной Меккой. Помню затопленные солнцем садовые кресла под яблоней, и ярко-медного сеттера, и толстого веснущатого мальчика с книгой на коленях, и очень кстати подвернувшееся яблоко, которое я подобрал в тени у плетня.
Сомневаюсь, чтобы туристы, посещающие теперь место рождения этого величайшего человека своего времени и глазеющие на мебель соответствующей эпохи, смущенно сгрудившуюся за плюшевыми канатами бережно лелеемого безсмертия, могли ощутить нечто похожее на это гордое осязание прошлого, которым я обязан случайному происшествию. Ибо что бы ни случилось и сколько бы библиографических карточек ни заполнили названиями моих печатных трудов библиотекари, я буду известен потомству как человек, однажды запустивший яблоком в Баррета.
Тем, кто родился после потрясающих открытий семидесятых годов и, значит, не видал ничего из разряда летательных снарядов, кроме разве воздушного змея или игрушечных надувных шаров (все еще, кажется, разрешенных в некоторых штатах, несмотря на недавние статьи д-ра де Саттона на эту тему), нелегко представить себе аэропланы, особенно оттого, что старые фотографические изображения этих чудесных машин в полете лишены жизни, которую только искусство и могло бы им сохранить, — но, как это ни странно, ни один великий художник ни разу не сделал их своим исключительным предметом, не впрыснул в них своего гения, чтобы этим уберечь их облик от распада.
Вероятно, я старомоден в своем отношении ко многим сторонам жизни, которые выходят за пределы занимающей меня отрасли науки, и возможно, что моя личность, личность человека очень старого, должна казаться раздвоенной, как маленькие европейские города, одна половина которых во Франции, а другая в России. Я это сознаю и потому продвигаюсь с осторожностью. Я совсем не намерен возбуждать тоску и нездоровое сожаление по поводу летательных аппаратов, но в то же время не могу подавить романтического отголоска, неотделимого в моем ощущении от симфонической совокупности прошлого.
В те далекие дни, когда любая точка на планете была не более чем в шестидесяти часах полета с местного аэродрома, мальчик знал аэропланы от обтекателя винта до рулевого триммера и мог различать их разновидности не только по оконечности крыла или по выступающему колпаку кабины, но даже по рисунку выхлопного пламени в темноте, соперничая в распознавании типов с классификаторами после-Линнеевской эры, этими одержимыми разведчиками-натуралистами. Чертеж разреза крыла и конструкции фюзеляжа обдавал его творческим восторгом, и модели, которые он сооружал из бальзы, сосны и конторских скрепок, доставляли такое все нараставшее наслаждение процессом работы, что ее итог казался в сравнении чуть ли не пресным, как будто дух вещи отлетал, как только она обретала законченную форму.
Научное достижение, художественное постижение — пары эти держатся врозь, но когда их сводит вместе, нет на свете ничего важнее. А потому я удаляюсь на цыпочках, покидая свое детство в самую характерную для него минуту, в самой пластичной его позе: привлеченный низким гуденьем, дрожащим и набирающим силу над головой, стою как вкопанный, позабыв о присмиревшем велосипеде между ногами (одна на педали, другая носком касается асфальтированной земли), глазами, подбородком и ребрами стремясь ввысь, к голому небу, где военный аэроплан идет с неземною скоростью, которую скрадывает только огромность среды его обитания, между тем как фронтальный вид сменяется тыльным и крылья и рокот растворяются в дали. Восхитительные чудища, огромные летательные машины, они прошли, исчезли, как стая лебедей, с мощным многокрылым свистом пронесшаяся как-то весенней ночью над Рыцарским озером в Мэйне, из неведомого в неведомое: лебеди неизвестного науке вида, никогда не виданные ни прежде, ни после, — и потом на небе не осталось ничего, кроме одинокой звезды, астериском отсылавшей к ненаходимому примечанию.
Жанровая картина, 1945 г.
У меня есть один малопочтенный тезка, с тем же именем и той же фамильей, человек, которого сам я в глаза не видел, но пошлую особу которого я мог вывести из его случайных вторжений в замок моей жизни. Путаница эта началась в Праге, где мне случилось жить в середине двадцатых годов. Я получил там письмо из прокатной библиотечки, состоявшей, по-видимому, при какой-то белогвардейской организации, которая, как и я сам, покинула в свое время Россию. Письмо в раздраженном тоне требовало, чтобы я незамедлительно возвратил экземпляр «Протоколов Сионских мудрецов». Книжка эта (которая в былое время удостоилась серьезного внимания императора) была подложным меморандумом, сочиненным полуграмотным проходимцем по заказу тайной полиции; ее единственной целью было подстрекательство к погромам. Библиотекарь, подписавшийся Синепузовым, уверял, что я держу этот, по его выражению, «популярный и ценный труд» уже больше года. Он указывал на предыдущие напоминания, посланные мне в Белград, Берлин и Брюссель, куда, очевидно, заносило моего однофамильца.
Я представлял себе этого субъекта молодым, очень белым эмигрантом безусловно черносотенной разновидности, образование которого было прервано революцией, и вот он теперь наверстывал упущенное на проторенных путях. Он, видимо, много скитался; я тоже, — и на том наше сходство и кончается. Одна русская дама в Страсбурге спросила меня, не приходится ли мне братом некто женившийся на ее племяннице в Льеже. Как-то раз весной, в Ницце, в мою гостиницу зашла девушка с безстрастным лицом и длинными серьгами, сказала, что хочет меня повидать, а увидев, тотчас извинилась и ушла. В Париже я получил телеграмму, в которой нервно сообщалось: «Ne viens pas Alphonse de retour souponne sois prudent je t’adore angoisse»[102], и, признаюсь, я испытал род мрачного удовольствия, вообразив, как мой повеса-двойник неотвратимо врывается в комнату с букетом цветов и застает там Альфонса с женой. Несколько лет спустя в Цюрихе, где я читал лекции, меня ни с того ни с сего задержала полиция по обвинению в том, что я будто бы расколотил три зеркала в ресторане — прямо триптих какой-то, на котором изображен мой тезка сначала пьяным (зеркало первое), потом очень пьяным (второе) и, наконец, буйно пьяным (третье). Кончилось тем, что в 1938 году французский консул нагло отказался поставить печать на моем потрепанном, зеленоватом нансеновском паспорте, потому что я, дескать, уже однажды въехал в страну без разрешения. В пухлом досье, которое было затем извлечено, я успел подсмотреть физиономию своего однофамильца. Этот прохвост носил коротко постриженные усы и волосы бобриком.
Когда вскоре после того я перебрался в Соединенные Штаты и осел в Бостоне, я был уверен, что мне удалось отделаться от этой нелепой тени. Затем — а именно, в прошлом месяце — у меня позвонил телефон. Громкий, яркий женский голос назвался г-жой Сивиллой Галль, близкой приятельницей г-жи Шарп, которая в письме просила ее связаться со мной. Я был знаком с одной г-жой Шарп, и мне не пришло в голову, что речь могла идти о какой-то другой Шарп и что меня самого принимают за кого-то другого. Медоточивая г-жа Галль сказала, что у нее на квартире собирается небольшая компания в пятницу вечером — так не могу ли я придти, — судя по тому, что она обо мне слышала, дискуссия будет мне чрезвычайно интересна. Хоть я и не терплю никаких сходок, я решил принять приглашение, вообразив, что отказом могу как-нибудь огорчить г-жу Шарп, милую, коротко стриженую, пожилую даму в буро-малиновых штанах, с которой я познакомился на Кейп-Коде, где она жила на даче с какой-то женщиной помоложе; обе дамы были посредственными художницами левого направления и независимых средств, вполне любезные.
Вследствие неприятности, не имеющей отношения к предмету настоящего повествования, я явился к дому, где жила г-жа Галль, значительно позже, чем предполагал. Очень древний лифтер, удивительно похожий на Рихарда Вагнера, угрюмо отвез меня наверх, и неулыбчивая горничная мадам Галль, у которой длинные руки свисали по бокам, ждала, покуда я сниму пальто и галоши в передней. Главным украшением тут была одна из тех орнаментальных и, должно быть, чрезвычайно древних китайских ваз — в данном случае, высокая, тошного цвета махина — которые неизменно приводят меня в ужасно подавленное расположение духа.
Проходя через претенциозную комнатку, набитую символами того, что сочинители коммерческих реклам называют «аттрибутами элегантного быта», и будучи ведом — теоретически, ибо горничная испарилась, — в большую, мягко освещенную, буржуазную гостиную, я начал понимать, что в таких именно местах вас могут познакомить с каким-нибудь старым хрычем, едавшим икорку в Кремле, или с лубяным советским гражданином, и что моя приятельница г-жа Шарп, всегда почему-то пенявшая мне за мое презрение к Партийной Линии и к Коммунисту, который проходит как хозяин, пожалуй, решила, бедняжка, что такое испытание благотворно скажется на моей кощунственной душе.
Хозяйка дома — оказавшаяся долголягой, плоскогрудой женщиной, с краской от губной помады на выпирающих резцах — отделилась от группы человек в двенадцать. Она наскоро представила меня почетному гостю и остальным ее гостям, и беседа, прерванная моим приходом, тотчас возобновилась. Почетный гость отвечал на вопросы. Это был хрупкого сложения человек с гладкозачесанными темными волосами и лоснившимся лбом, и лампа на высоком стебле у его плеча освещала его так ярко, что можно было разглядеть чешуйки перхоти на отвороте его смокинга и любоваться белизной его сцепленных рук, одна из которых была невероятно вялой и влажной, в чем мне пришлось убедиться. У людей этого рода слабый подбородок, впалые щеки и несчастливое адамово яблоко обнаруживают сложное сочетание розовых пятен, покрытых изсиня-серой штриховкой, уже через два часа после бритья, когда сотрется непритязательная пудра. Он носил перстень с печаткой, и мне не знаю отчего вспомнилась одна смуглолицая русская девушка в Нью-Йорке, которая так боялась, что ее могут по недоразумению принять за то, что у нее соответствовало понятию «еврейки», что она носила крест на горле, хотя имела столь же мало религиозного чувства, сколь и ума. Он говорил по-английски удивительно свободно, но его тевтонское происхождение выдавали твердое произношение «джер» в слове «Германия» и то и дело повторявшийся эпитет «wonderful», первый слог которого у него звучал как «вон»[103]. Он был, не то прежде, не то теперь или, может быть, собирался стать, профессором немецкого языка или музыки, или того и другого, где-то на Среднем Западе, но я не разслышал его имени и поэтому буду звать его д-ром Туфелем.
— Разумеется, он сумасшедший! — воскликнул д-р Туфель, отвечая на какой-то вопрос, заданный кем-то из дам. — Посудите сами, ведь только умалишенный мог загнать войну в такую трясину. Я, как и вы, очень надеюсь, что в недалеком будущем, если только он окажется в живых, его благополучно препроводят в санаторию в какой-нибудь нейтральной стране. Он это заслужил. Безумием было нападать на Россию, вместо того чтобы оккупировать Англию. Безумием было думать, что война с Японией не позволит Рузвельту энергично вмешаться в европейские дела. Всего безумней тот, кто не способен понять, что кто-то другой тоже может оказаться сумасшедшим.
— Невозможно отделаться от ощущения, — сказала толстая маленькая дама, которую звали, кажется, г-жа Мулбери, — что тысячи наших молодых людей, которые погибли на Тихом океане, остались бы в живых, если бы все эти аэропланы и танки, которые мы отдали Англии и России, были брошены на уничтожение Японии.
— Совершенно верно, — сказал д-р Туфель. — И в этом была ошибка Адольфа Гитлера. Надо быть безумцем, чтобы не принять в расчет коварных интриг безответственных политиков. Надо быть безумцем, чтобы верить в то, что другие правительства будут действовать в соответствии с принципами милосердия и здравого смысла.
— Я всегда думаю о Прометее, — сказала г-жа Галль, — о Прометее, который украл огонь и был ослеплен разгневанными богами.
Пожилая дама в ярко-синем платье, вязавшая в углу, попросила д-ра Туфеля объяснить, почему немцы не возстали против Гитлера.
Д-р Туфель на минуту прикрыл веки.
— Мой ответ ужаснет вас, — сказал он с усилием. — Как вам известно, я сам немец, чистокровный баварец, хотя и законопослушный гражданин этой страны. И тем не менее я сейчас скажу нечто совершенно ужасное о своих бывших соотечественниках. Немцы (его глаза с мягкими ресницами снова полуприкрылись), немцы — мечтатели.
К этому времени я уже, конечно, понимал, что г-жа Шарп, приятельница г-жи Галль, так же разительно отличается от моей г-жи Шарп, как сам я от своего однофамильца. Бредовый кошмар, в который меня занесло, наверное, показался бы ему уютным вечерком в компании родственных душ, а д-р Туфель — умницей и блестящим козёром. Застенчивость не позволяла мне встать и уйти, да еще, может быть, нездоровое любопытство. К тому же, когда я волнуюсь, я начинаю так сильно заикаться, что если бы я попытался сказать д-ру Туфелю, что я о нем думаю, то вышло бы похоже на залпы мотоциклета, не желающего заводиться морозной ночью в теряющей терпение загородной улочке. Я огляделся, чтобы убедиться в том, что люди вокруг меня настоящие, а не куклы из фарса «Грушка и Петрушка».
Из женщин ни одна не была хороша собой; всем было под или за сорок пять. Все, без сомнения, были членами каких-нибудь клубов — библиофилок, бриджа, болтовни — и все они принадлежали к огромному, холодному сестричеству неизбежной смерти. Все они, казалось, были безплодными и ничуть от того не страдали. Может быть, у иных и были дети, но как им удалось произвести их на свет, было теперь забытой тайной; многие нашли замену производительной способности в разнообразных эстетических поползновениях, например в украшении комитетских комнат. Глядя на одну напряженно смотрящую даму с веснущатой шеей, сидевшую рядом, я уже знал, что, слушая в полуха д-ра Туфеля, она, скорее всего, тревожилась о какой-нибудь декоративной детали, имевшей отношение к очередному собранию или патриотическому вечеру, точной природы которого я не мог установить. Зато я знал, как необходимо нужна ей была эта тонкая добавочная подробность. Что-нибудь этакое в середине стола, — думала она. — Такое что-нибудь, от чего все бы ахнули — скажем, огромное-преогромное блюдо с искусственными фруктами. Только, само собою, не из воска фрукты, а что-нибудь такое дивно мрамористое.
Весьма прискорбно, что я не удержал в памяти имен этих женщин, когда меня с ними знакомили. У двух стройных, взаимозаменяемых старых дев, сидевших на твердых стульях, фамильи начинались на «дубль-вэ», а что до прочих, то одну определенно звали мисс Биссинг. Я ясно это разслышал, но позже не мог соединить этого имени ни с одним лицом или похожим на лицо предметом. Кроме д-ра Туфеля и меня, имелся еще один мужчина. Он оказался моим соотечественником, каким-то полковником Маликовым, не то Мельниковым — у г-жи Галль это вышло похоже на «Милвоки». Пока разносили безалкогольные и безцветные напитки, он наклонился ко мне с кожаным скрипучим звуком, как если бы под своей мешковатой синей парой он носил сбрую, и сообщил мне глухим русским шепотом, что когда-то имел честь знавать моего почтенного дядюшку, и я тотчас вообразил его себе багровым, но несъедобным яблоком на фамильном древе моего тезки. К д-ру Туфелю тем временем возвращалось его красноречие, и полковник выпрямился, обнаружив обломанный желтый клык в сходившей на нет улыбке и деликатными жестами давая мне понять, что мы потом вдоволь наговоримся.
— Трагедия Германии, — сказал д-р Туфель, аккуратно складывая бумажную салфетку, которой он вытирал тонкие губы, — это и трагедия цивилизованной Америки. Я выступал во многих женских клубах и других центрах просвещения и везде замечал, как глубоко ненавидят эту европейскую войну (которая теперь, слава Богу, закончилась) утонченные, чувствительные души. Я также обратил внимание на то, с какой радостной готовностью образованные американцы воскрешают в памяти более счастливые времена, заграничные впечатления, незабываемый месяц или еще более незабываемый год, проведенный некогда в стране искусства, музыки, философии и доброй шутки. Им вспоминаются дружеские связи, заведенные там, и время, когда они учились и благоденствовали, обласканные гостеприимством благородного немецкого семейства, и эту исключительную чистоту на всем, и песни на закате погожего дня, и прекрасные маленькие города, и весь этот добрый, романтический мир, который встречал их в Мюнхене или Дрездене.
— Моего Дрездена больше нет, — сказала г-жа Мулбери. — Наши бомбы уничтожили и Дрезден, и все, что он собой олицетворял.
— В данном случае, британские, — мягко сказал д-р Туфель. — Но, разумеется, война есть война, хотя должен сказать, что с трудом могу себе представить, чтобы германские бомбардировщики намеренно выбирали для обстрела священные исторические места в Пенсильвании или Виргинии. Да, война — ужасная вещь. Я бы даже сказал, что она делается почти невыносимо ужасной, когда ее навязывают двум народам, у которых так много общего. Вам это может показаться парадоксом, но разве, когда думаешь о солдатах, убитых в Европе, не говоришь себе, что они по крайней мере избавлены от тех ужасных предчувствий, которыми мы, люди невоенные, должны терзаться молча?
— Мне кажется, это очень верно, — заметила г-жа Галль, медленно кивая.
— А что вы скажете насчет всех этих сообщений? — спросила пожилая дама, занятая вязаньем. — Я имею в виду разсказы о немецких зверствах, которые все время печатают в газетах. Ведь это все, я думаю, большей частью пропаганда?
Д-р Туфель устало улыбнулся.
— Я предвидел этот вопрос, — сказал он не без грустной нотки в голосе. — К сожалению, пропаганда, преувеличения, поддельные фотографии и тому подобное суть орудия современной войны. Меня не удивило бы, если бы оказалось, что немцы тоже выдумали истории о жестокости американских войск по отношению к мирному гражданскому населению. Какой только чепухи не насочиняли о так называемых зверствах немцев в Первую мировую войну — эти чудовищные басни о соблазненных бельгийках и прочая. И что же? Сразу после войны, летом 1920-го, если не ошибаюсь, года, специальная комиссия германских демократов тщательно разследовала все это дело, а мы все знаем, как педантично тщательны и точны бывают немецкие специалисты. И вот, они не нашли даже ничтожных оснований сомневаться в том, что немцы вели себя как солдаты и джентльмены.
Одна из барышень Дубльвэ заметила с иронией, что иностранным корреспондентам ведь нужно же как-то зарабатывать себе на жизнь. Замечание было остроумно. Все оценили ее ироничное и острое замечание.
— С другой стороны, — продолжал д-р Туфель, когда рябь одобрения улеглась, — забудем на минутку о пропаганде и обратимся к скучным фактам. Позвольте мне набросать перед вами небольшую картинку из прошлого, довольно печальную картинку, но, быть может, поучительную. Прошу вас представить себе немецких ребят, гордо вступающих в какой-нибудь покоренный ими польский или русский город. Они поют на марше. Они не знают, что их фюрер сошел с ума; они искренно верят, что несут завоеванному городу надежду и счастье и прекрасный порядок. Они не могли знать, что из-за будущих бредовых заблуждений Адольфа Гитлера их победа приведет к тому, что враг превратит в полыхающее поле сражения те самые города, которым они, эти немецкие парни, несли, как им казалось, вечный мир. Когда они браво шагали по улицам во всем своем блеске, со своими прекрасными военными орудиями и стягами, они расточали улыбки всем и каждому, ибо они были трогательно простодушны и благожелательны. Они наивно разсчитывали на такое же дружелюбное отношение к себе со стороны населения. Потом они постепенно поняли, что улицы, по которым они так молодцевато, с такой уверенностью маршировали, были запружены по сторонам молчаливыми и неподвижными толпами евреев, глядевших на них с ненавистью и оскорблявших каждого проходившего солдата, — не словами (у них хватало ума этого не делать), а вот этим мрачным взглядом и почти неприкрытой насмешкой.
— Я этот взгляд хорошо знаю, — хмуро сказала г-жа Галль.
— Да, но они-то его не знали, — жалобным тоном сказал д-р Туфель. — Вот в чем дело. Они были озадачены. Они ничего не могли понять, и им было больно. Что же они предприняли? Сначала они пытались бороться с этой ненавистью посредством терпеливых разъяснений и небольших знаков расположения. Но стена окружавшей их ненависти становилась только толще. В конце концов они вынуждены были посадить в тюрьму вожаков этого злобствующего и надменного сообщества. Что же еще оставалось им делать?
— Я случайно знакома с одним старым русским евреем, — сказала г-жа Мулбери. — Просто потому, что он сослуживец моего супруга. И вот он как-то раз признался мне, что с радостью задушил бы своими руками первого попавшегося немецкого солдата. Я была так потрясена, что вот просто остолбенела на месте и не нашлась, что ответить.
— Уж я бы ему ответила, — сказала дородная женщина, которая сидела, широко разставив колени. — Да и вообще, чересчур много говорят о возмездии немцам. Они ведь тоже люди. Всякий чуткий человек согласится с вами, что они не виноваты в этих так называемых злодействах, большая часть которых, наверное, выдумана евреями. Не могу спокойно слышать, как люди продолжают еще разглагольствовать о печах и пыточных камерах, которые, если вообще существовали в действительности, обслуживались горсткой таких же сумасшедших, как Гитлер.
— Боюсь, нам следует набраться терпения, — сказал д-р Туфель со своей невозможной улыбкой, — и принять во внимание особенности богатого семитского воображения, которое держит в подчинении американскую печать. Кроме того, необходимо помнить, что чистоплотным германским солдатам приходилось принимать и сугубо санитарные меры в отношении трупов пожилых людей, умерших в лагере, а в некоторых случаях надо было избавляться от жертв тифозных эпидемий. Сам я совершенно свободен от расовых предразсудков и не понимаю, почему эти вековые расовые проблемы должны влиять на отношение к Германии, да еще теперь, когда она капитулировала. Особенно если вспомнить, как англичане обходятся с туземцами в своих колониях.
— Или как евреи-большевики обходились с русскими — ай-яй-яй! — заметил полковник Мельников.
— Но ведь это все в прошлом, не правда ли? — спросила г-жа Галль.
— Конечно, конечно, — сказал полковник. — Великий русский народ пробудился, и мое отечество снова сделалось великим. У нас было три великих вождя. Был Иван, которого враги прозвали Грозным, потом был Петр Великий, а теперь Иосиф Сталин. Сам я белоэмигрант и служил в императорской гвардии, но я еще и русский патриот и русский христианин. Сегодня в каждом слове, которое исходит из России, чувствуется мощь, чувствуется величие старой матушки-Руси. Она снова стала страной солдат, страной веры, страной истинных славян. И мне известно, что, когда Красная Армия занимала города Германии, ни один волос не упал с немецких плеч.
— Головы, — сказал г-жа Галль.
— Да, — сказал полковник, — ни одной головы не упало с их плеч.
— Мы все восхищаемся вашими соотечественниками, — сказала г-жа Мулбери. — Но что если коммунизм распространится и на Германию?
— Если мне будет позволено высказать свое мнение, — сказал д-р Туфель, — я желал бы заметить, что если мы не будем бдительны, то никакой Германии вообще не будет. Главная задача, которую Америке придется решать, это не допустить, чтобы победители поработили немецкий народ, и запретить им посылать молодых и здоровых, немощных и стариков, — интеллигенцию и гражданских лиц — работать как каторжники на безкрайнем Востоке. Это идет вразрез со всеми демократическими и военными принципами. Если вы скажете на это, что немцы именно так и поступали с покоренными народами, я напомню вам три факта: во-первых, германское государство не было демократическим и, стало быть, от него нельзя было ждать соответствующего поведения; во-вторых, если не все, то большинство так называемых «рабов» пришли по своей доброй воле; в-третьих — и это самое главное — их хорошо кормили, одевали, селили в цивилизованных местах, которые, несмотря на наше естественное восхищение колоссальным количеством населения России и ее географией, немцам нелегко будет обрести в Стране Советов.
— Не следует забывать и того, — продолжал д-р Туфель, драматически возвышая голос, — что нацизм был не немецкой, но чуждой организацией, угнетавшей также и немецкий народ. Адольф Гитлер был австриец, Лей — еврей, Розенберг — полуфранцуз, полутатарин. Германский народ томился под этим иноземным ярмом не меньше, чем другие европейские страны страдали от последствий войны, которая велась на их территории. Мирным жителям — которых не только калечили и убивали, но еще и уничтожали под бомбами их ценное имущество и прекрасные дома, — им все равно, с немецкого или союзнического аэроплана были сброшены эти бомбы. Немцы, австрийцы, итальянцы, румыны, греки и все другие народы Европы стали теперь членами одного трагического братства, но все они уравнены одним несчастьем и одним упованием, ко всем должно относиться одинаково, и предоставим отыскивать и осуждать виновных будущим историкам, непредвзятым старым ученым в безсмертных центрах европейской культуры, в университетской тиши Гейдельберга, Бонна, Йены, Лейпцига, Мюнхена. Пусть феникс Европы снова расправит свои орлиные крылья, и да благословит Господь Америку.
Воцарилась почтительная пауза, во время которой д-р Туфель трепетной рукой зажег папиросу, вслед за чем г-жа Галль, прелестным девическим жестом соединив ладони, стала умолять его завершить вечер какой-нибудь приятной музыкальной пьесой. Он вздохнул, поднялся, мимоходом наступил мне на ногу, виноватым жестом дотронулся кончиками пальцев до моего колена и, сев за рояль, повесил голову и несколько секунд оставался недвижим в полной, даже слышной тишине. Потом он медленно и очень бережно положил папиросу в пепельницу, снял пепельницу с рояля и передал ее в услужливо подставленные руки г-жа Галль и опять наклонил голову. Наконец он сказал несколько прерывающимся голосом:
— Прежде всего я сыграю «Стяг наш звездно-полосатый»[104].
Это уж было выше моих сил — к этому времени мне уже сделалось и физически дурно — я поднялся и поспешно вышел из комнаты. Я уже подходил к стенному шкапу, куда горничная, как мне помнилось, положила мои вещи, когда меня настигла г-жа Галль, а с нею прибой отдаленной музыки.
— Вам непременно нужно идти? — сказала она. — Вы никак не можете остаться?
Я нашел свое пальто, уронил вешалку и с притопом всунул ноги в галоши.
— Вы либо убийцы, либо идиоты, — сказал я, — а может быть, и то и другое, а этот человек — гнусный немецкий агент.
Как я уже докладывал, в критические минуты я подвержен ужасному заиканию, и поэтому моя тирада вышла не такой гладкой, как тут написано. Но она произвела впечатление. Прежде чем она нашлась, что мне ответить, я, с треском захлопнув за собой дверь, уже нес свое пальто вниз по лестнице, как выносят ребенка из загоревшегося дома. Только на улице я заметил, что шляпа, которую я собирался надеть, была не моя.
Это была сильно поношенная фетровая шляпа, более темного серого оттенка и с более узкими полями. Голова, для которой она предназначалась, была меньше моей. Внутри шляпы имелся ярлык с надписью «Братья Вернеры, Чикаго», и оттуда веяло чужой гребенкой и чужим вежеталем. Она не могла принадлежать полковнику Мельникову, лысому, как кегельный шар, а муж г-жи Галль, как мне показалось, или умер, или держал свои шляпы в другом месте. Нести этот предмет было омерзительно, но ночь была дождливая и холодная, и я воспользовался им как своего рода рудиментарным зонтиком. Придя домой, я немедленно сел писать письмо в Департамент внутренних дел, но не слишком преуспел. Мое неумение схватывать и удерживать в памяти имена весьма снижало ценность сообщаемой мной информации, и, так как мне надо было еще объяснить собственное свое присутствие на вечере, то пришлось присовокупить массу многословных околичностей и каких-то подозрительных сведений о моем однофамильце. Хуже всего было то, что, когда я описал всю эту историю в подробностях, она приобрела какой-то бредовый, нелепо-утрированный характер — а между тем я, в сущности, мог всего лишь сказать, что некий господин из неизвестного мне города на Среднем Западе, человек, даже имени которого я не знаю, в одном частном доме сочувственно говорил о германском народе в обществе слабоумных женщин преклонного возраста. Да и почем знать, может быть, во всем этом не было ничего противозаконного, особенно если судить по выражениям точно такой же симпатии, то и дело встречающимся в писаниях иных весьма известных журналистов.
На другой день рано утром я открыл дверь, в которую позвонили, и передо мной оказался д-р Туфель, с непокрытой головой, в макинтоше, молча протягивающий мне мою шляпу с осторожной полуулыбкой на сине-розовом лице. Я взял шляпу и пробормотал нечто благодарственное. Он принял это за приглашение войти. Я забыл, куда я положил его фетровую шляпу, и лихорадочные поиски, которые я принужден был затеять более или менее в его присутствии, скоро стали напоминать водевиль.
— Послушайте, — сказал я, — я вам пошлю, отправлю, препровожу эту шляпу, когда разыщу ее, а если не найду, то пошлю чек.
— Но я уезжаю сегодня вечером, — сказал он ласково. — К тому же я бы желал получить небольшое разъяснение по поводу странного замечания, которое вы сделали моему дражайшему другу мадам Галль.
Он терпеливо ждал, пока я пытался сказать ему как можно разборчивей, что ей все разъяснят власти и полиция.
— Вы находитесь в заблуждении, — сказал он наконец. — Мадам Галль — известная общественная деятельница, у нее множество связей в правительственных сферах. Мы, слава Богу, живем в великой стране, где каждый может говорить, что ему вздумается, не опасаясь оскорбления за высказанное частное мнение.
Я велел ему уходить.
Когда затих последний залп моей захлебывающейся речи, он сказал:
— Я ухожу, но запомните, пожалуйста, что в этой стране… — И он с шутливой укоризной погрозил мне согнутым на немецкий манер пальцем.
Пока я решал, куда бы его ударить, он выскользнул. Меня била дрожь. Моя неловкость, порой забавляющая меня и даже чем-то неуловимо приятная, теперь казалась мне отвратительно низкой. Неожиданно мой взгляд упал на шляпу д-ра Туфеля, лежавшую на кипе старых журналов под телефонным столиком в прихожей. Я бросился к окну, выходившему на улицу, открыл его и, когда д-р Туфель показался четырьмя этажами ниже, швырнул шляпу в его направлении. Она описала параболу и блином шлепнулась посреди улицы. Там она сделала сальто, едва не угодив в лужу, и легла, так сказать, вниз головой. Д-р Туфель, не поднимая головы, помахал рукой, дескать, вижу, признателен, подхватил шляпу, проверил, не слишком ли она выпачкалась, надел ее и удалился, развязно повиливая ляжками. Мне всегда было любопытно, отчего это у худощавого немца всегда такой мясистый тыл, когда он в плаще.
Остается прибавить, что неделю спустя я получил письмо, своеобразный слог которого многое бы потерял в переводе:
«Милостивый Государь, — говорилось в нем, — всю мою жизнь Вы преследуете меня. Близкие друзья, прочитав Ваши книги, отвернулись от меня, думая, будто я и есть автор этих безнравственных, декадентских сочинений. В 1941-м, а потом еще раз в 1943-м, немцы арестовали меня во Франции по обвинению в том, чего я и знать не знал и ведать не ведал. И вот теперь в Америке, не довольствуясь тем, что Вы причинили мне столько неприятностей в других странах, Вы набрались наглости выдать себя за меня и в пьяном виде явиться в дом достопочтенной особы. Я этого так не оставлю. Я мог бы посадить Вас в тюрьму и ославить самозванцем, но, полагая, что Вам это придется не по вкусу, я согласен в виде возмещения за понесенное…»
Требуемая им сумма была весьма и весьма скромной.
Знаки и знамения
В четвертый раз за столько же лет им приходилось решать, что подарить на рождение неизлечимо душевнобольному молодому человеку. Никаких желаний у него не было. Произведения человеческих рук казались ему или ульями, гудевшими зловредной деятельностью, которую он один был способен распознать, или принадлежали к тем грубым удобствам жизни, в которых в его абстрактном мире не было никакой нужды. Перебрав и отбросив одну за другой несколько вещиц, которые могли бы его обидеть или испугать (к примеру, совершенно исключались любые технические новинки), его родители остановились на изящном, безобидном пустяке: корзинке с десятью разными сортами варенья в десяти баночках.
Ко времени его рождения они были уже давно женаты; теперь, спустя двадцать лет, они были уже довольно пожилой парой. Ее тусклые седые волосы были причесаны кое-как. Она носила дешевые черные платья. В отличие от других женщин ее возраста (например, г-жи Соль из соседней квартиры, лицо которой было лилово-розовым от румян, а шляпа напоминала охапку полевых цветов), она выставляла ничем не прикрытую белизну кожи на строгий досмотр весеннего освещения. Муж ее, когда-то довольно преуспевающий коммерсант, теперь полностью зависел от брата Исаака, настоящего американца с сорокалетним стажем. Они редко с ним виделись и между собой звали его «барином».
В ту пятницу все шло неладно. Подземный поезд лишился жизненного тока между двумя станциями, и в продолжение четверти часа слышен был только добросовестный стук собственного сердца да шорох разворачиваемых газет. Автобус, на который им нужно было потом пересесть, заставил себя ждать целую вечность; когда же он наконец пришел, то оказался набитым галдящими школьниками. По коричневой аллее, ведущей к санатории, они шли под проливным дождем. Там им снова пришлось ждать; и вместо их сына, который обыкновенно входил, шаркая, в комнату (его жалкое лицо всё в прыщах, угрюмое, смущенное, плохо выбритое), появилась наконец сестра, которую они знали и которая им не нравилась, и бойко объяснила, что он опять пытался покончить с собой. Теперь, по ее словам, это все позади, но их посещение могло его разстроить. В заведении так явно недоставало служащих и вещи так легко пропадали или попадали не к тому, кому предназначались, что они решили не оставлять подарка в конторе, а привезти его в следующий раз.
Она подождала пока муж раскроет зонтик, и потом взяла его под руку. Как всегда при огорчениях, он все прочищал горло особенным своим гулким кашлем. Они добрались до будки на автобусной остановке на другой стороне улицы, и он закрыл зонтик. В нескольких шагах от них, под раскачивающимся на ветру и стряхивающим капли деревом, безпомощно дергался в луже крохотный полумертвый птенец.
Они долго ехали к станции подземной дороги и за все это время не обменялись ни словом; и всякий раз, что она бросала взгляд на его старческие руки (набухшие вены, кожа в коричневых крапинках), сложенные и подрагивавшие на ручке зонтика, она чувствовала, как неодолимо наворачиваются слезы. Когда она огляделась, пытаясь как-нибудь отвлечься, она испытала род легкого потрясения — смесь сострадания и изумления, увидев, что одна из пассажирок, темноволосая девочка с неряшливыми карминовыми ногтями на ногах, рыдала на плече пожилой женщины. На кого эта женщина была похожа? Она была похожа на Ревекку Борисовну, дочь которой вышла за одного из Соловейчиков — в Минске, давным-давно.
Когда он в прошлый раз пытался это сделать, его метод, по словам доктора, был верхом изобретательности; он бы и достиг своего, когда б завистливый сосед по палате не подумал, что он учится летать, и не помешал ему. На самом же деле он хотел проделать дыру в своем мире и бежать.
Разновидность его умственного разстройства послужила предметом подробной статьи в научном журнале, но они с мужем еще раньше сами ее для себя определили. Герман Бринк назвал ее Mania Referentia, «соотносительная мания». В этих чрезвычайно редких случаях больной воображает, будто все происходящее вокруг него имеет скрытое отношение к его личности и существованию. Живых людей из этого заговора он исключает, ибо считает себя гораздо выше прочих в умственном отношении. Явления же природы следуют за ним пятам как тень. Облака на небе не спускают с него глаз и посредством замедленных знаков передают одно другому невероятно подробные о нем сведения. Его сокровеннейшие мысли обсуждаются по вечерам секретно жестикулирующими деревьями посредством ручной азбуки. Камешки, пятна, солнечные блики образуют узоры, составляющие каким-то страшным образом послания, которые он должен перехватить. Все на свете зашифровано, у всего на свете только о нем и речь. Иные из его соглядатаев, как, например, стеклянные поверхности и пруды стоячей воды, — просто холодные наблюдатели; другие, например пальто в витринах, — предубежденные свидетели, в душе сторонники расправы без суда и следствия; третьи же (проточная вода, грозы), истеричные до потери разсудка, имеют о нем превратное понятие и приписывают его поступкам нелепое значение. Он должен быть постоянно начеку и посвящать всякую минуту и всякую частицу жизни расшифровке флюктуаций предметов. Самый воздух, который он выдыхает, заносится в ведомость и подшивается к его делу. Когда бы только интерес к нему ограничивался его ближайшим окружением — но нет! При удалении потоки диких наговоров становятся громче и многословнее. Силуэты его кровяных шариков, увеличенные в миллионы раз, мелькают над просторами равнин; а еще дальше — огромные горы невыносимой плотности и высоты подводят в понятиях гранита и стонущих елей истинный смысл его бытия.
Когда они выбрались из грохота и спертого подземного воздуха наружу, последние остатки дня уже смешивались с уличными огнями. Она хотела купить рыбы на ужин и потому передала ему корзинку с баночками варенья и сказала, чтобы он шел домой. Он поднялся до третьего этажа и тут только вспомнил, что еще утром отдал ей свои ключи.
Он молча сел на ступеньки и молча встал, когда минут через десять она пришла, с трудом подымаясь по лестнице, слабо улыбаясь, качая головой и коря себя за оплошность. Они вошли в свою двухкомнатную квартирку, и он тотчас же направился к зеркалу. Растянув углы рта большими пальцами, с ужасной маскоподобной гримасой, он вынул свою новую, безнадежно неудобную челюсть, разорвав длинные бивни слюны, тянувшиеся от нее. Пока она накрывала на стол, он читал свою русскую газету. Потом, продолжая читать, он ел бледную снедь, не требовавшую участия зубов. Она хорошо его знала и тоже молчала.
Когда он ушел спать, она осталась в гостиной с колодой засаленных карт и старыми альбомами. Насупротив, через узкий двор, где дождь тренькал в темноте по помятым мусорным бакам, окна светились мягким светом, и в одном из них видно было мужчину в черных штанах, лежавшего навзничь на неубранной постели, подложив под голову сцепленные руки и раскинув локти. Она опустила жалюзи и стала разсматривать фотографии. В младенчестве у него было выражение более удивленное, чем это обычно бывает у младенцев. Из альбома выпала их лейпцигская немецкая горничная со своим толстомордым женихом. Минск, революция, Лейпциг, Берлин, Лейпциг, накрененный фасад дома, вышедший очень неясно и криво. В четыре года, в парке: пасмурный, застенчивый, с насупленным лбом, отворачивающийся от общительной белки, как отворачивался от всякого незнакомца. Тетя Роза, суетливая, угловатая, пожилая дама с паническим выражением лица, жившая в трепетном мире дурных вестей, банкротств, железнодорожных крушений, раковых опухолей — покуда немцы не убили ее вместе со всеми теми, о ком она тревожилась. Шесть лет — это когда он рисовал удивительных птиц с человечьими руками и ногами и страдал безсонницей как взрослый. Его двоюродный брат, теперь известный шахматист. Опять он, лет восьми, его уже трудно было понимать, он тогда боялся обоев в корридоре, боялся картинки в книге, где был всего лишь идиллический пейзаж с валунами на косогоре и со старым тележным колесом, висевшим на суке безлистого дерева. Десять: это когда они уехали из Европы. Стыд, жалость, унизительные трудности, уродливые, злые, отсталые дети, с которыми он учился в той специальной школе. А потом наступило в его жизни время, совпавшее с выздоровлением после воспаления легких, когда его мелкие страхи, которые его родители упорно считали причудами необычайно даровитого ребенка, как бы сгустились в плотный, перепутанный клубок логически взаимодействующих иллюзий, сделав его совершенно непроницаемым для нормального разума.
С этим, как и со многим другим, она мирилась — потому, что ведь, в конце концов, вся жизнь состоит сплошь из примирения с потерей одной радости за другой, в ее же случае, даже не радости, а просто возможности какого-нибудь просвета. Она думала о безконечных волнах боли, которую они с мужем почему-то должны были выносить; о незримых гигантах, которые как-то невообразимо мучат ее мальчика; о безмерном количестве нежности, наполняющей мир; об участи этой нежности, которая растаптывается, или почем зря расточается, или обращается в безумие; о брошеных детях, что-то шепчущих себе под нос в неметенных углах; о красивых растениях, которые прозваны сорняками и которым некуда спрятаться от косца, и приходится безпомощно следить, как его по-обезьяньи сутулая тень оставляет позади себя искромсанные цветы, меж тем как чудовищная тьма придвигается все ближе и ближе.
Было уже заполночь, когда из гостиной послышался мужнин стон, и вскоре он вошел нетвердым шагом в накинутом поверх пижамы старом пальто с каракулевым воротником, которое он предпочитал своему красивому синему халату.
— Не могу заснуть! — воскликнул он.
— Почему, — спросила она, — почему ты не можешь заснуть? Ты ведь был такой усталый.
— Не могу я заснуть, потому что я умираю, — сказал он и лег на диван.
— Что с тобой, желудок? Хочешь я позвоню доктору Солову?
— Никаких докторов не нужно, — простонал он. — К чорту докторов! Мы должны поскорее забрать его оттуда. Иначе ответственность ляжет на нас. На нас! — повторил он и рывком принял сидячее положение, поставив ноги на пол и колотя по голове стиснутым кулаком.
— Хорошо, — сказала она спокойно, — мы завтра утром перевезем его домой.
— Я бы выпил чайку, — сказал муж и пошел в уборную.
С трудом нагнувшись, она подобрала несколько карт и одну или две фотографии, соскользнувшие с дивана на пол; червонный валет, пиковая девятка, туз пик, Эльза и ее брутальный кавалер.
Он вернулся в лучшем настроении и громко сказал:
— Я все продумал. Мы отдадим ему спальню. Каждый из нас будет проводить часть ночи возле него, а потом спать на диване. По очереди. Доктор будет навещать его по крайней мере два раза в неделю. Не важно, что Барин скажет; да ему и нечего будет сказать, потому что так выйдет дешевле.
Зазвонил телефон. Обыкновенно в такой час их телефон не звонил. Его левая туфля соскочила с ноги, и он нашаривал ее пяткой и носком, стоя посреди комнаты, по-детски, беззубо, с разинутым ртом глядя на жену. Обычно она подходила к телефону, так как лучше его знала по-английски.
— Можно Чарли? — сказал безцветный девичий голосок.
— Какой номер нужен вам? Нет. Это неправильный номер.
Трубка мягко легла на место. Ее рука прижалась к старому усталому сердцу.
— Испугалась, — сказала она.
На его лице мелькнула улыбка, и он тотчас возобновил свой взволнованный монолог. Завтра первым делом они поедут за ним. Ножи придется запирать в ящик. Даже в самые худшие свои дни он не представлял опасности для других.
Телефон зазвонил в другой раз. Тот же настойчивый, невыразительный молодой голос попросил Чарли.
— У вас неправильный номер. Я вам объясню, что вы делаете: вы вертите букву «о» вместо ноля.
Они сели за свой неожиданно праздничный полуночный чай. Подарок к рожденью стоял на столе. Он шумно отхлебывал; лицо его раскраснелось; он то и дело поднимал стакан и вращал его кругообразным движением, чтобы сахар поскорее разошелся. На его лысой голове, сбоку, где было большое родимое пятно, заметно выделялась жила, и, хоть он и брился утром, на подбородке у него пробивалась серебристая щетина. Пока она наливала ему другой стакан, он надел очки и с удовольствием принялся заново пересматривать лучезарные желтые, зеленые, красные скляночки. Его неловкие мокрые губы шевелились, произнося про себя их звучные наименования: абрикос, виноград, слива морская, айва. Он дошел до райского яблочка, когда телефон зазвонил опять.
Двуглавая невидаль
Сцены из жизни сросшихся близнецов
Немало лет минуло с тех пор, как д-р Фрике предложил нам с Ллойдом вопрос, на который я теперь и попытаюсь ответить. С мечтательной улыбкой научного любования поглаживая мясистую хрящевую перепонку, соединявшую нас — omphalopagus diaphragmo-xiphodidymus, как Панкост назвал один сходный случай, — он спросил, не можем ли мы припомнить, когда именно мы — и вместе или порознь — осознали исключительность своего положения и своей участи. Ллойд не помнил ничего, кроме того, что дедушка Ибрагим (Агим, или А-хм — теперь эти сгустки мертвых звуков только саднят мой слух) прикасался, бывало, к тому, до чего теперь дотрагивался доктор, и называл это золотым мостом. Я промолчал.
Детство наше прошло на вершине плодородной горы над Черным морем, на хуторе нашего деда возле Караза. Над его младшей дочерью, розой Востока, жемчужиной седого Ахема (коли так, то старый хрен должен был лучше ее стеречь), надругался в придорожном саду наш безымянный папаша, и она умерла, произведя нас на свет, — должно быть, от одного только ужаса и горя. По одним слухам, он был коробейник из мадьяр; другие отдавали предпочтение немецкому ученому птицелову или одному из участников его экспедиции — не иначе как чучельнику. Темнолицые, увешанные тяжелыми ожерельями тетки наши, пышные одежды которых пахли розовым маслом и бараном, с каким-то извращенным рвением взялись выхаживать младенцев-уродов.
Поразительная эта весть скоро достигла окрестных сел, и оттуда начали посылать к нам на хутор всяких назойливых чужаков. По праздникам можно было наблюдать, как они лезут по склонам нашей горы, вроде паломников на цветистых картинках. Тут был саженного роста пастух, и плешивый коротышка в очках, и солдаты, и вытягивающиеся в длину тени кипарисов. Тоже и дети всегда приходили, и наши ревнивые няньки гнали их прочь; но чуть ли не каждый день какой-нибудь черноглазый бритоголовый мальчишка в синих, с черными заплатами, линялых штанах ухитрялся продраться сквозь кизил, сквозь заросли жимолости и кривого багряника в мощенный булыжником двор со старым насморочным фонтаном, где малыши Ллойд и Флойд (положим, у нас в ту пору были другие имена, сплошь из вороньих придыхательных звуков, но это не важно) спокойно сидели, жуя курагу, под крашенной мелом стеной. И тогда нашъ[105] вдруг видел прописную іоту, римская ІІ — единицу, ножницы — нож.