Конец сюжетов: Зеленый шатер. Первые и последние. Сквозная линия (сборник) Улицкая Людмила
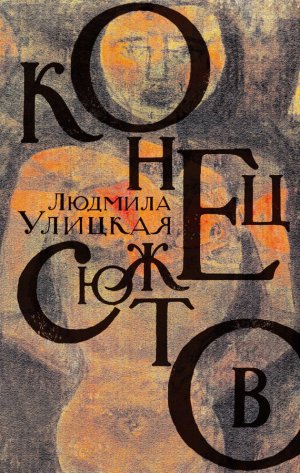
– Война – самая большая мерзость из тех, что выдумали люди, – говорил учитель и пресекал все вопросы, которые дымились на мальчишеских устах: где воевал? какие награды? как ранило? сколько фашистов убил?
Однажды рассказал:
– Я окончил второй курс, когда война началась. Все ребята пошли сразу же в военкомат и были отправлены на фронт. Из моей группы я один остался жив. Все погибли. И две девочки погибли. Поэтому я обеими руками против войны.
Он поднял вверх левую, а половина правой качнулась, но подняться не смогла.
По средам литература была последним уроком, и, закончив, Виктор Юльевич предлагал:
– Ну что, пройдемся?
Первая такая прогулка была в октябре. Пошли человек шесть. Илья спешил домой, как всегда, Саня в тот день прогуливал, что часто делал с позволения бабушки, так что компанию представлял один Миха, который потом почти дословно пересказал ребятам все удивительные истории, услышанные от учителя по дороге от школы к Кривоколенному переулку. Речь тогда шла о Пушкине. Но рассказывал о нем Виктор Юльевич так, что возникало подозрение, не учились ли они в одном классе. Оказалось, что Пушкин был картежник! Оказалось, что он страшно волочился за дамами! То есть был попросту бабник! К тому же он был большим задирой, никому ничего не спускал и всегда был готов поскандалить, пошуметь, пострелять на дуэли.
– Да, – грустно сказал Виктор Юльевич, – вот такое поведение привело к тому, что его считали бретером.
Никто и не спросил, что означает это иностранное слово, потому что и так было ясно: задира.
Потом он подвел их к обшарпанному дому на первом от улицы Кирова повороте, который делал этот Кривоколенный, указал широким жестом левой руки на дом и сказал:
– Вот, а теперь представьте себе! Здесь, конечно, никакого асфальта, дорога замощена брусчаткой, оттуда, с Мясницкой, выезжает карета. Ну, скорее не карета, а такая небольшая повозка с извозчиком. Пушкин был в Москве в гостях, отчасти по делу, здесь у него было множество родни и друзей, но дома своего никогда в Москве не было, да и выезда тоже. Если не считать квартиру на Арбате, которую он снимал после свадьбы совсем недолго, а потом уехал в Петербург. Он Москвы не любил, говорил, что здесь «слишком много теток». Вот, представьте, через сто лет после смерти Пушкина одна дама здесь проходила – после революции дело было – и вдруг с Мясницкой – цок-цок-цок! – заворачивает извозчик, останавливается вот здесь, из пролетки спрыгивает Пушкин – простучал сапогами по брусчатке и исчез в этом доме. Дама – ах! И тут вмиг все пропало – и брусчатка, и пролетка, и извозчик с лошадками. Стали говорить, что дом этот с привидениями. Ну, так это было или не так, сейчас уже мы не выясним. А вот то, что в этом самом доме – здесь жил тогда поэт Веневитинов – происходило в октябре 1826 года, подтверждено многими свидетельствами: в парадной зале этого дома Пушкин читал свою трагедию «Борис Годунов». Было человек сорок гостей, и почти половина из них написала об этом в письмах родственникам сразу же или в воспоминаниях много лет спустя. Вы ведь все читали «Бориса Годунова», не так ли? Кто коротко перескажет содержание?
Миха всегда вызывался, но тут он вдруг подзабыл, в чем там было дело, и не хотел осрамиться.
Другие скромно молчали. Наконец Игорь Четвериков сказал неуверенно:
– Он царевича Лжедимитрия убил.
– Поздравляю вас, Игорь. Историческая наука вещь довольно мутная. Вообще-то были две версии. Одна – что Борис Годунов убил царевича Димитрия. Вторая – что он не убивал царевича Димитрия и вообще был приличным человеком. Ваша версия с убийством другого человека – Лжедимитрия – полностью меняет представления историков. Не огорчайтесь, история – не алгебра. Точной наукой ее не назовешь. В каком-то смысле литература более точная наука. Что говорит великий писатель, то и становится исторической правдой. Военные историки нашли у Толстого множество ошибок в описании Бородинской битвы, а весь мир все равно видит ее именно такой, как описал ее Толстой в «Войне и мире». Пушкин тоже не стоял на заднем дворе дворца матери малолетнего царевича, Марии Нагой, где произошло – или не произошло! – убийство Димитрия. То же самое распространяется и на историю с Моцартом. Ну, «Маленькие трагедии» вы читали, надеюсь.
– Да, конечно. Гений и злодейство несовместны! – выпалил Миха.
– Да, я тоже так думаю. Вот про Сальери точно не установлено, отравил ли он Моцарта. Это всего лишь историческая версия. А произведение Пушкина – это, понимаете ли, факт. Огромный факт русской литературы. Историки могут найти доказательство того, что Сальери Моцарта не отравил, и все равно им с «Маленькими трагедиями» спорить невозможно. Пушкин высказал великую мысль: несовместны в одном человеке гений и злодейство.
Стало смеркаться, Виктор Юльевич попрощался с ребятами, и они пошли по домам, в разные стороны Китай-города.
Этот первый поход по литературным местам оказался прообразом кружка, который к концу года нашел себе название «ЛЮРС» – любителей русской словесности.
Узнав о том, как это было в первый раз, Илья не пропустил больше ни одного такого «выхода на натуру» – так Виктор Юльевич именовал их литературные блуждания по средам. Илья составлял отчеты о собраниях кружка, был секретарем, и весьма ответственным. Протоколы ЛЮРСа вместе с фотографиями хранились у него в книжном шкафу, в заветном чулане.
«Люрсы», участники кружка, по мере сближения с русской литературой девятнадцатого века постепенно узнавали кое-какие подробности военной биографии учителя.
Виктор Юльевич, подергивая ноздрями и щеками – контузия, теперь они знали, – рассказал, как вместе с однокурсниками пришел в военкомат на второй день после объявления войны.
Его направили в артиллерийское училище, в Тулу. Мальчишек интересовали конкретные вещи – бой, отступление, наступление, ранение… А какие орудия? А какие снаряды? А у немцев?
Учитель коротко отвечал. Воспоминания были тягостны…
Подготовка в Тульском училище велась на повышенных скоростях, но наступление немецкое оказалось еще более скоростным. В конце октября немцы подошли к Туле. Курсантов бросили на защиту города, каждому придали взвод из ополченцев, и огневые точки обслуживали курсанты-командиры и ополченцы-рядовые. Это напоминало бы игру взрослых «в войнушку», если бы в течение двенадцати часов всех подчистую не смело фашистским огнем. Виктора спасла интеллигентность, которая вообще-то ни в каких обстоятельствах никого не спасала. Он приказал рядовому, фамилию которого он не запомнил, поднести ящик со снарядами. Немолодой одутловатый ополченец обматерил командира: ты, начальничек, кому приказываешь? Мне пятьдесят лет, а тебе восемнадцать. Ты и таскай ящики.
Курсант, которому было уже девятнадцать, слова не сказав, побежал за снарядами. Сто метров туда, налегке, сто обратно, с пятидесятикилограммовым ящиком. Орудийного расчета запыхавшийся командир не застал – огромная воронка дымилась на месте грамотно установленного орудия. А в живых – никого.
И хоронить было некого – прямое попадание. Курсант посидел на ящике, ни о чем не думая, но ощущая себя горелой землей, разбитым раскаленным металлом, вскипевшей кровью и обожженным тряпьем… Потом, оставив ненужный ящик, пошел прочь под свист и разрывы, которых он уже не слышал.
Когда осаду с Тулы сняли, училище перевели в Томск, по крайней мере тех, кто остался в живых после обороны. Погибший расчет долго снился, и одутловатый дядька мрачно материл его – вовсе не за ящик снарядов, а за что-то другое, более серьезное. Виктор тысячу раз возвращался мыслями туда: как правильно… как надо-то? Ведь если бы, как полагается командиру, рявкнул, то в живых остался бы тот, одутловатый…
Решил, что командиром быть не может. Только рядовым. Он написал заявление с просьбой отправить его в действующую армию. Отказали – до выпуска было полтора месяца. Небольшая провинность, вот что было нужно. Чтобы не отдали под суд, не отправили в штрафбат, а ограничились бы отправкой на фронт рядовым, без присвоения офицерского звания.
И он нашел правильного размера преступление. Накануне приказа о присвоении звания ушел в самоволку, напился в городе, залез в женское общежитие и провел ночь в красном уголке с девицей, которая рано утречком по его просьбе сдала загулявшего курсанта военному патрулю. И оказалось все точно, как в аптеке: отсидел десять дней на гауптвахте, а потом был отправлен в действующую армию рядовым. Так до самого конца войны – для него-то она закончилась в сорок четвертом, после ранения, – ни единого раза не приходилось ему отдавать приказов. Только выполнять. Задание всегда одно и то же: из точки А в точку Б дойти живым. И еще множество мелких забот – поесть, попить, выспаться, не сбить ногу и хорошо бы помыться… Приказывали – стрелял. Нет – нет, об этом не говорил. Об этом – молчал.
– А где вас ранило? – спрашивали ребята.
– В Польше, уже в наступлении. Вот, руку отняли.
Что было потом, ученикам не рассказывал. Как учился писать левой – круглым лежачим почерком, не лишенным элегантности. Обрубком правой слегка себе помогал, а протез из розового целлулоида не носил. Научился ловко надевать рюкзак – сперва левой рукой натягивал лямку на обрубок правой, а потом уж совал ее в петлю. Приехал из госпиталя в Москву. Институт, в котором учился до войны, тем временем расформировали и остатки влили в филфак. Туда он и вернулся в шинели, сохранявшей запах войны, и в офицерских, не по чину, сапогах.
Университет на Моховой! Какое это было счастье – полных три года он восстанавливал себя сам: чистил кровь Пушкиным, Толстым, Герценом…
В сорок восьмом, незадолго до окончания, предложили аспирантуру: и руководитель был прекрасный, медиевист и великий знаток европейской литературы, и тема интересная – с романо-германским уклоном, по связям Пушкина с этой самой зарубежной литературой. Виктор Юльевич колебался – еще хотелось преподавать детям, – казалось, что он знал теперь, чему учить. Выбор, выбор…
Где же тот голос, который в решающие моменты подсказывает? Но никакой голос не понадобился – несостоявшемуся руководителю надавали по шее за низкопоклонство перед Западом и космополитизм, а спустя какое-то время посадили…
Не получилось с аспирантурой. Отправили по распределению в среднюю школу поселка Калиново Вологодской области преподавать русский язык и литературу.
Жилье выделили при школе. Комната и прихожая, откуда топилась печь. Дровами обеспечивали. В местном магазине продавали дальневосточные крабы и конфеты-подушечки, дрянное вино и водку. Хлеб привозили два раза в неделю, очереди выстраивались с раннего утра, а магазин открывался в девять, когда первый урок шел к концу. Мамаши, следуя древнему деревенскому обыкновению, притаскивали ему то яйца, то творог, то деревенский пирог удивительного свойства: безумно вкусный в теплом виде и совершенно несъедобный в остывшем… Испокон веку принята была эта натуральная оплата трудов священников, врачей, учителей. Приношения он делил с уборщицей Марфушей, нелюдимой вдовой со странностями, но пил в одиночку. Не много и не мало – ежевечернюю бутылку. Перед сном читал единственного автора, который никогда не надоедал.
Кроме литературы, еще приходилось учить географии и истории. Математику и физику вел директор школы, заодно и общественные науки, которые, меняя названия, все были историей партии. Остальные предметы – биологию и немецкий язык – преподавала ссыльная питерская финка. Было в ее биографии, кроме национальности, еще одно пятнышко – до войны работала с академиком Вавиловым, нераскаявшимся вейсманистом-морганистом.
Всё в Калинове было бедным, в изобилии только нетронутая робкая природа. И, пожалуй, люди были получше городских, тоже почти не тронутые городским душевным развратом.
Общение с деревенскими ребятами развеяло его студенческие иллюзии: доброе и вечное, конечно, не отменялось, но материя повседневной жизни была столь груба, и девочкам, укутанным в чиненые платки, успевшим до школы прибрать скотину и малых братьев-сестер, и мальчикам, летом тянувшим всю мужскую тяжелую работу на земле, – нужны ли им были все эти культурные ценности? Учеба на голодный желудок и потеря времени на знания, которые никогда и ни при каких условиях им не понадобятся?
Детство у них давно закончилось, они все сплошь были недоросшие мужики и бабы, и даже те, кого матери охотно отпускали в школу, несомненное меньшинство, как будто испытывали неловкость, что занимаются глупостями вместо настоящей серьезной работы. Из-за этого некоторую неуверенность испытывал и молодой учитель – и впрямь, не отвлекает ли он их от насущного дела жизни ради излишней роскоши. Какой Радищев? Какой Гоголь? Какой Пушкин, в конце концов? Обучить грамоте и поскорее отпустить домой – работать. Да и сами они только этого и желали.
Тогда он впервые задумался о феномене детства. Когда оно начинается, вопросов не вызывало. Но когда оно заканчивается? Где тот рубеж, начиная с которого человек становится взрослым? Очевидно, что у деревенских ребятишек детство заканчивалось раньше, чем у городских.
Северная деревня всегда жила впроголодь, а после войны все обнищали вконец, работали бабы и ребята. Из тридцати ушедших на фронт местных мужиков вернулись с войны двое, один безногий, второй туберкулезный, и тот через год умер. Дети, маленькие мужики-школьники, рано начинали трудовую жизнь, и детство у них было украдено.
Впрочем, что тут считать: у одних было украдено детство, у других – юность, у третьих – свобода. У самого же Виктора Юльевича совсем малость – аспирантура.
После трехлетнего срока полуссылки – места были те самые, куда при царизме ссылали таких, как он, умненьких молодых людей с чувством собственного достоинства, – выпустив семиклассников, Виктор Юльевич вернулся в Москву, к маме, в Большевистский переулок, в дом с рыцарем в нише у входа.
Первое же предложенное в Москве место преподавателя литературы чудесным образом оказалось в десяти минутах от дома, вблизи Исторической библиотеки, которая притягивала его, истосковавшегося по книжной культуре, больше, чем столичные театры и музеи.
Он пытался восстановить университетские связи, искал общения. Встретился с Леной Курцер, прошедшей войну как военный переводчик, но разговора откровенного не получилось. Разыскал еще двух своих однокурсниц, и опять ничего хорошего не вышло. Время было молчаливым, к откровенности не располагающим. Разговаривать стали несколько лет спустя. Из трех переживших войну однокурсников один пошел на партийную работу, второй преподавал в школе. Общение с ними ограничилось распитием бутылки, на том и увяло. Третий, Стас Комарницкий, оказался вне досягаемости: получил срок не то за анекдот, не то за обычную болтовню. Единственный из друзей, с кем общаться было в радость, был бывший сосед по двору Мишка Колесник, с которым они составляли веселенькую послевоенную парочку: Мишка без ноги, Виктор без руки. Называли себя «три руки, три ноги».
Мишка к тому времени стал биологом и женился на хорошей девчонке, тоже из их двора, но помладше.
Она была врачом, работала в городской больнице и очень хотела Виктора женить. Все норовила подсунуть ему какую-нибудь из своих безмужних коллег. Но Виктор не собирался жениться. Вернувшись из Калинова, он влюбился сразу в двух красоток – с одной познакомился в библиотеке, другая сама к нему подкатила в музее, куда водил он свой класс. Мишка шутил: повезло тебе, Вика, что бабы к тебе парами прибиваются, а то была б одна, точно бы тебя охомутала…
Но «охомутала» его на самом деле работа. Самым интересным для Виктора оказалось общение с тринадцатилетними мальчишками. Они ничего общего не имели со своими деревенскими сверстниками. Эти московские мальчишки не пахали, не сеяли, не чинили конской сбруи, да и крестьянской ответственности за семью они не знали.
Они были нормальные дети – баловались на уроках, перекидывались шариками из жеваной бумаги, брызгали друг в друга водой, прятали портфели и учебники, жадничали, дрались, пихались, как щенята, а потом вдруг замирали и задавали настоящие вопросы. У них, в отличие от деревенских сверстников, все-таки было детство, из которого они неотвратимо выходили. Помимо прыщей, были и другие, с высшей нервной деятельностью связанные признаки их взросления: задавали «проклятые вопросы», мучились несправедливостью мира, слушали стихи, а двое-трое из класса даже писали нечто стихообразное. Первым принес учителю аккуратный листок с риф-мованными строчками Миха Меламид.
– Понятно, понятно, – вслух сказал Виктор Юльевич и улыбнулся. И про себя: «Еврейские мальчики особенно чувствительны к русской литературе».
Полкласса не вполне понимала, что от них хочет литератор. Вторая половина ходила за учителем хвостом. Виктор Юльевич старался вести себя со всеми ровно, но любимчики были – эмоциональный, честный до нелепости Миха, подвижный и ко многому способный Илья и замкнуто-интеллигентный Саня. Неразлучная троица.
И сам он когда-то принадлежал к такой троице, часто вспоминал двух любимых ифлийских друзей, Женю и Марка, погибших в первые недели войны. Не выросшие из детства, полные фальшивой романтики, с инфантильными стишками – «Бригантина, бригантина!» – каково бы им было сейчас… Этот рыжий Миха был им как младший брат, и при внимательном взгляде прочитывалась будущая корявая судьба. Нет, нет, никаких пророческих амбиций, просто беспокойство…
Пока еще шел год пятьдесят третий, и март еще не наступил, антисемитская кампания была в полном разгаре. В эти паршивые времена еврейская восьмушка Виктора Юльевича стонала и ужасалась, а грузинская четвертинка стыдилась и страдала.
Был Виктор Юльевич многокровка, носил грузинскую фамилию, писался русским, но русской крови в нем было немного. Дед-грузин был женат на немке – вместе учились в Швейцарии и родили там его отца Юлиуса. Родословная Ксении Николаевны, матери Виктора, была не менее экзотичной. Ее отец, произведение ссыльного поляка и еврейской девушки из первых ученых фельдшериц, обвенчался с поповной, и вот эта священническая кровь и была русской долей.
От грузинского деда он унаследовал музыкальность, от бабушки-немки, тщательно скрывающей свое происхождение и предусмотрительно объявившей себя швейцаркой в двенадцатом году, сразу по приезде в Тифлис, Виктор получил рациональный склад ума и хваткую память, от еврейского прадеда пышные волосы и тонкую кость, а от вологодской бабки светлые северные глаза.
Ксения Николаевна, мать Виктора, рано овдовевшая, единственный живой потомок двух вымерших в революцию семей, аккуратно вытирала пыль с книжных полок, боролась с молью и поливала оранжевые ноготки, которые цвели почти круглый год у нее на подоконнике.
В жизни ее оставалось два любимых дела – ухаживать за сыном и расписывать шелковые платки для артели инвалидов. Еще она умела жарить котлеты и молочные гренки. После возвращения сына с фронта она быстро приучилась делать для Вики (это она звала его с детства почти женским именем «Вика», и привязалось, привилось к нему это имя) все то, что несподручно делать одной рукой: отрезала хлеб, мазала на него масло, когда оно было, по утрам замешивала ему мыльную пену для бритья…
Чего в Викторе Юльевиче категорически не было – гордого чувства принадлежности к какому-нибудь народу, он ощущал себя одновременно изгоем и белой костью, а жидоедские эти времена были отвратительны ему более всего эстетически: некрасивые люди, одетые в некрасивую одежду, некрасиво себя вели. Жизнь за пределами книжного пространства была какая-то оскорбительная, зато в книгах билась живая мысль, и чувство, и знание. Разрыв был непереносим, и все более он погружался в литературу. Только дети, которых он учил, примиряли его с тошнотворной действительностью.
И еще – женщины. Ему нравились прекрасные женщины. Они мелькали в его жизни коротко и празднично, чаще в последовательном порядке, иногда и в параллельном, и все они казались ему равно прекрасными.
Надо сказать, что и он нравился женщинам. Он был красив, и даже его физический изъян – о чем он не скоро догадался – обладал притягательностью. Красавицы соглашались на инвалида не только по той очевидной причине, что в послевоенное время мужчин было меньше, чем нужно для воспроизводства, как сказал бы ветеринар. Он был особенно привлекателен, потому что женщины ошибочно полагали, что уж он-то, со своим изъяном, будет принадлежать полностью и безраздельно.
Напрасно. Он никому не собирался вручать никаких прав на себя, что неявно предполагал брачный союз.
Бунин, Куприн и Чехов с его «Дамой с собачкой» развернули в русской литературе неизведанное до начала двадцатого века пространство «небожественной» любви – вспыхнувшей внезапно страсти, адюльтера, связи, всего того, что девятнадцатый век именовал «грязным».
Ни один из этих авторов не знал о главной проблеме нашего послевоенного времени – территориальной, которая в равной мере касалась и приверженцев любви божественной, и любовников с самыми примитивными устремлениями. Где? Где может состояться любовное свидание у человека, живущего в одной комнате с матерью, в городе, где нет гостиниц, куда можно привести даму для совместного переживания «солнечного удара», и даже каюты, где можно уединиться, и то не найти. Разве что летом на природе, но летнее время столь коротко в нашем климате…
Привести девушку к себе домой, за гобеленовую завесу, отделявшую мужскую, сыновнюю, половину комнаты от женской, материнской, было невозможно. Снять комнату для свиданий – отвратительно, да и дорого, просить ключ от квартиры у одинокого приятеля – все-таки неловко… Брезгливость Виктора Юльевича стояла на охране его нравственности.
Впрочем, ему везло, подруги его все были с жилплощадью. Разведенная Лидочка, к которой он захаживал, с красивой шеей и чудесной грудью, проживала в отдельной комнате, потом случилась Таня-травести, маленькая, вся на пружинках, подпрыгивающая даже на улице. Муж ее работал актером где-то в Саратове, а она снимала комнату на Сретенке, в удобном пешеходном расстоянии. Еще была Верочка, французская переводчица, образованная умница, с которой они ездили на пустую дачу ее родителей.
Ни одна из этих женщин не заходила к нему домой – Ксения Николаевна не переносила посторонних женщин. Мать с сыном мирно жили вдвоем, ни о каких переменах Виктор Юльевич не помышлял.
Утром второго марта они завтракали мягкими внутри и сильно зажаренными снаружи гренками. Ксения Николаевна порезала их на удобные для Вики куски. Эта мелочная, иногда совершенно излишняя опека возвращала ее к тем временам, когда Вика был маленьким мальчиком, она молода и красива, а муж жив.
Чай был заварен крепко, как любил покойный муж. Мирный завтрак был прерван правительственным сообщением – о болезни Сталина. Ксения Николаевна всплеснула руками, Виктор дернулся лицом. Помолчал, потом сказал:
– Дуба дал. Точно. Неделю будут морочить голову, а потом объявят.
– Не может быть.
– Почему же? Да было уже. Когда Александр Первый умер в Таганроге, курьер с известием о смерти ехал в Петербург, и после того, как он проехал через Москву, Голицын приказал разносить бюллетени о состоянии здоровья государя. Неделю городовые носили по домам сводки.
– Да что ты! Откуда ты взял такое?
– Ну, сначала набрел в записках князя Кропоткина на эти бюллетени, а потом уж в Историчке и бюллетени нашел. Наденьте лицо, мадам, изображайте скорбь. Идут перемены.
– Страшно, – прошептала она. – Страшно, Вика.
– Ничего. Хуже не будет.
И отправился в школу. В учительской стояло тугое тревожное молчание. Если кто и говорил, то шепотом. Он поздоровался, взял журнал и пошел к своим мальчишкам.
Открыв дверь в класс, Рука с порога под утихающий гул стал читать:
- Конница – одним, а другим – пехота,
- Стройных кораблей вереница – третьим.
- А по мне – на черной земле всех краше
- Только любимый.
- Очевидна всем, кто имеет очи,
- Правда слов моих. Уж на что Елена
- Нагляделась встарь на красавцев… Кто же
- Душу пленил ей?
- Муж, губитель злой благолепья Трои.
- Позабыла все, что ей было мило:
- И дитя, и мать – обуяна страстью
- Властно влекущей…
– Ну, кто же мне скажет, что такое лирика? – спросил учитель, когда перестали хлопать крышки парт.
Класс замер. Виктор Юльевич наслаждался этой минутой – он научился создавать эту думающую тишину.
– Это про любовь, – сказал кто-то смелый.
– Правильно, но это будет неполный ответ. Лирика – это про всякие человеческие переживания, про внутреннюю жизнь человека. Ну и, конечно, про любовь. А также про печаль, про одиночество, про расставание с любимым человеком. Или даже не с человеком… Есть очень знаменитое стихотворение, тоже написанное до нашей эры, – на смерть воробышка. Я не шучу…
- Плачьте, Венера и купидоны,
- Горе всем тем, в ком сердце нежно.
- Воробышек Лезбии милой моей умер,
- Воробышек возлюбленной моей умер.
- Пуще зеницы ока был он ей дорог,
- И меда был слаще, знал хозяйки голос,
- И льнул к ней, как к матери дочка родная.
- С колен не слетал ее, только прыгал
- Туда и сюда по ее подолу,
- Чирикая ради одной хозяйки.
- Теперь он в потемках бредет в тот мир жуткий,
- Откуда возврата вовек не бывает.
Это тоже пример лирического стихотворения…
Вот мы с вами уже говорили о Гомере, немного читали из «Илиады», мы знаем об Одиссее. И уже знаем, что такое эпос. Ученые считают, что эпические произведения появились раньше, чем лирика. Вот в первом стихотворении, которое я прочитал, написанном в седьмом веке до нашей эры, упоминается Елена. Догадались ли вы, что это та самая Елена, из-за которой, как говорит легенда, началась Троянская война? С ней сравнивает автор свою любимую. Эту «прекрасную Елену», жену царя Менелая, похищенную Парисом, мы встречаем даже у поэтов современных. Так она из эпоса перекочевала в лирику – как образ красавицы, покоряющей мужские сердца…
В глубокой древности, когда человеческая культура только возникала, слово было гораздо теснее связано с музыкой. Стихи читали вслух, им аккомпанировали на музыкальном инструменте, который назывался лирой. Откуда и пошла «лирика». За две с половиной тысячи лет многое изменилось: теперь редко читают стихи с музыкальным сопровождением, зато появились новые жанры, в которых слова и музыка нераздельны… Ну, давайте примеры…
Звенел звонок, а они всё сидели как одурманенные его словами. Почему не хлопали крышками парт, не срывались с воплями с мест, не кидались поспешно к двери, затыкая телами выход из класса – скорее прочь, прочь! В коридор, в раздевалку, на улицу!
Почему они его слушали? Почему ему самому было так интересно вкладывать в их головы то, в чем они совершенно не нуждались? И волновало ощущение очень тонкой власти – они на глазах обучались думать и чувствовать. Какой оазис посреди скучного безобразия!
Три дня спустя объявили о смерти Сталина, и Виктор Юльевич испытал несколько мелочное чувство удовлетворения – он догадался об этом раньше всех. К тому же он принадлежал к тому абсолютному меньшинству, которое оплакивать великую утрату не собиралось. Родители отправляли его в Грузию на все лето, и последний раз они были в Тбилиси всей семьей незадолго до смерти отца, в тридцать третьем году.
Он знал от отца, как презирала, боялась и ненавидела Джугашвили вся их грузинская родня.
Умер тиран. Умер титан. Существо древней породы, из подземного мира, страшное, сторукое, стоглавое. С усами.
В школе отменили занятия, школьников собрали на митинг. Виктор Юльевич вел своих шестиклассников, выстроенных попарно, на четвертый этаж, а Миха все вертелся возле него с бумажкой, совал ему в руку тетрадный лист, покрытый крупными лиловыми буквами. Стих написал.
Слова «Смерть Сталина» были взяты в рамку.
- Плачьте, все люди, живущие здесь и повсюду,
- Плачьте, врачи, машинистки и люди другого труда.
- Умер наш Сталин, другого такого
- Больше не будет нигде никогда.
«Привет тебе, Катулл», – усмехнулся про себя Виктор Юльевич и сказал тихо:
– Ну, врачи, допустим, понятно. А машинистки почему?
– Вообще-то моя тетя Геня была машинистка. Ну, можно «машинисты», – поправил на ходу Миха. – А можно я прочитаю?
Да, эта активность до добра не доведет.
– Нет, Миха, я вам не советую. Пожалуй, категорически не советую.
Миха хотел забрать листок, но учитель ловко сложил его пополам, прижав к груди:
– Можно, я возьму его на память?
– Конечно, – просиял Миха.
Зал набился полон. По радио транслировали Бетховена. Заплаканные учительницы выстроились возле гипсового бюста. Школьное знамя пунцового бархата роняло складки к полу. Виктор Юльевич стоял позади с пристойным выражением лица. Возле окна, прижатый товарищами к подоконнику, страдал восьмиклассник Боря Рахманов. Подоконник больно впивался в правый бок, но податься было некуда. Это была легкая репетиция того, что произойдет с ним тремя днями позже.
После торжественного митинга с общенародным рыданием – учителя подавали пример искреннего горя, ребята подтягивались к трагической ноте – их развели по классам и усадили. Директриса все пыталась дозвониться в роно, чтобы узнать наверняка, надо ли отменять занятия и на сколько дней. Но телефон был сплошь занят. Только к часу дня сообщили, что школьников следует распустить по причине траура, а о начале занятий будет сообщено дополнительно.
Отпуская своих по домам, Виктор Юльевич просил всех сидеть дома, по улицам не шататься, а – самое лучшее! – почитать какие-нибудь хорошие книги.
Саня Стеклов последовал совету учителя с удовольствием. Он был, кажется, единственным, у кого дома стояло в шкафу полное собрание сочинений Толстого, и за четыре траурных дня Саня проглотил все четыре тома «Войны и мира», хотя, честно говоря, некоторые страницы пролистывал. Первый том, прочитав, он отдал Михе, но тот его и не раскрыл: в эти дни у него были другие заботы – тетушка Геня свалилась с сердечным приступом, Минна, как всегда в трудных обстоятельствах, заболела животом, и Миха трое суток выполнял ежеминутные поручения несколько преувеличенно сходящей с ума от горя тети Гени.
Илье плевать было и на рекомендации учителя, и на просьбы матери. Его тянуло на улицу тревожное ощущение важности происходящего. Рано утром седьмого марта, прихватив фотоаппарат, он вышел из дому с чувством охотника, предвкушающего большую удачу.
Трое суток Виктор Юльевич не выходил из дома и не выпускал мать. Хлеба не было, но он говорил ей:
– Мама, какой хлеб? У нас даже водки нет.
Действительно, запасенную матерью бутылку он выпил еще вечером пятого. Решил, что до момента, пока вождя не увезут куда-нибудь и не похоронят, выходить не будет.
Облачился в полосатую пижаму, набрал стопку книг и лег на тахту за гобеленовую завесу. Высшее счастье.
В десять часов девятого марта состоялся вынос тела из Колонного зала – низенькие люди в толстых пальто с каракулевыми воротниками, руководители государства, вынесли на руках гроб.
Тогда Виктор вышел из дома – за хлебом и за водкой. Людей на улице почти не было. Грузовики еще стояли вдоль улиц, и все напоминало пейзаж после схлынувшего наводнения – растоптанная обувь, шапки, портфели, разлученные навсегда со своими хозяевами, выломанные фонарные столбы, разбитые окна первых этажей. В арке дома – окровавленная стена. Растоптанная собака лежала в подворотне. Вспомнил Пушкина:
- …Несчастный
- знакомой улицей бежит
- в места знакомые. Глядит,
- узнать не может. Вид ужасный!
Прочитал в уме «Медного всадника» до самого конца:
- …У порога
- Нашли безумца моего.
- И тут же хладный труп его
- похоронили ради Бога…
Тут как раз, довольно далеко от дома, в переулке нашел открытый маленький магазинчик. Лестница вела в полуподвал.
Несколько женщин тихо разговаривали с продавщицей и замолкли, как только он вошел.
«Как будто они говорили обо мне», – усмехнулся Виктор Юльевич.
Одна из теток признала в нем учителя, кинулась с вопросом:
– Виктор Юрьевич, это что же такое стряслось-то? Вот люди говорят, евреи подстроили ходынку эту? А вы слыхали, может, что?
Она была матерью десятиклассника, но он не мог вспомнить, кого именно. Простые тетки часто называли его «Юрьевич», это раздражало. Но тут вдруг накатило на него странное, несвойственное ему смирение.
– Нет, голубушка, ничего такого я не слышал. Выпьем сегодня стопку-другую за помин души и будем дальше жить, как жили. А евреи что? Да такие ж люди, как мы. Две бутылки водки, пожалуйста, батон и половину черного. Да, пельменей две пачки…
Взял свое, расплатился и ушел, оставив теток в некотором замешательстве: может, и не евреи это подстроили, а другие какие… Врагов-то весь мир кругом. Все нам завидуют, все нас страшатся. И разговор их потек в другом, гордом направлении.
Сидели с матерью за круглым, пятнистым от ожогов столом, графинчик стоял между ними. Пельмени Ксения Николаевна принесла с кухни, как всегда, разваренные. Поставила кастрюльку на железную подставку. Виктор разлил по стопкам. И тут раздался звонок в дверь. Три звонка – к Шенгели.
Виктор пошел открывать. Чудо стояло за дверью – замотанная в кружевную черную шаль поверх меховой шапки, в мужском пальто с енотовым воротником, в облаке нафталинно-кошачьего запаха из давнего прошлого, возникла двоюродная сестра покойного отца, длинноносая красавица, певица, вышивальщица, неудавшаяся монахиня, излучавшая тепло и смех Нино.
– Ты ли? Возможно ли?
Он видел ее последний раз двадцать лет тому назад. Жил в ее тбилисском доме, который в детской памяти остался под знаком подозрения: а был ли тот дом на самом деле или приснился? Но она-то была та самая, даже не сильно постаревшая, дорогая Нино, милая Нинико…
– Вика, мальчик мой, ты совсем не изменился! В толпе бы тебя узнала!
– Господи, Нина, как ты? Откуда?
– Веди, веди в дом, не держи на пороге!
Они целовались, держали друг друга за головы, откидывались подальше, чтоб разглядеть, и снова целовались. Недоумевающая Ксения Николаевна стояла в дверном проеме – с кем там Вика целуется?
Господи, Нино! Грузинская родня, любимые кузины покойного мужа, из прошлого, из далекого прошлого…
Возможно ли? Да проходи! К столу, к столу! Да, руки помыть!
– А как же, как с кладбища, первым делом руки помыть! – Акцент грузинский, еще сильнее, чем прежде, в голосе смех, торжество.
Руки помыла, потом зашла в уборную и еще раз помыла руки. Ксения Николаевна уже поставила на стол третий прибор – все тарелки старые, в сколах и трещинах.
Виктор разлил водку.
– Сначала – за освобождение! Это как сорок лет по пустыне… Сдох! Мы вышли! – сказала она вопреки застольному порядку, который в Грузии всегда соблюдался. Женщина, гостья – первая не говорит!
Они выпили. Нино отщепила вилкой четверть пельменя, деликатнейшим образом положила в почти закрытый рот. И Виктор вспомнил, как учила она его есть, пить, входить, садиться, здороваться. Все забыл начисто. И все делал так, как она его когда-то учила, забывши о самих уроках.
– Да как тебя сюда занесло, скажи, Ниночка?
Она откинулась на спинку стула, завела руки за голову и захохотала молодым смехом. Потом сбросила улыбку, сняла с плеча черную кружевную косынку, обмотала голову, встала, подняла вверх свои изумительные нестареющие руки и издала длинный вздымающийся вверх вопль. Потом сверху звук обрушился вниз, и слов почти никаких не было, потому что это был плач по умершему – древний, ни в каких словах не нуждающийся вопль скорби, в котором была и тоска, и боль, и торжество.
Нино закончила это древнее бессловесное высказывание и снова захохотала.
«Опьянела, бедняжка», – подумала Ксения Николаевна.
Отсмеявшись, Нино рассказала историю, которая на долгие годы станет самым любимым ее рассказом для близких людей.
Пятого марта, когда о смерти Сталина еще не объявили, в дом пришли двое энкавэдэшников и забрали ее. Хотели взять и сестру Манану, но та уехала в Кутаиси еще на прошлой неделе и дома ее не было.
Мама собирает вещи, плачет и шепчет:
– Не хочет, сатана, не хочет оставить нас в покое!
А сотрудник понял, глядя на сборы мамины, и говорит:
– Дочь ваша через три дня дома будет, ну, через пять. Слово даю.
Маму ты ведь помнишь, Вика? Ксеня, конечно, помнит! Ей девяносто, она и молодая ничего не боялась, а уж сейчас чего ей бояться.
– О, слово твое как золото. А руки вот как железо!
– Напрасно обижаете, Ламара Ноевна, – говорит один из гаденышей. – Вашей дочери большая честь оказана, – он говорит.
Привез меня в горком партии. Да, честь большая. Там свет повсюду горит, народу по коридору носится туда-сюда без счету, как на Руставели в праздничный день. Ведут в зал. Полный зал женщин сидит – разного вида, есть совсем деревенские, но и Верико сидит, и Тамара, и сестры Менабде, певицы.
Выходят двое – сначала один говорит, мол, мир потерял, народ безутешен, всенародное горе… Думаю, это меня сюда ради этих слов привезли? Потом второй говорит – мы собрали вас, потому что по древнему грузинскому обычаю женщины оплакивают дорогих покойников. Только женщины могут это делать. Мы собрали вас, чтобы вы сделали хороший плач.
Вика, Ксеня, я просто чуть сразу же не запела «Да воскреснет Бог, да расточатся врази Его!».
– Про всех про вас нам известно, – говорит этот крот лысый, – что вы пели на похоронах, знаете плач грузинский. Из Москвы нам сказали, что руководство хочет, чтобы вы оплакали нашего великого вождя.
Да я плачи эти никогда и знать не знала, панихиду пела много, а плачи эти языческие христиане не поют. Это вой, а не пение. Все равно, думаю, поеду! Не могу себе отказать в таком удовольствии.
Сколько там женщин было, не скажу. Очень много, полный самолет. Кто плачет, кто гордится, но все от страха трясутся. Признаться, я в самолете никогда не летала и не полетела бы ни за что – только по такому случаю.
Прилетели ночью, на автобусах отвезли за город, вроде гостиницы. Выспаться не дали, пришел грузин, собрал нас. Говорит, музыкант. Руководить будет. Лицо знакомое, где видела… Все смотрю, смотрю, а он отозвал меня и шепнул тихо в ухо: я брат Микеладзе… Ой, сатана, сколько народа погубил.
Словом, день плачем, ночь плачем, еще день плачем, мне уж надоело. Репетируем!
А вечером восьмого числа сообщают, что плач отменяется. Почему захотели, почему расхотели – черт знает! Всех погрузили в автобусы, повезли не знаю куда. А я лежу на кровати и кричу – ой, приступ какой, ой, боли! Думаю, нет, не поеду, пока тебя не увижу. Мне начальник какой-то говорит – билет тебе потом самой брать придется. Ой, кричу, боли какие! Возьму билет.
Наливай еще, Вика! Первый раз в жизни водку пью, первый раз в жизни соврала, первый раз в жизни великого злодея хороним!
– Тише, Нино, тише, – тронула ее за плечо Ксения Николаевна.
Та кивнула и приложила свои прекрасные руки к губам. Виктор взял ее правую руку в свою левую и поцеловал. В жизни что-то менялось. В лучшую сторону…
Дети подземелья
Илья шнырял по городу, все пытаясь понять, куда идет эта невиданная демонстрация. Он установил, что у нее много хвостов, и один из них начинается – или кончается – у Белорусского вокзала, а второй где-то на стыке трех бульваров – Петровского, Рождественского и Цветного. Он потолкался там, понял, что пленки мало, и, когда совсем стемнело, не без труда пробрался к дому. В одном месте, возле Почтамта, пришлось перелезть через забор. Никто, даже участковые милиционеры, не знал географии здешних мест лучше, чем здешние мальчишки. Здесь они годами играли в «казаки-разбойники», все проходные дворы и подъезды и даже канализационные люки знали наизусть. Во многих квартирах были черные лестницы, войдя с парадного входа, можно было позвонить к какому-нибудь однокласснику в дверь, прошмыгнуть через длинный коридор и выскочить черным ходом – в другой двор, а то и на другую улицу.
С утра седьмого марта он зарядил аппарат и сразу же, как мать ушла на работу, вышел на улицу. Утром все было забито людьми еще гуще, чем накануне. Выход с Маросейки на площадь был перекрыт теперь не только троллейбусами, а еще и вторым рядом грузовиков. К Колонному залу можно было подойти со стороны Пушкинской площади, но не по улице Горького, а по Пушкинской улице. Позже толпу пустили по Неглинке.
Все три близлежащих бульвара были заполнены спрессованными толпами людей, но в середине дня вдруг стало свободнее – сжатая со всех сторон толпа двинулась и побежала. Открыли какие-то боковые, переулочные проходы, и люди туда устремились. Никто так никогда и не выяснил, кто регулировал эти ловушки, устраивал засады и рукава, куда сбивались люди, но в конце концов они как-то просачивались через проходные дворы, сквозные подъезды, вливались и выливались, как вода, проникающая во все дырки.
Мощные «студебеккеры» перегораживали улицы, было множество военных и милиции, и Илья, прижимая фотоаппарат к животу, шнырял между машинами, подлез под одну из них и, вынырнув, столкнулся с Борей Рахмановым, восьмиклассником. Боря был настроен прорываться в Колонный зал. Илью во всей этой неразберихе интересовала больше всего сама неразбериха.
В центре во время демонстраций Первого мая и Седьмого ноября всегда происходило нечто подобное – колонны, кордоны, заслоны. Мальчишки, жившие в центре, давно уже знали эту праздничную суматоху и никогда не упускали случая в ней потолкаться. Но на этот раз происходило нечто поистине грандиозное. Илью страшно тянуло подняться повыше над толпой, чтобы сделать хоть один снимок сверху. Он позвал Борю с собой на знакомую крышу, но тот отказался.
«Дурак, – подумал Илья. – Я по крышам к Колонному залу раньше него доберусь».
Он решил пробиваться через Крапивенский переулок. Но в этот момент толпа шатнулась, его понесло куда-то в сторону Неглинки, а Борю унесло в другом направлении. Он мелькнул в последний раз, Илья увидел его красное лицо с открытым ртом. Он что-то кричал, но слышно не было. Стоял странный гул – в нем был и вой, и крики, и что-то похожее на пение, и впервые за два дня Илье стало не по себе.
Надо было добраться до знакомой арки, там во дворе был сарай, с крыши которого можно было легко перелезть на крышу соседнего дома, четырехэтажного. Илья сделал рывок в сторону арки и понял, что люди стараются держаться подальше от домов, внутри потока, боясь быть прижатыми к троллейбусам, стоящим один за другим вплотную. Люди бились о борта, и несколько человек, примятых и неподвижных, лежали, прижатые к троллейбусному брюху, а другие наступали на них ногами. Илье, чтобы попасть на тротуар, надо было протиснуться между телами – неужели они мертвые? Быть не может… Другого пути не было. Он понимал, что надо сразу же оказаться под защитой троллейбусного брюха, иначе его размажут по стенке. Все время он помнил о «Феде», как ласково звал фотоаппарат, – не раздавить объектив. Ногами он вытоптал себе крохотное пространство возле колеса и шмыгнул туда. Там, под троллейбусом, была тьма и жуткая теснота – лежали мягко переплетенные тела в толстой одежде, и он полз между ними, продвигаясь во влажном смраде. Кто-то стонал. Выполз он из-под троллейбуса прямо в руки толстого военного с трясущимся мокрым лицом. Мальчишка лет пяти, белый и бесчувственный, мертво висел на нем.
– Ты куда?
– Я в том доме живу.
– Дуй домой и носа не показывай.
Военный подтолкнул его к арке, и Илья шмыгнул во двор. Сарай был на месте, и дощатый мусорный ящик рядом придвинут к стене. Илья залез на ящик, с него на крышу сарая, а там – он был здесь в позапрошлом году, летом, когда играл последний раз в «казаки-разбойники», – торчали удобные выступы, по которым легко можно было забраться на крышу «пестрого дома», из красного и белого кирпича, если только окно в подъезде на третьем этаже по-прежнему выбито.
Илье удивительно везло в тот день – он выскочил живым из смертоносной толпы, и теперь опять удача – окно было выбито.
Он пережил еще один страшный момент, когда хотел подтянуться на раме, а она вдруг шатнулась, как будто собираясь вывалиться на улицу. Но не вывалилась, и он благополучно спрыгнул с широкого подоконника внутрь. Далее его подстерегала неожиданность: чердак был заперт на новый стальной замок с такими здоровенными ушками, что отодрать их без инструмента было невозможно. Но дом был странной постройки, и окна в парадном выходили на две стороны – на третьем этаже во двор, а на втором и четвертом – на улицу. Илья поднялся на четвертый и увидел улицу. Она была как черная река, головы сверху казались завитками меха и шевелились, как шкура какого-то жуткого животного. Илья вытащил фотоаппарат, понимая, что с такого расстояния хорошо не получится, но подумал, что потом повторит снимок со второго этажа. На втором ему удалось открыть окно, снизу ворвался не крик, а какой-то равномерный вой, который прорывался то визгом, то воплем. Отсюда толпа уже не была похожа на мех. Головы, как темные камни, плотно прижатые друг к другу, колебались довольно ритмично, но никуда не сдвигались. Какая-то безумная дорога из живых булыжников шевелилась в танце на месте.
Сделал несколько снимков, но решил, что с четвертого будет все-таки повыразительней. Он уже забыл страх, пережитый несколько минут тому назад.
Тут выскочила из квартиры пьяная тетка в красном халате и заорала:
– Ты чего там делаешь? Делать тебе нечего?
И добавила к этому сложную матерную фразу, которая поставила Илью в тупик.
Он был умен, не стал ей отвечать, показал рукой на рот, помахал около ушей, мол, глухонемой, и тетка, плюнув натурально, исчезла.
На четвертом этаже Илья почти добил пленку и стал подумывать о том, как бы ему теперь поскорее добраться до дома. Он прекрасно видел, что пройти обычной дорогой от Трубной площади вверх по Рождественскому бульвару, пересечь Сретенку и выйти к Чистопрудному бульвару невозможно. Но ему казалось, что если пробиться через площадь и перейти на ту сторону, то там двигаться будет легче. Он не знал, что толпа с Рождественского шла вниз и, сталкиваясь на Трубной площади со встречной, текущей со стороны Петровского бульвара, образовывала здесь смертельный водоворот.
Но сидеть в подъезде до скончания века он не собирался, к тому же дома мать наверняка волнуется и плачет. Он посидел еще немного на подоконнике, размышляя, приберечь ли остаток пленки или прямо сейчас сделать несколько последних кадров, потому что свет уходил. Потом сидеть наскучило, и он решил отсюда выбираться как угодно.
Выйти из двора было еще труднее, чем в него проникнуть. Но он рассчитал все правильно: позвонил в квартиру на первом этаже и умолил старика-хозяина выпустить его через другую дверь на улицу. Старик покачал головой и косноязычно промычал, что парадная дверь закрыта, но выйти можно через котельную.
«Вот, этому старику и притворяться не надо, без малого глухонемой», – усмехнулся Илья, который умел радоваться всяким совпадениям. Двор был совершенно пуст, ни души, а из-за стены раздавался глухой и мощный гул спрессованной толпы. Илья сразу же увидел котельную, она была заперта. Походил вокруг, залез на крышу котельной, с нее перебрался на стену и спрыгнул на пустой тротуар, отсеченный от толпы оцеплением. Теперь надо было прошмыгнуть мимо военного заслона, чтобы влиться в толпу. Он перебежал чуть поближе к перекрестку и прошмыгнул мимо двух военных на забитую людьми мостовую. И сразу же понял, что совершил ошибку, лучше бы сидел в парадном. Его сразу же поволокло со страшной силой, как бывает в море при большой отливной волне. Впереди маячил светофор.
И вот тут Илье впервые стало по-настоящему страшно: он испугался уже не за «Федю», который при ударе о столб светофора мог разбиться вдребезги. Он подумал о том, что может произойти с его головой. Руки, оберегающие фотоаппарат от удара, он не мог даже сдвинуть. Фотоаппарат вдавился ему в живот, но он чувствовал не боль, а ужасную тоску. Его несло на светофор, он оставался как будто чуть слева. Человек с разбитым лицом был прижат к светофору. Он, мертвый, стоял. Не мог упасть.
В этот миг земля под ногами дрогнула и разверзлась. Илья влетел в канализационный люк, крышка которого сдвинулась под ногами толпы. Упал Илья хорошо, на забытый водопроводчиками моток пакли. Слева была решетка, немного приподнятая с одного бока. Илья рванул, и она открылась полностью. Он ткнулся в эту нору и почему-то задвинул за собой решетку. Это инстинктивное движение спасло ему жизнь. Падавшие вслед за ним люди за несколько минут наполнили люк до отказа, и он, самый нижний, неминуемо был бы раздавлен. Тела падавших спрессовались так, что тысячи людей, шедшие по ним, не чувствовали, что ступают по человеческому мясу. Из-за решетки доносились вопли.
Наверху тем временем страшная невидимая волна вдруг понесла всех, расшибая о стены, ограждения, о борта грузовиков и вереницу троллейбусов. Это открыли проход, ведущий в глубину замкнутого квартала, но людям казалось, что наконец-то можно выбраться куда-то, где кончится это ломающее кости сжатие. Но этого Илья уже не видел. Он вообще ничего не видел. Была полная тьма.
В этой темной норе Илья пролежал довольно долго, а потом стал ощупывать стены. Он обнаружил большую трубу, которая вела немного вниз. Пополз по ней. Полз-полз, потом труба сделала небольшой поворот, и теперь он двинулся как будто немного вверх. Фотоаппарат был завернут в шапку и всунут под ремень брюк. Потом Илья заснул ненадолго, а проснувшись от лютого холода, не сразу сообразил, как в этой дыре оказался. Поднял голову и увидел, что метрах в двух над ним довольно большая прямоугольная решетка. Нельзя сказать, чтобы сверху шел свет – там тьма была не такой густой. Очень хотелось пить. Пахло противно, но не канализацией, а ржавым железом и крысами. Хотя никаких крыс он так и не увидел. Наверное, они тоже плотно сбитой стаей неслись в сторону Колонного зала.
Надо отсюда выбираться. В сводах стен, ведущих к решетке, были вбиты толстые скобы, он полез вверх. Долез до верха легко, но решетка оказалась намертво приваренной к раме, вылезти не было никакой возможности. Он спустился вниз, свернулся комочком и снова заснул. Когда проснулся, свету сверху стало больше. Он двинулся дальше по трубе – по ходу она расширялась.
Следующая решетка обнаружилась метров через пятьдесят. Он сразу же нашел скобы и поднялся по ним. Решетка приварена не была, была закреплена довольно свободно, но с наружной стороны заперта. Илья пополз дальше. Решетки возникали регулярно, метрах в пятидесяти одна от другой. Он миновал их восемь, обследовал каждую, почти все были заварены, и только две заперты с наружной стороны. Потом он сбился со счета. Несколько раз засыпал в изнеможении, просыпался и снова полз. Три или четыре решетки подряд выходили в ноги толпы, света там не было, но шел страшный гул, по которому он догадывался, что здесь не надо и пытаться вылезать. Одна решетка была наполовину выбита, и оттуда свисала половина мертвого человека.
Он понятия не имел о направлении, но точно знал, что трубы – единственный возможный путь, и продвигаться надо вперед, хотя не понимал, куда они его выведут.
Сколько прошло времени, не понимал. Потом увидел решетку, через которую шел ясный желтый свет. Поднялся по шатким скобкам, тронул ее, и она легко открылась. Он вылез и обнаружил, что стоит под фонарем во дворе дома, где живет Саня Стеклов. Сил хватило добраться до Саниных дверей и позвонить.
Анна Александровна открыла дверь.
Илья сразу же упал. Руки он прижимал к животу, где под брючным ремнем сохранялся спасенный им «Федя».
Было одиннадцать вечера седьмого марта. Анна Александровна сделала, что могла: раздела Илью, отнесла с помощью соседа в ванну и дождалась, пока он откроет глаза. Потом вымыла большой лохматой мочалкой, осторожно обходя ссадины. Синяки покрывали тело, живот был сплошной синяк. Она подивилась еще и тому, что тощенький этот мальчик с совершенно детской мордой так хорошо снаряжен для мужской жизни. Из ванной он вышел сам, дошел до кушетки и рухнул. На него надели женскую ночную рубашку, накрыли пледом, дали крепкого сладкого чаю, а потом, подсунув под спину большую подушку, усадили и накормили супом. Он заснул.
Стекловы молча сели у стола.
– Нюта, я думаю, что сегодня много людей погибло, – шепотом сказал Саня бабушке.
– Наверное…






