Конец сюжетов: Зеленый шатер. Первые и последние. Сквозная линия (сборник) Улицкая Людмила
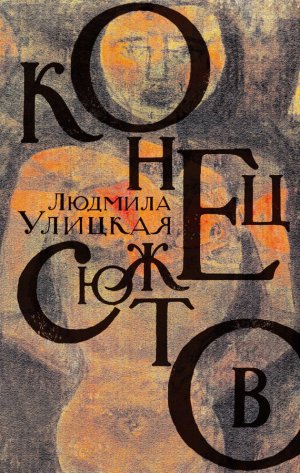
Но Маргошу несло, не остановишь:
– А Петр Первый при чем? Сумасшедший был! Сифилитик! Ладно, хоть император! Но Мишка твой вообще еврей! И чем он честный? Чем? Сколько ты из-за него говна скушала? Честный!
Марго теперь уже обращалась не к Верке, а к Эмке:
– Честный он! Слышать не могу! Сколько она абортов от него сделала, от честного! Сколько баб он успевал оприходовать, пока ты по абортариям корячилась! Да среди подруг ни одной не было, чтоб он не потыкал. Тьфу!
– Ну к тебе-то не приставал? – фыркнула Вера.
– Да почему ж не приставал? Ко всем приставал, а ко мне нет? Только ему у меня не обломилось! – гордо отрезала Марго.
– Ну и дура! Переспала бы с Мишкой, может, и с Веником получше бы пошло!
– Перестань. Мой Веник Говеный, но и твой Мишка тоже недалеко ушел. Старый бабник!
Шарик встал с трудом, подошел к Марго, вяло гавкнул. Верка захохотала:
– Девочки! Маргоша! Эммочка! При Шарике Мишку ругать нельзя. Загрызет!
Шарик понял, что его похвалили, подошел к хозяйке, раскрыл черную на малиновой подкладке пасть, ожидая награды. Вера кинула кусок французского сыра.
Марго, угасив ярость крови, выпила рюмку коньяку:
– Мне, Вер, обидно, он что хотел делал, изменял направо-налево, а ты его любила, все прощала. Я бы его убила! Если у меня муж, я его люблю, а он мне изменит, я его зарежу к чертям собачьим!Неужели в Америке, в другом свете, в городе Нью-Йорке, в одна тысяча девятьсот девяностом году происходит глупейший этот разговор, бабий, кухонный, того и гляди до драки дойдет, изумлялась Эмма, разглядывая старую свою подружку, которая почти не изменилась. Кем Марго была, тем и осталась – армянкой с азербайджанской фамилией, из-за которой армянская родня всю жизнь на нее косо смотрела. А отец, Гуссейнов Зарик, разбился в горах, когда Марго было всего шесть месяцев… Никуда не денешься, паспорт американский, а мозги все равно кавказские: всех накормит, все раздаст, а не поздравь ее с днем рождения, такой скандал поднимет, что до следующего года не забудешь… За-ре-жу!
– Марго, ты ничего не понимаешь! Дело только в тебе самой! Ты просто не умеешь любить! А когда любишь, то все прощаешь… Все-все…
– Но не до такой же степени! – взвизгнула Марго, встряхнула симметричными кудрями. – Не до такой!
Вера налила водки в стакан для воды, неполный, половину. В задумчивости держала его, смотрела на портрет наискосок от нее, и вроде как на нее обращен взгляд молодого Мишки, с послевоенным чубом, – таким она его не знала, позже познакомилась – от послевоенной, второй жены увела для своего, как казалось, единоличного употребления. И ошиблась, ой как ошиблась! Он и к военной жене Зинке бегал, о чем она знала, и к послевоенной, Шурочке, и еще к одной… Она смотрела светлым взглядом на портрет, на Марго…
– Дурочка ты. Послушай. Я Мишку любила всеми своими силами, и телом и душой. И он меня любил. Ты даже не понимаешь, как мы любили друг друга. Трезвыми любили и пьяными. И особенно – пьяными. Он был великий любовник. Он мне не изменял, он просто спал с другими бабами. И я его совершенно не ревновала. Ну, почти не ревновала, – поправилась она. – Только в молодые годы, пока не понимала… У него был талант любить. А когда этот цирроз на него накинулся, тут уж мы любили друг друга совсем без памяти, потому что времени почти не оставалось… Мы знали оба… Девчонка у него завелась в больнице, медсестра, влюбилась в него напоследок. А, да я все знаю, он и не скрывал. Переспал с ней. Потом говорит: «Нет, больше не хочу никого. Времени мало, выписывай меня, дома буду умирать. С тобой». И трахались – до слез. Он все говорил: «Какой я счастливый – с семнадцати лет на фронте, с сорок третьего года, – и выжил. Провоевал всю войну – никого не убил. В ремчасти был, танки ремонтировал… Бабы всегда любили. Сел в сорок девятом – из института взяли, – вышел живой. И опять бабы любили. И ты, радость моя… – так говорил, – радость моя! И ты, радость моя, меня полюбила. Молодая, девчоночка совсем, вцепилась в старого козла, своего не упустила, умница… Дай, – говорит, – быстренько створочки потрогать… а коленочки какие, а плечики какие, не знаю, за что вперед хвататься…» За два дня до смерти говорил… А мне-то уже за полтинник перевалило! Какие плечики, какие коленочки, ничего такого уж нет… Дура, дура ты, Марго, все ты проворонила, ничего не видела… Любить ты не умеешь, вот что, вот она, беда твоя. И Веник твой ни при чем! Ему не повезло, твоему Венику. Может, другая баба его полюбила бы и любить научила… Да что ты за баба, ботва одна…
Марго заплакала, сраженная пьяной правдой. Может… да? В ней дело было? Может, Веник и не пил бы, если б она его так любила, как Верка своего Мишку? Может, пил бы, но ее, Марго, страшно любил… И не было бы этого стыда и срама пьяных соитий, когда лежишь, исполненная ненависти, а на тебе девяносто килограмм дергаются, по-сухому бьют, как на кол насаживают, и грудь в синяках, как после побоев, бурые следы потом год проходили. И вонь перегарная, и запах низа, от которого тошнота подкатывает, и качает, как в трюме, и только бы до сортира добежать, чтобы выблевать все в его сияющее белое нутро… Что? Мало? Еще тебе? Убери свой дрын ненасытный! Куда? Еще чего?
И Эмка тоже заплакала: что же она наделала? Гошенька! Я люблю тебя, как никого не любила! Как никто никого никогда… Нет, нет, не хочу никакой новой жизни. Пусть будет эта, с вечно пьяным Гошей, с ежедневным отчаянием, с тревогой, с ночными поездками туда-сюда, «скорой помощью», со спасительной утренней четвертинкой, с горячим пирогом, в газеты укутанным. И с презрительным взглядом дочки: опять понеслась? И все – без надежды на какую-то нормальную жизнь, все – без отдачи, то есть без признания, без благодарности, безо всякого расчета, просто отдаешь – и все!
– Просто отдаешь – и все! И не думаешь, что тебе взамен этого дадут! – декламировала Вера, сияя пьяным светом и утробной бабьей мудростью. И разливала по стаканам, а не по стопочкам хрустальным. И прикуривала одну от другой, и заталкивала недокуренную сигарету в огромную пепельницу, пригодную больше для общественной курилки, чем для домашних нужд одинокой вдовы. Погасила сигарету, встала во весь большой рост, покачнулась, схватилась за край стола, и стол покачнулся, но не упал. Удержалась. И пошла, скользя по полу, как по катку, хохоча, придерживаясь за стену, в уборную.
– Напилась Верка, – прокомментировала Марго, и немедленно из ванной раздался грохот и громкое восклицание: упало сразу несколько предметов, среди них один – крупный. Маргоша и Эмма вскочили – бежать на помощь, но как-то не побежалось. Они наткнулись друг на друга, сдержав неуместный бег, и неверно пошли в ванную комнату. Там, на полу, барахталась Верка, растирая знаменитую коленку и приговаривая:
– Вечно разбросают тут тряпок на полу, потом спотыкаешься… Маргоша, ну что ты как корова, ей-богу, все флаконы мои перебила.
На полу и правда посверкивали мокрые стекляшки, и пахло духами, мощными, как противотанковый снаряд…
Верку подобрали с полу. Она немного буянила, но весело, и все требовала еще чуть-чуть добавить. Но бутылки все были пустыми – и обе водки, и коньяк, и ликер, и неизвестно откуда взявшаяся бутылка французского вина, которую выпили, не заметив ее выдающейся этикетки…
– Надо сделать обыск! У Мишки всегда было спрятано… В Москве, перед отъездом, гэбэшники делали обыск, так они бутылок спрятанных нашли больше, чем книг…
Вера открыла все ящики письменного стола:
– Правда, здесь я все обыскала уже не по разу… Но есть же где-нибудь! Мишенька! Ay! – обратилась она к портрету мужа, воздев длинные, слегка обвисшие в плечах руки.
Потом встала на колени, но не перед портретом, а перед книжным шкафом, отодвинула стекло и начала с нижней полки вытаскивать книги ползущими стопками. Оголила нижнюю полку – ничего там не было.
Эмма с Маргошей стояли, упершись друг в друга, как два склоненных друг к другу дерева, толстое и тонкое. Маргошу обуяла икота.
– Попить надо, – посоветовала Эмма.
– Да я ищу. Должно же быть где-то. – Вера лежала на полу, на спине, и сбрасывала книги ногой, уже со второй полки снизу. Одна книжка распалась надвое и звякнула. Книжкой она только прикидывалась, это была одна обложка, а в ней стояла бутылка, початая бутылка водки.
Вера схватила ее, прижала к груди:
– Мишенька! Дружок ты мой верный! От меня прятал! Да чего от меня прятать-то? Вот она я!
И они разлили эту последнюю водку, от Мишеньки привет, и больше пить уже не могли. Совершенно не могли. Потому что полны были алкоголем до самого края, до верхнего предела женской возможности; Верка, перед тем как отключиться, велела отвести ее в Мишкин кабинет и, пока ее вели туда, совершала свои последние пьяные признания, а может, и не признания, а только мечтания:
– А меня на кушеточку, к Мишеньке в кабинет. А я себе кавалера завела, пуэрто-риканского паренька, справный такой. Так я его непременно на эту кушеточку заваливаю. Здесь Мишкой пахнет. А Мишка смотрит, как он меня… тридцать пять лет ему, молодой… как он меня дерет… Мишка радуется… Радуйся, говорит, моя радость, радуйся! Вот как он говорит…
Маргоша потом долго вспоминала, говорила Верка про пуэрто-риканского любовника или по пьяному делу причудилось…
Верку взвалили на кушетку. Шарик, давно уже здесь храпевший, недовольно подвинулся, и Маргоша с Эммой отправились в спальню, где еще до начала праздника расстелена была для них супружеская постель, широкая, как Веркина русская душа, и такая же мягкая…
Марго, последняя порядочная женщина на континенте, которая еще носила кружевную комбинацию, целомудренно вытащив из-под нее лифчик, плюхнулась в ностальгическую перину, эмигрировавшую вместе с Веркой из московского пригорода, из Томилина, где и по сей день на таких же перинах спали Веркина мамаша и две старших сестры. Эмма сняла с себя все, голая скользнула под простыню, и тотчас же все закачалось и начало проваливаться то в одну сторону, то в другую…
– Ой, как плохо, – простонала она.
– А кому хорошо? – отозвалась Маргоша. – Главное, ты не засыпай, пока не пройдет. Бедный Веник, неужели ему каждый день вот так плохо было?
– Еще хуже, – прошептала Эмма. – Утром всегда еще хуже, чем вечером. Бедный Гоша…
На Маргошу напала вдруг такая неизъяснимая нежность, непонятно даже к кому, чуть ли не к Венику Говеному, и она шмыгнула носом, потому что слезы готовы были поползти, и обняла Эмму за худую спину. Она была тонка, как рыбка, и такая же гладкая, только не мокрая, а, наоборот, сухая, как печенье, и скользила под рукой. И Маргоша начала гладить ее, сначала по спинке, потом немного по плечам, и на нее наплыла такая горячая, такая сильная волна, и понесла ее в неизведанном направлении… Эмка только стонала, все «ой» да «ой», но лежала тихонько, совсем не двигаясь, а Маргоша, приподнявшись, гладила по незначительной груди и дивилась, почему так прелестно ее трогать, как будто все это подростковое тело только для глажки и сделано. Она приложилась губами к ее шее, и кожа ее пахла не взрывными Веркиными духами, от которых по всей квартире стоял смрад, как от горелого молока, а чем-то таким, от чего дух захватывает до самой сердцевины. Ну да, именно до сердцевины. И Маргоша чувствовала, как будто внутри живота у нее распускается какой-то цветок и стремится к Эмке, и она плавилась от наслаждения, и прикоснулась к Эмкиной груди сначала губами, а потом пальцами нежно, около кнопки соска…
А Эмка стонала, плыла неизвестно где, и желудок ее качался отдельно, и очень хотелось блевать, но для этого надо было остановиться, сделать какое-то усилие, но качка была такая сильная – не остановишь… А что чьи-то руки ее гладили, она не чувствовала, все ощущения сосредоточились в желудке и немного в горле…
А цветок Маргошин набухал и готов был вот-вот раскрыться, она прижалась животом к Эмкиному боку, а пальцы ее наслаждались прикосновением к плотной Эмкиной груди… такая плотная железа… нижняя доля пальпируется… и тяж вверх к соску… и слева – второй… уплотнение, и еще одно… классическая картина… канцер! Можно без биопсии – на стол. Маргошу подбросило.
– Эмка! – заорала она. – Эмка, вставай! Вставай немедленно!
Хмель слетел, как не бывало. Все слетело… Она стояла в желтой кружевной комбинации, с обвисшими и совершенно здоровыми грудями, маммографию два раза в год делала, как цивилизованная женщина, подхватила Эмку под мышки, устанавливала ее на тряпичные ноги, трясла и продолжала орать:
– Да стой ты, чертова кукла! Ровно стой! Руки разведи вот так! Да подмышки мне твои нужны, а не локти! Плечо держи!
И цепкими пальцами впивалась в сухую подмышечную впадину, влезала в самую глубину – лимфатическая железа слева была уплотнена, увеличена, но не очень сильно. Справа железа была спокойная. Нажала на левый сосок.
– Ой! – отозвалась Эмма.
– Больно?
– А ты думала… – буркнула Эмка и завалилась на кровать.
Пальцы у Маргоши стали влажными.
– Слушай, у тебя выделения из соска давно?
– Отстань, меня и так тошнит. Дай попить.
Маргоша поволокла ее в ванную. Эмму вырвало. Потом она пописала. Потом Марго запихала ее под холодный душ. Сегодня в клинике дежурил Мортон, самый лучший из врачей. Старик опытный и симпатяга. Повезло.
Марго вытащила Эмку из-под душа. Та смотрела совершенно осмысленно.
– Быстро собирайся, едем ко мне в клинику.
– Маргоша, ты с ума сошла, что ли? Никуда не поеду. У меня сегодня выходной.
– У меня тоже. Быстро собирайся. У тебя в молочной железе черт-те что. Срочно надо проверить.
Эмка сразу все поняла. Сдернула с вешалки полотенце, вытерлась насухо. Потыкала пальцем в левую грудь.
– Здесь?
Маргоша кивнула.
– Чайник поставь и не пори горячки. Как ты думаешь, если я в Москву позвоню, это очень дорого?
– Звони. Знаешь, как набирать?
Марго принесла трубку. Эмма набрала код, потом московский номер. Гоша долго не подходил.
– Который там сейчас час? – опомнилась Эмма.
– Здесь полшестого, плюс восемь. Полвторого, – вычислила Марго.
– Гоша! Гошенька! – заорала Эмка. – Это я! Эмма! Да, из Нью-Йорка! Я все отменяю! Я наш развод отменяю! Это глупость была. Прости меня! Я тебя люблю! Ты что, совсем пьяный? И я! И я тоже! Я скоро приеду! Ты только люби меня, Гоша! И не пей! Я хочу сказать – много не пей!
– Мне полчаса надо, чтоб собраться. Нет, сорок пять минут. Я такси на шесть пятнадцать заказываю. – И Марго взяла трубку из Эмминых рук.
– Слушай, а зачем такая спешка? Что, правда, так срочно?
– Срочнее некуда.
В дверях стоял Шарик, которому по старческому делу сильно приспичило. Стоял и ждал и улыбался, вывалив умильно язык. До прихода такси надо было этого старого дурака вывести…Цю-юрихь
Три полных рабочих дня просидела Лидия на лавочке с раскрытым учебником немецкого языка. Оказалось, что все она рассчитала правильно и свой отпуск потратила не зря. К концу третьего дня из выставочного павильона вышел загорелый полненький мужчина, окруженный тонким сиянием, и сел рядом с ней. Сиял он, однако, не сам по себе, а переливчатым серо-голубым пиджаком. Пахло от него бодрой сосной, туфли на нем были женского серого цвета, в фасонистых дырочках. Всю эту картину, включая дырочки, Лидия ухватила первым же цепким взглядом, даже заметила рахитичный, выступающий немного вперед лоб и красную жилку в левом глазу. Она уткнулась в раскрытый учебник, придерживая его с поворотом, чтобы обложка была видна.
Мужчина, по-рыбьи раскрыв рот, немедленно сглотнул наживку:
– О, ди дойче шпрахе!
И заулыбался. Далее разговор потек ручейком тонким, но уверенным. Господин сообщил, что он швейцарец из Цюриха, представитель фирмы, производящей краски, имеет дом в пригороде и любит животных. Лидия, со своей стороны, рассказала о себе – этот рассказ она давно уже подготовила, выучила наизусть и отрепетировала: педагог, работает с детьми, занимается немецким языком на курсах, понедельник, среда, пятница, просто для удовольствия.
– В немецком языке мне очень нравится порядок, все на своих местах, особенно глаголы…
Швейцарец расплылся – о, он тоже изучал иностранные языки и тоже считает, что немецкий самый рациональный…
Сотрудники наружного наблюдения заняты были свыше всякой меры: выставка международная, со всего города съехалась фарца, грудастые ласточки, пионерки международного бизнеса, привезли свой свежий товар в шелковых розовых трусиках на грубых резинках. Лидия могла быть совершенно спокойна – никому бы в голову не пришло, что и она здесь на охоте.
Действительно, к налетевшим сюда девушкам она не имела никакого отношения. Возрасту ей было за тридцать, красоты за ней никакой не водилось, напротив даже, нижняя губа была вытянута вперед лопаточкой, нос несколько нависал, и, вращайся она в европейских монархических кругах, губа ее считалась бы габсбургской, но поскольку она была родом из деревни Салослово, то прозвище у нее с детства было Лидка-гусыня. Двумя заметными ее достоинствами, кроме немецкого языка, были густые, в светлый слоистый пучок уложенные волосы и тончайшая талия, еще и утянутая широким лакированным ремнем до состояния полуперепиленности.
Разговор шел неторопливо и весь в нужном направлении, но в какой-то момент швейцарец взглянул на свои швейцарские часы, и Лидия испугалась, что он просто так встанет и уйдет, сказавши ей ауфвидерзеен. Но он видерзеена не сказал, а, напротив, предложил посмотреть на его стенд и выпить чашечку кофе.
Лидия скромно улыбнулась, сверкнув двумя золотыми зубами в глубине узкогубого рта, убрала учебник и на мгновение задумалась: в сумочке у нее лежали перчатки, белые, нейлоновые, с оборочкой, точь-в-точь как на блузке – надеть, что ли… Перчатки – это шикарно, но не слишком ли… Не решившись их натянуть, она все же вытащила их и сжала в горсти.
– Моя гостья, – кивнул швейцарец охраннику, и Лидия, поигрывая перчатками, прошла за ним следом.
Он ввел ее в закуток своего стенда. Сердце Лидии зашлось от восторга, так весело ей было смотреть на образцы малярных красок, которыми торговал полненький швейцарец.
– Как красиво! – воскликнула она, и в искренности ее нельзя было усомниться. Хотя среди многих ее достоинств, включающих даже и простодушие, искренности как раз и не было. Скорее она была хитровата. Вот именно, простодушна и хитровата. Но если говорить о стратегии ее жизни, то именно в данном случае она собиралась хитрить, и охмурять, и даже обманывать. Ничего этого ей и не понадобилось – господин ей ужас как понравился.
«Не расслабляться, только не расслабляться», – скомандовала себе Лидия.
Он предложил ей сесть, сам присел, слегка сгорбившись, в роскошное кресло красной пластмассы и неопределенно улыбнулся. С чего это он пригласил в павильон эту незнакомую женщину, вроде не клиент, и собой нехороша…
– Вам нужен массаж. У вас остеохондроз! – воскликнула она решительно и, не давая опомниться, вцепилась ему в холку и забегала маленькими крепкими ручками по толстому загривку. Он от ужаса зашелся. Сидел, выпучив глаза и хватая воздух.
Лидии катастрофически не хватало немецких слов. Слова «расслабиться» она не знала, но понимала, что инициативу никак нельзя упускать и нельзя молчать, надо что-то говорить. И она говорила. Сначала она пересказала текст из учебника по истории Москвы, потом биографию Пушкина. Между делом она сняла с него переливчатый пиджак, похвалила материю. Он пытался протестовать, но под ее напором быстро увял и таки расслабился.
– Я имею диплом массажиста – массаж физкультурный, массаж лечебный, я даже изучала китайский массаж, – заявила она. И, видимо, не соврала: движения ее были уверенными и энергичными.
Ему и в Швейцарии приходилось иногда принимать сеансы массажа, дело это было недешевое. И насчет остеохондроза она была совершенно права – был у него остеохондроз.
Минут пятнадцать она гуляла по нему своими пальчиками, и очень приятно, только дверь была приоткрыта и он немного беспокоился, не увидит ли кто из посторонних. Но никто не сунулся, и, когда она закончила, приятно обхлопав его через рубашку, ему ничего не оставалось, как поблагодарить. Дама была в высшей степени странная – но милая, решил он.
Настало время кофе. Он покрутил разогревшейся шеей, решил, что, кроме кофе, угостит ее еще и шоколадом. Был у него запас и плиточного, и в конфетных изделиях – для угощения хороших клиентов.
«Главное – не терять инициативу», – сосредоточилась Лидия и, пока швейцарец готовил кофе, составляла в уме приглашение.
– Я буду рада пригласить вас ко мне на обед. Я имею диплом повара, – объявила Лидия. – Кухня европейская, кухня народов СССР, диетическое питание. Я имею разрешение работать поваром в ресторане.
Это было очень хорошее попадание. Швейцарец давно уже мечтал завести собственный ресторанчик, но обстоятельства жизни препятствовали.
– Так вы массажист или повар? – вполне живо поинтересовался швейцарец.
– И то и другое. Хотя в настоящее время я преподаю историю нашего города, – сказала она со скромной гордостью. – Я педагог.
Все в точности соответствовало действительности. Лидия второй год вела краеведческий кружок при районном Доме пионеров. Зарплата была никудышная, но зато оставалось много времени для многочисленных ее занятий, а деньги она зарабатывала то шитьем, то вязанием, то продажей кое-чего. Да и что деньги, много ли в них проку. Лидия с детства жила за интерес. И главный в жизни интерес был у нее учение.
– О, я с удовольствием приду к вам на обед, – засиял швейцарец и вынул не ту коробочку с конфетами, которую сначала собирался поставить, а другую, побольше. Лидия показалась ему интересной.
Начала Лидия с занавесок. Как пришла, сразу сдернула все занавески – и в таз. Стирку Лидия любила больше всех других хозяйственных дел. Считала, что это занятие успокаивающее, и, когда случалась неприятность или просто было плохое настроение, она бралась за постирушку. Но теперь как раз у нее настроение было отличное, боевое, как перед важным экзаменом. И что-то подсказывало ей, что, как и все другие экзамены, – а сдала она их сотни, – и этот, нешуточный, она сдаст. Только бы швейцарец пришел…
Она сразу же, еще до дому не доехав, поняла, что дала промашку, неправильно с ним уговорилась: надо было бы так, чтоб за ним заехать. А то мало ли что, забудет или дела, Большой театр или ресторан «Националь»… Какие у них, у иностранцев, еще заботы в Москве? Ну Третьяковская галерея…
Пока стирала занавески, Лидия всю программу досконально обдумала. Конечно, без Эмилии Карловны не обойтись. У нее надо позаимствовать кое-что для приема. На закуски не напирать, икру, конечно, купить, ну граммчиков двести осетрины горячего копчения, а в основном – настоящий русский стол… уха, пирожки… может, курник… бефстроганов тоже неплохо… но и не перемудрить. В общем, задача… И что надеть? Тоже момент очень существенный – не упустить бы самого важного…
Два дня Лидия рук не покладала. Все успела: и в «Прагу», и на Центральный рынок, и к Эмильке за серебром. Эмилька бровь подняла: мол, зачем это, не понимаю, но отказать не отказала – вынула из горки два серебряных прибора, две лопаточки, две вилочки, вазу для фруктов в два этажа, с пикой наверху. Лидия знала, как ее снаряжать правильно: виноград наверх кладешь, одну кисточку, и свешиваешь немного занавесочкой такой… Вниз же два персика, грушу и слив штук пять. И никаких яблок. Другое дело, была бы зима, тогда яблоки антоновские, и не на вазе, а моченые, в капустке с клюковкой… И икорницу эмалевую попросила – вот глаза-то выпучит!
А откуда все это Лидия знала, все эти большие тонкости про сервировку стола, про стирку, подсинивание и подкрахмаливание и про то, как правильно мужскую сорочку сложить, и как на зиму вещи сохранить от моли, и как таблетку ребенку раздавить, а потом – на кисель, и многое другое, то это отчасти от Эмильки, которая всему ее сама обучила, отчасти из курсов, а остальное из воздуха, само собой, потому что красоты у Лидии не было, зато ума палата. Это она про себя давно знала. Из всех людей, с кем она была знакома, одна только Эмилька была ее умней, а про других, бывало, покажется, вот, умнейшая женщина, а потом все же оборачивалось, что не умней ее, Лидии. Хотя про себя Лидия знала: кое-какие глупости по части мужиков она себе позволяла – и с Колькой, и с Геннадием. Но давно. Теперь на нее нашло озарение, что она всю жизнь не в ту сторону смотрела, куда надо бы. Но, как известно, лучше поздно, чем никогда.
Опаздывал Мартин уже на полчаса, и Лидия, в чистейшей своей квартире, в белейшей блузке, перед накрытым столом, все металась от двери к окну и себя ругала на чем свет стоит: как это она глупо договорилась, знать бы заранее, что так будет, лучше было бы заехать за ним в Сокольники, на самую выставку, и сюда приволочь…
Но сколько Лидия ни нависала над окном, гостя своего она пропустила, потому что он не с той стороны зашел, с переулка. Сбился от метро «Бауманская» не на ту сторону, дурачок, и по жаре сорок минут топал туда-сюда, пока две школьницы его на нужное место не вывели.
Он позвонил в дверь и был с цветами, розами. Штук не три, пять, семь, а двенадцать – не по-нашему. Стоит в дверях весь мокрый, со лба течет, и рот открыт, дышит сильно… «Сердце не очень-то», – сразу с беспокойством подумала Лидия. Глаз у нее был наметанный, и медицинские курсы она тоже проходила, тогда на массаж без медучилища не брали, а ей массаж позарез как хотелось…
– Ихь варте инен зо ланг… – вот что сказала Лидия, а он – извиняться. Но глазами так и ходит, так и ходит…
Разрешите, говорит, снять пиджак..
Пиджак опять серый, но другой, без сияния. Снимает. Лидия его на руки принимает, а он гладкий, как шелк. Может, правда шелк? Швейцария – самая богатая страна. Эмилия еще когда говорила, что там у них банков больше, чем у нас пивных… На голубой рубашке у Мартина – подмышки и спинка синие, вспотел, бедный. Вот, ванной-то нет. Дом пролетарский, спасибо, хоть уборная своя, отдельная.
И тут на Лидию как вдохновение нашло. Присаживайтесь сюда, минуточку… Он сел в кресло, куда она ему указала, и смотрит на ее стол, как на музейную витрину, рот опять слегка открыт, видно, привычка у него такая.
А Лидия – шасть на кухню, и в таз воды до половины, и вносит небольшой такой тазик на вытянутых, и ставит на пол, прямо перед ним. А потом присела аккуратненько, разрешите, извините… и снимает с него серые ботиночки и носочки, тоже серые…
Швейцарец глаза выпучил и губами шлепает: вас? вас? А ни вас… У нас, говорит Лидия, так принято: в жар холодная ножная ванна исключительно полезна… И компресс прохладный на лоб… Я, говорит, как медработник это знаю… По-немецки, кой-как, но он все понял, головой своей лысой кивнул: я-а, я-а…
А ножки, ножки какие, какие пальчики. Маникюр, что ли, на ногах делает? Как вспомнила Колькины копыта, прель на ногтях, ничем не выведешь, – от сапог, он все говорил. От сапог вся вонища-то, мой не мой – без разницы. Хоть кирза, хоть хром, который мужик в сапогах, само собой воняет…
Лидия, как пальчики его увидела, все сразу наперед поняла: сейчас жизнь решается.
Улыбается Лидия тонко. От улыбки нос совсем на губу налезает. Не красит. Да она умная и это знает – улыбается, головку опускает и чуть отворачивает. Мы, говорит, на Востоке живем, у нас в России так принято.
Он что-то в ответ, но сложновато говорит, вроде одобряет, а слова непонятны. Ничего, ничего, все слова выучу, подумаешь… Вон, словарь-то на полке, большое дело.
Ногу на полотенце, промокнула, носочек натянула, расправила, второй… Ботинок мягкий, гладкий, из чего они их делают, такую кожу да хоть на рожу… А лицо у него – нет лица: одно изумление и непонимание. Вот и хорошо – удивила.
Салфетка – в кольце серебряном, на вилке – монограмма немецкая. О-о… Готический шрифт… Ка Эр…
Да. Кристина Рунге, моя бабушка из Риги… Кристина Рунге – бабушка Эмилии Карловны. Значения не имеет. Швейцарец бровь поднял: очень интересная женщина, однако.
Приятного аппетита. Закуски, пожалуйста, – на чистом немецком языке. Все эти маленькие застольные словечки Лидия наизусть знает с первого года, как пришла к Эмильке в прислуги. Эмилька тогда пятерых деток держала, вроде частный детский сад. Этих первых она отлично помнит, еврейские детишки все как на подбор: две сестры – Маша и Аня, Шурик, Гриша и Милочка. Их утром приводили с судочками, всех к девяти, а Милочку к половине десятого, прадед, старый, как мох на пеньке. Эмилька их гулять вела на скверик, а к половине двенадцатого обратно, Лидия их раздевала, ручки мыла, в комнату вела. До обеда полчаса, пока Лидия судочки грела, в немецкое лото играли и только по-немецки говорили. Их хабе нуммер айнундцванциг… И обедали по-немецки. Гебен зи мир битте… Данке… энтшульдиген… дас ист гешмект…
Потом Лида посуду мыла, а у детей мертвый час: девочки – на большую кровать, втроем, Шурика на кушетку, Гришу – на кресло-«дешез». Спят не спят – значения не имеет. Главное – ни слова, мертвый час. Это дисциплина такая. Встали, умылись – чай. К чаю печенье, это Эмилька от себя давала. Лидия это печенье хоть с закрытыми глазами: два желтка стереть с полстакана сахара, сто грамм шоколадного масла добавить…
О, икра! Да, пожалуйста… Икра бывает астраханская и бакинская. Эта астраханская, я ее предпочитаю. Она не черная, а серая, и зерно помельче. Очень нежная. Пожалуйста, пожалуйста. Берите масло. Вологодское масло. Попробуйте – вкус ореха чувствуете? Самое лучшее масло в России. Я знаю, что швейцарские молочные продукты очень хорошие. Но это русское масло превосходное. Перфект. Зеер перфект. Калач – особый русский хлеб. Айн руссише бротхен. Маленькая рюмка водки. Маленькая. Будьте здоровы! Прозит!
Он берет всего помалу, на язык пробует, к десне прижимает, лицо осторожное – ну точно как Эмилька. Может, он тоже из латышей? Головой кивает, руку в сторону отвел.
Угорь. Первое слово в любом немецком словаре. Ааль. Обитает в Балтийском море. В Швейцарии ааль не водится, не правда ли?
Помидор, фаршированный овечьим сыром. Это болгарское блюдо. Я изучала на курсах кухни народов мира. Какое популярное швейцарское блюдо? Фондю? Лазанья?
Нет, это во французской Швейцарии. Мы живем в немецкой, в моем регионе любят картофельный пудинг. Это я должна посмотреть в словаре…
Исключительная женщина. Какие красивые волосы. Если распустить, это целое богатство, наверное, ниже пояса.
А как он ел! Медленно, аккуратно, салфеточка на коленях, ножом-вилкой не гремит. Как будто его сама Эмилька учила. Не для утоления голода, а просто для красоты, ну как на пианино люди играют или танцуют. Наши так не едят, хоть убей их. Но Лидия как раз умеет, всему у Эмильки научилась.
Закусочные тарелки унесла на кухню. По дороге завернула к вешалке, понюхала его пиджак, вдохнула, – и аж низ загорелся.
Пока она на кухне уху из кастрюльки в супницу переливала, Мартин все решал задачу: ничего у него не сходилось – угощение невиданное, он икру и не пробовал никогда в жизни, и в голову не приходило, сервировка царская, музейная, можно сказать, а квартирка-то нищенская, убожество. Загадочная женщина… А ноги? Как она ему ноги помыла! От нее многого можно ожидать… Он восемь лет ходил к одной польке, пока на Элизе не женился, и двести франков ей давал, так она даже бутылки минеральной воды ни разу не купила, он все приносил сам – и воду, и кофе, и печенье… Не зря говорят: загадочная русская душа.
Он не такой молодой потом оказался, хотя свеженький, полненький, лет ему уже сорок восемь было. Но лицо очень гладкое, совершенно без морщин, загар ровный. Только темечко лысое. В остальном же очень, очень приятный мужчина. Там, в Швейцарии, как выяснилось впоследствии, все такие, приятные, чистенькие, порядочные, – это Лидия уже потом узнала.
В тот момент она только одно понимала: здесь таких не бывает, и хоть сто лет ищи, здесь ей такого не достанется. Может, у артисток или у певиц такие мужчины, но она лично здесь таких не наблюдала ни у Эмильки в доме, ни в поликлинике, ни в педучилище, ни в университете марксизма-ленинизма. Нигде.
Рыбный, рыбный стол. Разве швейцарца мясом удивишь? Уха стерляжья с расстегаем… Но и не слишком. Кабачок – легкое овощное блюдо. Соус бешамель.
Если иметь такого партнера, как эта Лидия, то ресторан можно открывать хоть завтра. Не в центре Цюриха, конечно, но в каком-нибудь приятном месте, вроде Цолликон или Кильхберг… Лидия – приятное имя… Изящное имя. И фигурка изящная. Талия… Все-таки есть прелесть в небольших женщинах. Элиза, с ее ростом, шириной, никогда не выглядит изящной. Он поморщился.
Лидия встрепенулась: вы не любите овощи? Очень люблю. Особенно картофель. Знаете, я рос в деревне, и была война. Не думайте, что, если Швейцария не воевала, мы жили очень хорошо. Мы плохо жили во время войны. Еда была картофель и молоко. Здоровая еда. Но крестьянская, простая. И мало. Вы потрясающе готовите. Вы не работали в ресторане? Могли бы быть шефом.
Нет, я готовлю только для друзей, я очень люблю угощать друзей. Вот, получай, немчура. В России люди ходят в гости очень часто, угощают друг друга, пекут пироги.
У вас много друзей? Не очень. Я люблю все самое лучшее, поэтому у меня не очень много друзей. О да, качество имеет большое значение. Это основа всего – качество. Фирма, которую я представляю, существует шестьдесят лет, потому что производит краски очень хорошего качества.
Фирма принадлежала Элизе, и здесь был корень всех зол. Если бы фирма была просто чужая, ничья, хозяйская… Или если бы фирма принадлежала ему, Мартину… Но он был в таких крепких объятиях своей лакокрасочной супруги, что иногда просыпался от ужасного сна, будто влип в краску и не может из нее вытащить ноги, старается, рвется, а потом замечает, что ноги-то не его, а мушиные…
Разрешите? Она прикоснулась прохладной рукой к его предплечью, когда забирала тарелку. Кофе? Чай?
У него была такая мысль еще перед отъездом, что в Москве он непременно возьмет русскую проститутку. Но оказалось, что таких учреждений, как, скажем, в Амстердаме, где однажды он взял себе очень интересную китаянку, здесь совсем нет, а с улицы женщину брать было страшно. Хотя они во множестве ходили по выставке, да и возле гостиницы «Москва», где он остановился, их тоже было немало. Но все они были как-то слишком молоды и вызывали подозрение, что с ними можно вляпаться в какую-нибудь скандальную историю. А об этом его еще в Цюрихе предупреждали. Лидия же была явно порядочная женщина, с икрой и со столовым серебром. Но все-таки, когда она прикоснулась голой рукой к его голому предплечью, он догадался, что может быть… И от одной этой мысли он сразу же завелся. Спросил, где туалет. Лидия его проводила. Все очень чистенько, но ужасное убожество… Зато икра… Ему пришлось немного подождать, прежде чем он смог помочиться. В общем, женщина эта его заинтересовала. Несомненно.
Раковина была на кухне. Он вошел туда. Лидия стояла к нему спиной, склонилась длинной шеей над плитой, где у нее варился кофе. Два маленьких колечка волос завивались на шее. А ноги у нее были просто прелесть какие, с тонкой щиколоткой, с балетным подъемом. Каблучок высокий… Он подождал, пока она выключит газ и снимет кофе, и положил ей левую руку на талию, а правой приблизил к себе. Она опустила лицо ему на плечо, и он понял, что сейчас все получится, и даже отлично получится, потому что с Элизой у него тоже все получалось, но кое-как, а тут было такое вдохновение…
Он трудился над Лидией до позднего вечера, он выполнил свою месячную нормy. Он никогда не ощущал себя гигантом, но в этот день в нем что-то открылось гигантское из-за этой женщины с тонкой талией, необыкновенной женщины, загадочной, с черной икрой и без ванной, даже без душа, с серебряными приборами и небритыми подмышками, и такой при этом образованной: по всем стенам висели дипломы в рамочках, по меньшей мере восемь, и с бабушкой Ка Эр, да еще готическим шрифтом… А телефона обыкновенного нет…
Да, да, швейцарские женщины, конечно, просто коровы… польки алчные… китаянки – продажные… а эта русская Лидия – настоящее чудо, просто загадочная русская душа… Откуда он это взял, кто это говорил: может, их великий писатель Лео Толстой или школьный учитель из Нидердорфа…
А потом, поздней ночью, они опять ели черную икру с маслом и калачом и пили шампанское – вполне приличное шампанское… Если она учительница, откуда у нее шампанское?.. И завтра, уже сегодня уезжать, а он даже не может сделать ей хороший подарок… Она, судя по всему, из очень порядочной семьи, может быть, из аристократов. Такая интересная внешность, и во всем виден человек со вкусом. И как при этом готовит! В России было много аристократов, это не Швейцария, у них и графы, и князья, и бароны… А может, наоборот, она секретный сотрудник из КГБ? Выслеживает его по заданию? Даже в яйцах от такой мысли похолодело. Нет, не может быть…
Лидия бесстрашно поехала провожать его в Шереметьево. Там было торжественно и сильно пахло заграницей. Они, конечно, обменялись адресами, но это был дым, дым мечты, и не имело значения. А значение имело только то, что Лидия побыла счастливой, как никогда в жизни, но уже понимала, что последние секундочки ее счастья отшлепывают и потом никогда в жизни не встретит она этого Мартина, такого необыкновенного, таких вообще мужчин нет, у него даже пот не пахнет, просто как у ангела…
В самолете Мартин мгновенно заснул и проспал до самого Цюриха. А Лидия как села в автобус до аэровокзала, так и проплакалa до самого дома, и в метро, и пока по переулкам до подъезда шла.
Дома Лидия умылась, вообще-то она была не плаксивая, доела икру – немного еще оставалось, все помыла, почистила, собрала посуду Эмилькину и серебро, завернула каждое в отдельную газетку, переложила жгутами бумажными, чтобы не переколотилось. Приготовила сумку – завтра перед занятиями Эмильке завезти…Как Мартин уехал, сразу навалилось много работы: два массажа прибавилось, директорша Дома пионеров заказала платье из мохера связать, то она все лето сидела в кабинете по внешкольному воспитанию да зевала, а теперь ребятишки стали к концу каникул собираться, каждый день заглядывали. Но главное дело был теперь немецкий язык и открытки. Лидия так решила: на новые курсы – раз и открытки с русской картиной-репродукцией или с видом природы – два.
Посылала еженедельно: открытку в конверт, красивую марку налепит, а на открытке несколько предложений, типа «Здесь представлен один из самых красивых видов нашей северной природы. Желаю Вам счастья, здоровья и успехов в работе. Лидия» или «Картина знаменитого русского художника Сурикова “Утро стрелецкой казни”. Посвящено историческому событию, когда молодой царь Петр Первый разгромил заговор сестры Софьи. Желаю Вам счастья, здоровья и успехов в работе. Лидия». С одной стороны, культурно, с другой – ненавязчиво. Но о себе напоминает.
Открытки шли не на домашний адрес, а на какой-то бокс. И, по странной прихоти почтовых служб, Лидины открытки доходили адресату через две недели, а она получила от него первое письмо почти через два месяца. Вроде и уверена была, что получит, но и за чудо считала. То есть так, уверена была, что произойдет чудо и получит она письмо от Мартика. Так она его с первого дня про себя называла.
Лидия запомнила в подробностях весь тот день, то утро, когда достала из ящика этот белый, как обморок, конверт, с гористой местностью на марке и черным тонким почерком написанным адресом, ну совершенно как в кино. Она сняла с руки кожаную перчатку, и голой рукой взяла конверт, и, хотя времени было только, чтоб не опоздать на работу, поднялась домой, сняла пальто, ботики и села за стол – читать письмо. Но первое, что из конверта вынулось, была фотография: Мартин в белых трусах до колен и в белой майке стоит возле загородочки, а в руках у него теннисная ракетка. Ну просто сердце останавливается…
А какое там было письмо! Какое письмо! Обращение ровно в середине “Meine liebe Lidia!”, поля – как будто невидимой полоской отчерчены. И каждое предложение с новой строки. И, что странно, хотя написано все очень четко, ни одного слова не разобрать. Все буквы как-то не так у него прописаны.
В общем, она письмо завернула, в большой пакет положила и побежала на работу, потому что в тот день с утра была краеведческая экскурсия на фабрику «Красный Октябрь» с шестиклассниками.
Вечером Эмилия Карловна сначала долго письмо крутила, изучала со всех сторон и посмотрела на Лидию с новым интересом: девчонку она, можно сказать, своими руками сделала. Снимала дачу в Подмосковье, году в пятьдесят восьмом, – Иван Савельич еще жив был, точно, в пятьдесят восьмом, – и племянница хозяйки, сирота Лидка откуда-то из Белоруссии, прислуживала там по хозяйству. Девчонка тихая, забитая, совершенно без всяких способностей – сначала так показалось Эмилии Карловне. А в последний день, перед отъездом, все-таки решила взять ее с собой. Предложила хозяйке, как звали… не помню, нет… Настя ее звали, та с охотой девочку отпустила. Ей шестнадцати еще не было. Паспорт она уже в Москве получала, Иван Савельич, отставной полковник, сделал через свой отдел кадров. Прописал же он ее вроде как на заводское общежитие. Но жила она у них, при кухне.
Теперь Эмилия уважительно держала это письмо и смотрела на Лидию как бы новыми глазами: молодец, молодец, девочка! Из никудышных обстоятельств, совсем из ничего, построила ведь очень неплохо: образование, своя квартира, даже внешность свою невыгодную облагородила, имеет стиль, в конце концов. Если откровенно говорить, родная дочь Лора не достигла такого положения, в относительном исчислении… Эмилии Карловне хотелось рассказать Лидии, что она бывала в Цюрихе до войны, с бабушкой, и в Женеву ее возили, и в Париж, но привычка никогда никому ничего о себе не рассказывать была слишком сильна. С сорок пятого года, как повстречала Ивана Савельича, так и поняла, что главное в теперешней жизни – молчать. Очень, очень присох к ней Иван, но ведь и ему, капитану НКВД, не рассказала Эмилия о себе ничегошеньки. Так, девочка из бедной латышской семьи, папа – квалифицированный рабочий был. О, у нас в Латвии всегда ценили профессионалов. Он был слесарь-инструментальщик, первый класс! Иван, сам из рабочих, это уважал… А что папу убили партизаны, когда он служил у немцев начальником латвийской зондеркоманды, осуществлял программу «юден-фрай» с большим вдохновением, так этого ему не говорила…
И Лидка – тоже молчунья. Знала, да не говорила. Тоже свой секрет содержала в молчании. Отец ее был арестован после освобождения Белоруссии Красной армией и расстрелян в сорок четвертом за какие-то грехи против советской власти. Лидия не то забыла, не то ничего и не знала. Одиннадцать детей после него осталось да выгоревшая изба. Из одиннадцати трое выжили. И видеть друг друга не хотели, разъехались, развеялись. Говорили, старший брат военным стал, а сестра где-то не то в Нальчике, не то в Пятигорске жила. Все – забыто навсегда. И у Эмилии, и у Лидии.
Но Эмилия – почти красавица была, рост, грудь за пазухой пузырем, надо лбом – валик из крашеных волос, и зад как груша… как две груши. Иван Савельич на квартире у нее стоял, пока ему государственную не предоставили. А на государственную он уже с Эмилией переехал. И Лору, Эмилькину дочь, принял, а потом и фамилию дал.
Все старое, бумажное: фотографии, справочки всякие, дипломы, письма – сгорело ясным пламенем в больших и малых пожарах, случайных и умышленных, только серебро и посуда хорошая остались от старых времен – против них Иван Савельич не возражал. Быстро пообвык, от алюминиевой миски к серебряной переход легок, обратно потрудней получается. Но ему не пришлось. Его до самой смерти Эмилька ублажала, не потому, что сильно любила, а потому, что была порядочная. И Лидию приучила. А вот с Лорой не совсем получилось…
Письмо было явно от порядочного человека, это несомненно. Он благодарил Лидию за исключительный прием, признавался, что никогда еще не общался с такой культурной женщиной, намекал также на ее несравненные дамские достоинства, а потом сообщал, что не смог ей сразу открыть глаза на свое женатое состояние, потому что поначалу ему это казалось совершенно несущественным, а потом уж он не посмел ее огорчить. Он и предположить не мог, что после возвращения в Швейцарию он постоянно о ней будет думать, и она настолько занимает его мысли, что отношения его с женой совсем разладились. И теперь он думает о своем будущем, потому что надо принимать новые решения, и это очень трудно, так что голова его кругом идет…
После прочтения письма Эмилией Лидия тоже смогла разобрать написанное. Он и «р», и «н», и «к» писал странно, «и» походило на «т», но с привычки можно было и разобрать. После всего Лидия ударила козырем – показала фотографию. Эмилия долго ее разглядывала, а потом поставила диагноз:
– Лидия, имей в виду, это очень серьезно. Надо работать, но без большой надежды на успех. Оч-чень непростое дело…
«А Лора моя дура, дура, – раздраженно додумала Эмилия Карловна, – при всех ее данных этот жалкий еврей Женя…» И сказала: ответ напиши по-русски, я тебе переведу, чтоб прилично выглядело.
Лидия писала трое суток. Письмо поразило Эмилию: оно было мало сказать прилично, оно было изящно!Но еще более письмо поразило жену Мартина, которая нашла в ящике мужнего стола, где искала копию затерявшейся квитанции, стопку из двенадцати художественных открыток и это самое изящное письмо, из которого следовало, что Мартин завел себе в России женщину, о чем Элиза по некоторым признакам и сама догадывалась. И тогда разразился семейный скандал – по факту происшедшего. Мартин, который, может, и перетерпел бы свое любовное приключение, и оно само собой обратилось бы в один из эпизодов его, в общем-то, скромной сексуальной биографии, и улеглась бы Лидия в ряд, где прежде была полька, потом разовая китаянка, а потом она, разовая русская, но Элиза разожгла семейный скандал и нехорошо упрекнула Мартина в его мужской и всяческой никчемности, в то время как он теперь твердо знал, что способен на большие подвиги, если к нему дама относится с восхищением и в тазик с прохладной водой окунает натруженные ноги… И, замирая от неведомого, словно напрокат взятого мужества, он сказал Элизе с тихим достоинством, что да, он полюбил русскую женщину и готов был подавить в себе это чувство, но ежели она, Элиза, желает теперь развода, то он, Мартин, тоже не возражает.
Высовывая из отвратительной крокодиловой сумочки край стопки открыток с разоблачительными русскими видами и конвертик с изящным Лидиным письмом, Элиза многозначительно подняла бровь и сказала что-то неопределенное про адвоката. Мартин и без адвоката прекрасно знал, что двенадцать лет работы на лакокрасочное дело будут у него просто украдены, а что он поднял дело, расплатился с долгами, которые висели над фирмой после раздела Элизы с братом, – не зачтется ни в копейку, все труды его прахом пойдут. Может, только часть суммы за дом ему достанется, да и то неизвестно, как Элиза письмом распорядится… В тот же вечер Мартин написал Лидии внеплановое письмо, в котором сообщил, что приедет в Россию на Рождество, и второе письмо – адвокату, где просил назначить ему время встречи.
Бракоразводный процесс, совместно с имущественным разделом, занял больше года, но закончился непредвиденно выгодным для Мартина образом. Он не был совладельцем, но и жалованья ему Элиза не положила, и теперь ее обязали выплатить Мартину компенсацию, и притом весьма значительную, за двенадцатилетние его труды.
За два с половиной года, предшествующие заключению нового брака, Мартин видел Лидию ровно шесть дней, в два приема. Убедился, что Лидия живой клад: массаж, забота, питание, секс – качество первый класс.
Они с Лидией совместно решили ограничить встречи во имя исполнения великого замысла. Мартин свирепо копил деньги: после развода Элиза неожиданно предложила ему остаться на работе наемным служащим. Мартин, хорошо подумав, согласился. Работал он теперь за очень приличную зарплату. Компенсация, да к этому прибавить еще столько же, – и после заключения нового брака можно открыть маленький ресторан…
Лидия, со своей стороны, целеустремленно готовилась к новой жизни: загадочно улыбаясь, подала заявление об уходе и круто поменяла культурную сферу на общепит – нанялась в ресторан при гостинице «Центральная» помощником повара. Там была русская кухня. Но, как Лидия вскоре обнаружила, примитивненькая… Да что иностранцы заказывают? Блины с икрой, борщ, водка – без больших премудростей. А может, и не надо премудростей? Кроме того, Лидия разглядела всякие тонкости по организации производства. Месяца через три она совершенно убедилась в том, что больше ей в «Центральной» делать нечего, все, что можно там узнать, она уже ухватила. Прорисовалась новая задача: заработать денег побольше и купить себе приданое, чтобы приехать в город Цюрих не бедной замухрышкой, а настоящей русской дамой.
Шубу надо было купить каракулевую, как у Эмильки, серую, кольцо с диамантом и серьги. Еще для будущего ресторана хотела Лидия закупить хохломской посуды в золотых и красных цветах – поди плохо? Вопрос только, как вывозить… Видов северной природы она Мартину больше не посылала, отправила набор открыток с хохломскими утицами и ложками – он ее вкус одобрил.
Но сказка сказывается скоро, и настал день, когда Лидия собрала два чемодана со всем хорошим, чего в Швейцарии носить будет не стыдно (ошиблась – только то и пригодилось, что Мартин ей привозил, а свое все на тряпки, на тряпки потом пошло…), и купила билет на поезд. Из экономии. И отбыла Лидия с Белорусского вокзала в город с журливым и шелестящим именем «Цю-юрихь», где полны подземелья золота, где жил Ленин, сидел там на набережной реки Лиммат, в кафе «Одеон», кушал штрудель и осыпал сладкие крошки на том Маркса… При слове «Цю-юрихь» во рту делалось сладко…
В купе Лидия сидела с прямой спиной, запрокинув голову назад, в сторону тяжелого пучка, механически подправляла пальцем кончик носа – обычно, когда она, откусывая кусок, широко рот раскрывала, на кончике носа губная помада отпечатывалась, и она время от времени это дело контролировала. За окном мелькала родная русская природа, и Лидия, за последние два с половиной года измечтавшаяся об этом часе, когда поезд тронется, вдруг расчувствовалась и вспомнила про белые березки – за окном пока простирался исключительно сорный кустарник и пригородные свалки, – и вроде как бы затосковала по родине, хотя чего тосковать-то, вот она тут вся, миллион Николаев в кирзе, миллион теток вроде тети Насти, ведь ни разу и не справилась, как там племянница в городе, жива ли, померла… Один родной человек, Эмилия Карловна. Она одна и понимала Лидию. Само собой. Зельбстфершендиг.
Две пожилые торговые польки, соседки по купе, что-то у нее спрашивали на среднеславянском языке, а у Лидии такая на душе была смута, что она сказала им, сама от себя не ожидая, очень уверенно: «Ентшульдиген битте, ихь ферштее нихьт…» И польки сразу же поняли, что ошиблись, приняли немку за русскую, хотя видно же, что немка, костюм джерси буржуазного качества и кольца на пальцах…
Ах, Мартик, Мартик! Вот уж кто был наградой в жизни, особенно после двух пересадок! Встретил на вокзале в Цюрихе в темно-зеленом пальто волосатеньком, в такой же волосатенькой шляпке, поле коротенькое, сзади приподнято, и перышко пестренькое сбоку. Ну прелесть просто. И одеколоном пахнет, и сам чемоданы не хватает, как русский мужик, а носильщику машет, и Лидию целует, и под руку ведет… А кругом такая заграница, что даже в кино такого не показывают. Например, был фильм про Рим, Лидия его хорошо помнит, так там грязь, свалка, развалины, недалеко от нашего ушли, и едят еду бедную, как у нас, те же макароны, и еще в кино показывают. Понятно, почему они настоящую заграницу не показывают, не зря Лидия в университет марксизма-ленинизма два года ходила, где голову всем дурили…
Первый год в Цюрихе был самый счастливый. Капиталу пока немного не хватало на аренду подходящего помещения для ресторана, потому жили прижимисто, снимали студию, не квартиру, так, малехонькое жилье, а платили за него… Не ожидала Лидия, что все так дорого в богатой Швейцарии, уж на что она была ловкая, хорошо умела приспособиться, но туговато приходилось. Мартин расходы все сам проверял, он в бухгалтерии понимал. Лидия сразу же хотела на работу устроиться, но он поначалу не разрешал, однако потом согласился. Дипломы все свои Лидия на немецкий язык перевела, и взяли ее в маникюрши. Мартин удивлялся даже, как у нее хорошо дело пошло. К концу года оформили аренду, чудесное место для ресторана, там раньше была кантина какая-то, это тоже было хорошо, ведь когда народ привыкает, что в этом месте кормят, то по старой памяти идут.
Мартин выписал свою кузину из деревни, простая такая женщина, практически она и была деревенская, хотя одета по-городскому. Но не особенно. Лидия уже начала понимать кое-что, даже, может, побольше, чем Эмилия Карловна, в каких магазинах покупают люди победнее, в каких – побогаче. И Мартин очень это понимал, потому что жена его Элиза была из богатых и его приучила. Теперь Лидия знала, что заграничное заграничному рознь. Было, конечно, кое-что непонятное в деталях, почему, например, английский магазин еще дороже швейцарского, по качеству – не различишь, хоть на зуб пробуй. Или французское – красота есть, но опасная, с качеством не очень. Про итальянское и говорить нечего.
Перед открытием ресторана Мартин объявление дал, разослал знакомым приглашения, по всему району листки развесил: ресторан «Русский дом» приглашает на русский ужин. Одного официанта русского наняли, чудной немного, перемещенный, не совсем русский, но слово «борщ» хорошо выговаривал. Второго, местного парня, на один раз взяли.
Первый вечер ресторанный прошел очень хорошо. Это был последний счастливый день в жизни Лидии. Наутро все кончилось. Мартин в шесть, как они обыкновенно поднимались, не проснулся. Спал и спал. Лидия сначала не хотела его будить – устал, пусть выспится. В десять стала его будить, а он не просыпается. Лежит на боку, и одна рука неловко так расположилась. Лидия тронула – а она холодная. Дышать-то он дышит, но в себя не приходит, и тяжелый очень. Вызвали врача и увезли сразу в больницу. Инсульт. Все. Она сразу же посчитала: длилась ее счастливая жизнь один год двадцать один день. От приезда до удара. А дальше – страшный сон.
Одно только хорошо – все больницы у них, как у нас Кремлевка. Сестры все сами делают: и пеленки меняют, и кормят. Даже ночное дежурство у них бесплатное. Когда Иван Савельич в больнице лежал – у него было раковое заболевание, – так они втроем с Эмилькой и Лорой с ног сбивались. И Лидия понимала, как ей повезло с этой Швейцарией. Сначала через уколы растворы питательные вливали, потом стали сестрички кормить. Три месяца он ни туда ни сюда, непонятно даже, узнает Лидию или нет. Другой раз вроде узнает, а другой – нет… Ходить не может. Но в кресло его пересадили. Лидия по утрам его навещает, двумя автобусами, три с половиной часа занимает. А ресторан-то на ходу. И закупить, и приготовить – когда? Записалась в автошколу. Машина есть, а прав у Лидии нет. Дура, дурища, ругала себя Лидия, столько всего лишнего изучила, а водить не научилась. Занятия на курсах три месяца идут, да по четыре часа три раза в неделю. Каторга, а не жизнь. Спала по хорошим дням часов по пять, по плохим и трех не набиралось. Мартина жалко, да только жалеть некогда. Он как ребенок маленький, пух на затылочке слежался, уж Лидия, как забрала домой, вылизала его, массаж стала делать ежедневно, по часу. Врачи говорили, что не восстановится, но ножка левая, пораженная, потихоньку стала укрепляться. Еще месяца три прошло, и он уже стоял на ногах, за спинку кресла держался и стоял.
А ресторанное дело шло хорошо, Лидия его не бросала. Пришлось, конечно, сделать упрощения, вроде наших комплексных обедов. Но жизнь в Швейцарии оказалась ох трудна. За все – плати. Электричество, вода, бензин, мусороуборка, а налоги вообще отдельная песня. Пришлось опять на курсы идти, задаром никто ни слова тебе не скажет. Народ швейцарский сначала Лидии очень понравился за вежливость и за чистоту. Но – себе на уме. Раньше, на родине, Лидия сама себе казалась очень умной. А здесь все оказались такие же умные, наперед все просчитывают.
Русский ресторан швейцарцам пришелся по вкусу именно потому, что они быстро сообразили, что за те деньги, которые в нем оставляют, питание получают очень качественное. И если б Лидия была не одна, она бы уже через год расширила помещение, там веранду можно было летнюю освоить. Да и, с другой стороны, она бы не побоялась и побольше помещение арендовать. Если бы Мартин был человек, а не инвалид окончательный.
Но ни горевать, ни размышлять времени не было, потому что дел невпроворот: утром умыть Мартика, потом массажик, потом на горшок, потом покормить его. Раз в два дня за овощами к фрау Темке на ферму, раз в два дня к мясникам. Рыбу привозили домой, а за бакалеей она ездила к оптовикам, но это раз в две недели. Готовила она одна. Конечно, все было продумано, холодильник пришлось промышленный купить, многое замораживала, хотя никому бы не призналась. У них вообще-то не принято было продукты морозить. Фарши для блинчиков – раз в неделю готовила, и в заморозку. Ну рыбу, конечно, нет, вкус сильно теряет. Если честно признаться, швейцарцы в кулинарии не очень и понимали. Ценили, что порции были большие.
Лидия весь год тряслась от страха, что не сведет концы с концами, но в конце года оказалось, что свелись концы хорошо и еще привесок образовался. Его Лидия поместила в банк на свое имя. Вот тут-то она и поняла смысл швейцарской жизни. Если бы Мартик был здоров, она б, может, этого и не поняла в дыму брачного счастья. Но поскольку оно кончилось, то Лидии открылось, что счастье выражается здесь цифрами. Больше цифра – больше счастье. Не одними голыми цифрами, а с большими тонкостями: должны еще быть люди, которые бы оценивали твой успех, догадывались бы о твоем уме и таланте по неприметным признакам. Забор два раза в год красила… Новые цветы на террасе посадила… Занавески английские повесила… Кто понимает… Туфли Балли, пальто лоден. Эмилии Карловны нет, поглядела бы.
Деревенскую сестру Мартика Лидия прогнала, только под ногами путается, а в жизни, хоть швейцарка коренная, ноль понятия. Вместо нее наняла других помощников, югославку толковую, тоже за швейцарцем замужем. Еще одну помощницу наняла: хромую, очень некрасивую женщину, но быструю и дельную. Ей Лидия и у плиты кое-чего несложное доверяла. Тоже потом оказалось, что она не настоящая швейцарка, а из евреев. Еще один официант был итальянцем. Но это дело известное, что итальянцы все – прирожденные официанты: приветливые, улыбаются и шутят. Но вороваты. Впрочем, у Лидии не украдешь, хорошо следила. Репутация – нешуточное дело, ее и за деньги не купишь. Она как зернышко – посадил в горшок, поливай, удобряй, оно растет. Год, другой, третий… Год, другой, третий…
Мартик похудел, обветшал, стал старичком. Зато Лидия, в России еле-еле сходившая за дурнушку, здесь считалась интересной дамой, ее даже за француженку иногда принимали. Она заново научила мужа ходить, он теперь ковылял с палочкой по дому, гулял в их садике. Лидия купила ему породистую собачку, серого карликового пуделя, назвала его Милок. Содержание Милка обходилось в копеечку – то прививки, то ветеринар. Но оказалось, что и здесь Лидия не прогадала. Швейцарцы животных любили, приходили ужинать семейные пары, детишки с Милком играли и потом просили родителей снова с русской собачкой поиграть. Хорошая клиентура. А Мартика дети звали «собачкин дедушка».
Когда жизнь с русским рестораном и мужем-инвалидом совершенно наладилась и вошла в колею, Лидия, по старой памяти, снова пошла на курсы. Два года занималась французским, освоила, разумеется. Подумывала об английском… Хотела бы заниматься горнолыжным спортом, но оставлять на несколько дней ресторан, Мартика и Милка было немыслимо. Хотя теперь она уже не стояла у плиты, а были у нее два повара, которых она сама всему обучила. Два раза в неделю ходила в бассейн, иногда в женский клуб, где были встречи с другими деловыми женщинами. Сходила она к деловым женщинам раз, другой и поняла, что лично ей не хватает в жизни признания. Все эти женщины тоже ходили в обуви от Балли, носили норковые шубы и часы «Ориент», и Лидии было даже обидно, что для них это обыденная жизнь, и не могла же она им объяснить, что все они глупые домашние куры, а она, Лидия, птица высокого полета, потому что они-то родились в Швейцарии, в куске сливочного масла, а она, Лидия, в избе с земляным полом и соломенной крышей, до пятнадцати лет ходила либо в валенках, либо босиком, а штаны первые завела уже в Москве, когда, по большому везению, попала в прислуги к хорошей барыне, а до того ходила без порток, как все белорусские крестьянки… Возникла какая-то досада. И старая, придавленная и недодуманная мечта, как зародыш болезни, стала развиваться, и оформляться, и приобретать определенные черты, и Лидия в деловой книжечке в последнем, для души предназначенном разделе, куда деловые женщины вносили даты встреч с любовниками, гинекологами или врачами-косметологами, завела списочек, в который вносила, что именно и в каком количестве надо ей купить для поездки в Москву. Там жил единственный в мире человек, который мог оценить ее, Лидии, великий взлет…
Как и все свои предприятия, Лидия сначала все основательно обдумывала. Связей с Москвой у нее никаких не сохранилось: Эмилия Карловна при прощании сказала ей, что желает всех благ, но просит писем не писать и по телефону не звонить. К этому времени уже начались первые неприятности у Лоры, потому что ее муж Женя что-то подписывал, болтал направо-налево и навлекал на семью неминуемые неприятности. Лора же смотрела ему в рот, своей головы не имела, а к материнским советам не прислушивалась. Эмилия Карловна советскую власть ненавидела, но чувства свои упрятала на дно декретом отмененной души, зато страстно презирала дурака Женьку, который болтал как глупый попугай… Приятельницы Лидии из Дома пионеров и из других мест, где приходилось ей учиться и работать, не стоили даже расходов на почтовые марки. Только одна была доверенная подружка, соседка Варя, с которой первое время Лидия поддерживала какую-то хилую связь, но после несчастья с Мартиком перестала ей писать. Чего писать-то?
Теперь Лидия написала Варе, попросила ее позвонить Эмильке и узнать, как та поживает. Варя просьбу выполнила, Эмильке позвонила и сообщила Лидии, что те живут по-прежнему, все на старом месте…
Лидия купила хорошую дорожную сумку – до тех пор она никуда не путешествовала и сумок не заводила. И начала по списку покупать Эмильке подарки. Решила, что оденет ее с ног до головы. Во все самое лучшее. Полный комплект, как новорожденным… Свободное время Лидия проводила теперь в магазинах. После Рождества, когда начались большие распродажи, она завершила свою закупочную кампанию, которая заняла у нее почти полгода. Сумка приняла в свои клетчатые недра первосортного товара на три тысячи швейцарских франков без самого малого. Белье, чулки-колготки. Босоножки, туфли, сапоги. Костюм джерси-шерсть и костюм шелковый, жакет, шляпа, шарф. Сумка, перчатки. Все – в гамме. Потому что у Лидии – вкус. Эмилька научила.
А еще в дамской сумочке лежали золотые часы марки «Ориент» в футляре, который сам по себе представлял произведение швейцарского искусства.
Затем Лидия купила себе трехдневный индивидуальный тур в столицу нашей Родины Москву с пребыванием в гостинице «Москва».
Прошло больше десяти лет с тех пор, как Лидия в первый раз провожала Мартина в Цюрих после памятного и судьбоносного обеда с мытьем ног и черной икрой. Шереметьево не изменилось. Лидка-гусыня прекрасным лебедем не стала, но и от нее прежней тоже ничего не осталось. Она была гражданка Швейцарии, фрау Гропиус в скромном с виду пальто из плащевой материи с нежной подкладкой из меха кенгуру. Носильщик нес за ней ее небольшой чемодан и дорожную сумку, а встречала ее переводчица из «Интуриста», мелкий лейтенант из КГБ, с казенной улыбкой и листом бумаги с ее, Лидиной, фамилией. Такси довезло их до Манежной площади. Лидию по дороге тошнило – от волнения. Переводчица говорила с ней на дурном немецком языке, Лидия своего русского не открывала. Зачем? Поужинала в ресторане на втором этаже. Салат столичный и студень. Попробовала и отложила вилку. Тошнило.
Следующий день ее возили по городу, показали Бородинскую панораму и Университет на Ленинских горах. Обедала в ресторане «Центральный». Русская кухня. Метрдотель был все тот же. Не узнал, конечно. Вечером – Большой театр. «Лебединое озеро». Сидела в третьем ряду в фиолетовом шелковом костюме с бриллиантовой брошкой в виде стрелы. Рядом сидели американцы. Одна из американок была в бигуди и в нейлоновом колпаке поверх накруток. Они собирались после театра в ресторан. Видимо, кудри ей были нужны к ужину. Балет был шикарный. В Цюрихе они с Мартиком по театрам не расхаживали. Вот в Москве в свое время она часто билеты доставала – и на Таганку, и на Малую Бронную…
На другой день, в воскресенье, она сказала переводчице, что у нее болит голова и она программу сегодняшнюю отменяет. Та предложила прислать врача, но Лидия отказалась. Хотя голова действительно болела и снова тошнило. В два часа дня, взяв сумку, она вышла из гостиницы. Ехать в такси было пять минут – жила Эмилька на Маяковке. Вышла у серого кирпичного дома на Второй Тверской-Ямской. Углом, странно поставленный дом, для главного ведомства страны после войны построенный. Иван Савельич незадолго до выхода на пенсию получил здесь двухкомнатную квартиру. Поднялась на четвертый этаж. Вспомнила, как тридцать, что ли, лет назад в первый раз в эти хоромы входила. Газ. Электричество. Колонка с горячей водой. Ванная и уборная – все в первый раз тогда увидела.
Звонок все тот же, белая кнопочка на черном деревянном кружке. Нажала. И звонит тем же голосом. Открыли, не спросив. Лора. Вы к кому? К вам. К Эмилии Карловне. Я – Лидия. Лора, не узнаешь?
– Лида! Лидочка! Тебя просто Бог послал! – обрадовалась Лора.
В те годы каждый иностранец был большой ценностью: через него можно было и письмо переправить, и документы. Казенная почта вся просвечивалась. Но Лидия отметила с раздражением: ишь как из Цюриха с сумкой, так Лидочка. А в прежние годы рожу корчила. Вот потому в сумке ничего и не было для Лоры предназначенного.
Далее Лидия вдохнула родной запах старой квартиры и сняла ботиночки. Можно с ума сойти: в калошнице стояла обувь, которую Лидия знала наизусть. Коричневые домашние туфли «для гостей» и две пары детских – следы профессиональной деятельности.
– Детки все еще ходят? – спросила Лидия с улыбкой.
Лора махнула рукой:






