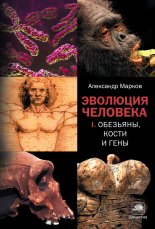Друзья и звезды Веллер Михаил

М.В. Это сюда голландские камрады приезжали на инструктаж, на отдых и за деньгами?
В.М. Нет. Дело в том, что Голландская компартия говорила, что у них десять тысяч членов. Но я-то знал, что у них нет десяти тысяч членов. Они внушали всем, и нашим в том числе, что их много, вот поэтому с ними поддерживали отношения наши партийные власти.
Я очень подружился со многими руководителями этой партии. Мы вместе пиво пили. Они ведь очень простые люди, голландцы. Мы пиво вместе пили, и в какой-то порнотеатр они меня сводили, показали там. Но у них было две вещи, из-за которых наша власть не могла с ними сотрудничать серьезно. Во-первых, они все время за права человека выступали. И во-вторых, у них там ну если не полпартии, то одна треть — это были гомосексуалисты и лесбиянки.
М.В. Уже тогда?
В.М. Да, уже тогда, это они очень поддерживали, потому что это права человека. А нашим разве можно было объяснить такое. Поэтому наши бонзы старались туда не летать.
И когда проходили съезды Голландской компартии, от Союза меня одного посылали часто на эти съезды. Я им привозил оттуда, значит, свои доклады о происходившем — по тридцать — сорок страниц. Красивые я писал им эти доклады. Они никак не могли понять, зачем так много — но красиво смотрелось.
М.В. Вопрос безобразный, но сугубо профессиональный: в Комитет, в КГБ, приходилось писать отчеты о поездке?
В.М. Нет, от меня сами писали. Мои отчеты брали и переписывали.
М.В. Когда-то у нас в Ленинграде все переводчики, работавшие в «Спутнике» и в «Интуристе», проводив группу за вертушку в аэропорту, среди прочих обязанностей садились и писали отчет для своего куратора из Комитета Госбезопасности о работе с группой.
В.М. Я знаю.
М.В. Вот про это я и спрашиваю.
В.М. Но дело в том, что я-то работал с ЦК партии, а ЦК к себе КГБ близко не подпускало. И они очень боялись, комитетчики, ЦК партии, потому что любой референт (у меня был чудесный референт по Голландии — Юлий Дмитриевич Кошелев) — он мог позвонить зампреду КГБ и сказать: вы не туда лезете! И тот должен был сдать назад.
М.В. Слушайте, Володя, как высоко вы ходили!
В.М. Ох как высоко! За три рубля. Три рубля в день. И шестиразовое питание. Это я когда работал на съездах партии…
М.В. Три рубля в день — это не самые большие командировочные…
В.М. Но я много ездил в Голландию, мне было очень приятно. Я все время собирал там какой-то материал себе, у меня были потрясающие знакомые: от самых верхов — от королевских — до самых бомжей, хиппи каких-то. Хиппи потом стали послами.
М.В. Жутко любопытно: ваши первые впечатления от Христиании? В те времена советский человек и вообразить себе не мог этой коммуны левых маргиналов и нарков.
В.М. Ну, я вам так скажу: первое впечатление о Голландии — Амстердам. Я прилетаю, мы едем на автобусе в огромный выставочный комплекс, где нам предстоит работать. Первое, что я вижу, — огромная вышка, на вершине которой реклама Marlboro крутится. Я думаю: елки-палки — Европа-па-па! А второе впечатление, когда мы туда приехали, голландцы нас встречали, и они дали нам коктейль Campari Orange — Campari, а в него добавили апельсиновый сок. И вот у меня лет 10 после этого ощущение было: если я приехал за границу и не выпил Campari Orange — значит, я еще не приехал за границу.
М.В. Это потрясающе. Первый раз в жизни я читал лекции в Италии, в Милане, и в первый же вечер я из мини-бара в номере гостиницы вытащил пузырек именно Campari. Вылил в стакан, понюхал, добавил капельку сока, выпил — понравилось. Вкус — списьфициский. После этого я стал выпивать оба эти пятидесятиграммовых флакончика каждый вечер. У меня это оказался тоже первый заграничный алкогольный напиток.
Вот таким образом на Campari мы с вами наконец подошли к эпохе перестройки и к вашему вступлению в телевидение. Итак. Как вы пришли на телевидение?
В.М. Я хотел уходить из АПН, потому что невозможно было дальше работать в Голландии. Дело в том, что в Голландии оба журналистских места были заняты не журналистами. Во всех странах журналист один хотя бы сидел, а здесь — нет. Ну о-очень сладкая страна.
М.В. А интересно — один от Комитета, а другой от ГРУ?
В.М. Оба от Комитета. Симпатичные ребята. И когда одного выгнали власти, что-то он не то сделал, а второй еще язык не выучил, — тогда-то как раз меня и позвали на годик. Но ровно на год, сказали: 1-го декабря едешь в Голландию — и 1-го возвращаешься.
1-го декабря 83-го года мы уехали — и 1-го декабря 84-го мы вернулись. Мы — это с женой и дочкой, которой сразу же было разрешено пойти туда, куда не разрешали никому, — в протестантский голландский детский садик.
М.В. Ух ты!
В.М. Такое благоволение всего лишь по той причине, что я послу издал моментально в Голландии книгу — том собрания сочинений Громыко. Причем 5 экземпляров в сафьяновом переплете. И посол поехал и лично подарил своему министру иностранных дел Громыко его нетленные труды на голландском языке, вышедшие в преисполненной внимания Голландии. Не знал я по-голландски, как «сафьян», но в итоге выяснили с трудом с издателем, что это такое, и издатель улетел для этого в Лондон и сделал 5 обложек в сафьяне. Что обошлось дороже, чем весь остальной тираж.
М.В. То есть вы лично организовали своему послу весь процесс издания книги всесильного члена Политбюро Громыко в Голландии?
В.М. Я просто пошел к издателю и договорился, что он издаст. А тот и обрадовался — ему же наши деньги за этот заказ платили.
М.В. Вот это и есть редактор — в изначальном, первобытном смысле слова.
В.М. Тот год был самый счастливый вообще, я думаю, в жизни нашей семьи. Мы впервые втроем целый год в Голландии. У нас есть машина, на которой я езжу. Дочка ходит в протестантский детский сад. Андропов помирает — я стою в почетном карауле в посольстве. Ну, масса всего интересного было.
Я очень много писал. Я писал в «Советскую культуру», я писал в «Новое время», в «Комсомолку». И плюс я стал очень известен в Голландии, потому что я себе сделал имя на нацистах — на голландском нацисте, который был мультимиллионер и которого с помощью моей статьи посадили на 15 лет.
М.В. Как была его фамилия?
В.М. Питер Ментен.
М.В. Эту громкую историю помню даже я!
В.М. Это я написал статью «Оборотень» в «Комсомольской правде». После моей статьи началось большое следствие в Голландии. Ему дали 15 лет. Потом он бежал.
М.В. С конфискацией?
В.М. Нет. Хотя он украл все, что мог украсть. Все коллекции из Львова, все, что мог во время войны взять. Он расстрелял около 300 человек на Западной Украине. Я раскопал все это. И в знак благодарности за то, что я сделал такое дело для Советской страны, мне разрешили пользоваться архивами Прокуратуры СССР.
М.В. Ого-го.
В.М. Туда я ходил как минимум 2 раза в неделю. Это на Пушкинской, мне надо было всего 300 метров пройти. И дальше я зависал на весь день в этой прокуратуре, где лежали миллионы каких-то пыльных папок с какими-то бумажками, так называемыми ЧГК — Чрезвычайная Государственная Комиссия по расследованиям каких-то преступлений. Я мог брать что угодно. Я даже брал какие-то листики, связанные с моей деревней, где я жил в Старой Рузе. Очень много брал материала по Латвии, по Эстонии. Потом ехал туда, искал.
И когда я приехал в Голландию, они все уже знали, с чем я связан. С Питером Ментеном.
Один раз мне даже визу не давали из-за этого — потому что я обвинил там одного министра в соучастии в этих преступлениях. Но потом министра выгнали.
Везде случай был… Я и Ментена случайно нашел. Я и многих остальных случайно нашел. Одного назвал в «Комсомолке» эсэсовцем из ЦРУ, откуда он и был. Он был черкес, по-моему, по национальности. После чего он прислал мне угрозу, после чего его взорвали в штате Нью-Джерси.
М.В. Ух ты. Хорошо работали. Кто же мог взорвать, кроме наших голубоглазых мальчиков?
В.М. А у нас не было там мальчиков голубоглазых. Это Лига защиты евреев взорвала его. Тогда, помните, была Лига Меира Кахане. Я не могу знать, конечно, это сам Меира Кахане или нет, но его ребята.
Так я про случай в жизни. И на телевидение я пришел случайно. Мы в 86-м году полетели с какой-то делегацией журналистов, где руководителем был мой учитель — Владимир Ломейко. Мой первый главный редактор, которого я очень любил, а он очень гордился, что я его называю учителем.
М.В. Знаменитый был человек.
В.М. Тогда он был спикером. Это называлось «спикер Кремля». Хотя он уже ушел из АПН и был голосом МИДа — Министерства иностранных дел. Я забыл уже, как это называлось официально. Но он все озвучивал. Он очень хорошо говорил.
М.В. Начальник пресс-службы?
В.М. Заведующий отделом печати… или посол он на тот момент был?.. Делегация была очень интересная. Он всегда меня везде с собой брал, очень любил: ему нравилось, как я разговариваю. И вот Кравченко, который руководил тогда телевидением, Александр Евгеньевич Бовин и Ломейко — мы прилетели в Америку. Апрель 86-го, накануне майских праздников.
М.В. С Бовиным-то, зная его любовь к жизни, выпивали по дороге хорошо?
В.М. С Бовиным я выпивал-то не в самолете. Мы с ним ездили несколько раз в поезде до Будапешта, до Праги, по Германии. Александр Евгеньевич у меня в Голландии останавливался. А потом, когда он уже отовсюду ушел и стал завкафедрой журналистики в РГГУ, которая находится в 300 метрах от моего подъезда, Александр Евгеньевич мне звонил и говорил: «Ну зайди, с моими болванами поговори, шампанского выпьем». Я понимаю, что ему лень было выходить к студентам что-то им рассказывать, ему выходить было трудно. У нас очень милые отношения были с Александр Евгеньевичем. Это был умнейший человек, интереснейший человек.
М.В. Он был знаменит, кроме прочего, тем, что мог…
В.М. Восемь бутылок шампанского.
М.В. Человек же был! Как наклеветали Горбачеву: ведь он много пьет! На что Горбачев дивно ответил: зато много и закусывает.
В.М. И много думает…
М.В. Мы с ним познакомились, когда он был послом в Израиле, а я оказался в Иерусалиме, и у меня была читательская встреча в русской книжной лавке. Знаменитая была книжная лавка Шемы Принц. И он тоже туда пришел, тихо так, скромно, как все. Причем в этот момент ему делали операцию на коленях, меняли коленные чашечки на титановые. Ему трудно было стоять, он там садился на любую лавочку. Потом он пригласил меня к себе, и пригласил еще Дину Рубину с мужем, объяснив, что ему врачи пока запретили пить, но тебе же одному будет скучно, а так есть с кем чокнуться.
В.М. Он точно так же приходил, когда я в Израиле выступал. Идет мое выступление, и тут я вижу — а народу масса была, — Александр Евгеньевич заходит. Думаю: Боже мой! Я как-то продолжаю выступать и вдруг говорю: «Вот тут пришел Александр Евгеньевич Бовин, человек, которого я безумно уважаю, с которым я много летал куда на международные дискуссии». Весь зал повернулся ко мне задницами и начал аплодировать Бовину. Он смутился и сказал: «Ну, я вообще пришел дождаться окончания этой встречи, потому что я очень хочу с Володенькой выпить по рюмочке».
М.В. Мне рассказывали, что его в Израиле, как, впрочем, и везде, страшно любили, потому что он был человек абсолютно непосредственный и простой — при том, что умница редкостный. Он любил сесть иногда прямо за столиком в кафе на улице…
В.М. Или на рынке, на рынке Кармель. Просто садился там… За что его мидовцы, в общем, и не любили — он был совершенно другой. Иной, чем все там.
М.В. Вообще лучшие мемуары дипломата — это бовинские «Пять лет среди евреев и мидовцев». Когда он выпустил эту блестящую книгу, где вдобавок все называются без уверток прямо своими именами, — ну, в МИДе проповедовали ополчение против Бовина!
В.М. И вот в 86-м мы вчетвером прилетаем в Америку. Нас встречает более сотни американских журналистов. (И мой учитель Ломейко говорит: «О! Какие мы стали знаменитые».)
Мы выходим — и нам задают вопрос о Чернобыле. А никто: ни глава телевидения, ни Бовин, который писал речи всему руководству, ни мой учитель, который спикер Кремля, — не только не слышали об этом, — мы вообще не знаем, что такое Чернобыль. Оказывается, Чернобыль позавчера случился…
Позор был полный. Что доказывало, что вся эта перестройка, гласность, — все это чушь! Скрыли даже от людей, отвечающих за информацию, представляющих страну за границей. Ну, мне не положено было знать — а от них скрыли.
Восемь дней мы провели там. Стыдно было. Ну, хорошо ребята эти американцы все, в общем, понимали…
М.В. Врачи, которые жили и работали — нормальные врачи! — в зоне поражения: юг Белоруссии, север Украины, Брянская область, — говорили мне, что в начале июня 86-го года они получили секретный циркуляр Минздрава за подписью Чазова с запретом легально, письменно, официально ставить диагноз «лучевая болезнь». Списывать это на ОРЗ, гепатит, кишечные расстройства и так далее.
В.М. Потом уже все равно стало невозможно это скрывать. Мы летим обратно, Ломейко с Кравченко сидят в первом классе, я в экономическом, меня зовут, и Кравченко говорит: «Давай приходи ко мне на телевидение, надо же что-то менять». Я еще поартачился, говорю: «Меня, может, в Англию отправят». Я все за границу хотел, понимаете. Ужасно хотел за границу.
Но в Англию не отправили, потому что наш посол там Замятин терпеть не мог моего тогдашнего руководителя Валентина Фалина. Валентин Фалин посылал меня собкором в Лондон — а Замятин закрыл эту должность! Но это их игры, я-то тут был ни при чем…
Вот так я чуть-чуть подождал — и пошел к Кравченко комментатором. Опять случай! В международный отдел программы «Время».
М.В. Программы «Время» — это которую в 9 часов смотрела вся страна, такты музыки из фильма «Время вперед» по Катаеву, и вот туда вы пришли в программу «Время» в 86-м году.
В.М. Только «Программа “Время”» — так называлась вся главная редакция информации. В ней еще была «Международная панорама», еще какие-то новости. И очень скоро я вышел с каким-то комментарием в 16 часов 45 минут.
М.В. А что же, новые коллеги стали сразу завидовать вашему голосу и умению подавать текст?
В.М. Ну, не очень. Не очень сначала в таком качестве меня восприняли, конечно. Дорасти до комментатора трудно было, люди сидели уже по многу лет. А меня сразу комментатором взяли. Плюс мне сразу предложили делать утреннюю программу. Чтоб начинал придумывать ее. Я и придумал программу со своей партнершей. Ее показали. Приехал агитпроп ЦК КПСС.
М.В. О-па! Итак, в 87-м году, придя за полгода до этого в редакцию информации, вы придумали свою первую утреннюю? Что за программа?
В.М. Вот та, что вы смотрите каждый день. Я сам-то ее в последний раз видел, когда сам вел. Программа «Утро», она сейчас так называется. А тогда она у нас называлась «90 минут», или «60 минут», или сколько-то там. С шести тридцати утра и до девяти.
М.В. Здорово. На Первом канале! А их всего было сколько — два? Я уже позабыл.
В.М. Еще была учебная какая-то программа — четвертая. Моя жена иногда там преподавала испанский язык. Там языки учили, арифметику, еще что-то. И московская была какая-то программа.
М.В. А вообще в стране транслировались два телеканала. Первый и второй. Без баловства и излишеств.
В.М. И вот показали мы свою программу. Приехал агитпроп ЦК КПСС — это самый жуткий отдел ЦК КПСС. Хуже не было. Совсем мрачный. Они посмотрели и сказали — такая программа стране не нужна.
М.В. А что там было?
В.М. Музыка, какие-то вольности, сюжеты из-за границы такие легкие. Ну, нас в конце концов пожалели. Тем паче, что заместителем главного редактора программы «Время» был муж моей подруги, с которой я в АПН в одном кабинете 13 лет просидел, — Ольвар Какучая.
М.В. Мингрел?
В.М. Папа его из Сухуми был. Уютный, милый человек, очень любивший вкусно порезать все, накрыть. Сибарит. И нас пожалели и сказали: решим так — попробуйте на ночь что-нибудь сделать.
Они погорячились. И опять здесь случай. Ну, мы переделали кое-что.
Через неделю мы вышли в эфир с «До и после полуночи». В ночь с 7 на 8 марта 87-го года.
М.В. А утренняя-то та программа в эфир выходила?
В.М. Потом, уже после этой всей эпопеи. Утреннюю нам тогда зарубили в феврале 87-го, и мы за неделю сделали ночную. Но первый ее выпуск назывался «Вы с ними где-то встречались». Я не знаю, кто придумал это название. Меня еще никто не знал, мою партнершу тоже. Она, может быть, два раза там появилась.
М.В. Сколько минут вы смонтировали для ночной передачи?
В.М. Полтора часа. Ровно с полдвенадцатого и до часа ночи она шла. 25 лет уже отмечалось с той ночи с 7 на 8 марта 1987-го, показывали отрывки по каналу «Ностальгия».
М.В. Поздравления вам с 25-летием этой программы! Есть с чем. Нынешняя молодежь уже не представляет, что ведь именно с этой вашей программы, оглушительно знаменитой, единственной в своем роде, началось новое телевидение в Советском Союзе, перешедшем в Россию. «До и после полуночи» ждали всю неделю и смотрели абсолютно все — это был рубеж эпох.
В.М. Через полгода после нас вышел «Взгляд», потом «Пятое колесо», Саша Невзоров вполне вменяемый появился. Через «До и после полуночи» он как раз и появился в эфире на Советский Союз. Я включил его выпуск в свою программу, и утром он проснулся известным.
М.В. С кем вы вели сначала?
В.М. С Майей Сидоровой. Я ее не видел с тех пор, как мы закрыли на гостелевидении эту программу. Более 20 лет.
А называться «До и после полуночи» она стала со второго выпуска. Кто придумал это название, я не помню, и никто уже не может вспомнить.
М.В. А в те времена рейтинги телепередач измерялись?
В.М. Да их не было. Но смотреть-то больше нечего было, и о популярности передачи судили, рассказывая о горящих окнах. Если в доме за полночь не горело пять окон — это было плохо, потому что вообще еще не спали и смотрели все.
Рейтинги мы мерили по мешкам писем. Это такие огромные почтовые мешки. Туда килограммов 20 писем влезало. Вот нам приходило по 5 мешков, по 6, по 7, а после того как я сказал впервые слово «презерватив» в эфире программы, мне пришло 8 мешков писем.
М.В. Сексуальная либерализация на телевидении началась с Владимира Молчанова, который в «До и после полуночи» впервые произнес слово «презерватив».
В.М. Я-то как раз пытался предотвратить сексуальную либерализацию, поскольку я позвал главного специалиста по СПИДу — Покровского. И когда, значит, мы с ним уже разговорились, я ему сказал: давайте отбросим (это потом было предметом издевательств, всяких пародий на меня, которые Максим Галкин делал) в сторону ханжество и поговорим о презервативах. Сказал я. И это потом развили. То есть я призвал людей пользоваться презервативами. Вместо этого люди стали писать письма (почему-то от учительниц очень много было протестных писем), что я развращаю молодежь, как это можно! И закрыть надо передачу с такими советами!
М.В. Нынешней молодежи невозможно понять, что это слово было непроизносимо. Даже в аптеке. Употреблялось только в междусобойных разговорах и личных беседах с врачом.
В.М. Я приехал на поезде с женой в Таллин, где у меня был творческий вечер, а мы с ней были там во время нашего медового месяца почти 43 года назад. И с тех пор вместе там ни разу не были. Мы вошли на 24-й этаж новой гостиницы с видом на старый Таллин. В номере был мини-бар, куда мы сразу же и решили полезть. И первое, что мы увидели, — в мини-баре лежал презерватив за 1 евро. Как трогательно!
М.В. Какой сервис! Хотя я помню, как впервые то ли в Афинах, то ли где я попытался закусить рюмку на ночь этой печенкой и обнаружил там совсем не то, что намеревался извлечь из-под обертки.
В.М. Мы тоже в Голландии случайно пробовали голландские консервы для собак. Мы же не знали, что они существуют. Некоторым, кто на выставке работал, когда я там первый раз был, они очень понравились. Они так и продолжали ими пользоваться целый месяц до конца выставки. И только где-то к середине выставки мы узнали, что это для собак.
М.В. Они были дешевле других.
В.М. Они были дешевле. Там были и еще очень трогательные истории. Мы впервые увидели биде. Биде! Представляете, каково было человеку, приехавшему от военного предприятия, которое затаилось в двухстах километрах от города Горький и производило какие-то микрометры или черт-те что, которые голландцам и пыталось продать. И вот этот человек встретился с биде. Я видел, как они набирают оттуда воду, чтобы попить. Потому что там фонтанчик вверх брызгал, как у нас раньше для мытья стаканов в уличных автоматах с газировкой. И люди думали, что такое назначение фонтанчика и должно быть.
М.В. Когда я школьником читал Козьму Пруткова: «Господа офицеры, быть беде, господин полковник сидит на биде», я как-то мыслью на этом непонятном слове не задерживался.
А потом уже, когда я учился на филфаке, наши стажеры-испанисты после Кубы рассказывали самые интересные истории про советских специалистов, то есть инженеров, или механиков, или строителей причалов. Как первым делом, приехав, они тут же в отеле нажирались, а потом случались ситуации типа, как ему стало плохо и он ушел в ванную «пугнуть тигра в унитазе». Через полтора часа все вспомнили, что Сашки долго нету. На стук он из-за двери не отзывался. Тогда они, тревожась за товарища, подняли одного полегче — посмотреть туда в окошечко под потолком. Он посмотрел и стал падать на кровать. Не поймали, уронили, кое-как привели в чувство. Когда выломали дверь, — оказалось, он решил, что есть два унитаза: большой и маленький. И возможно, даже маленький именно для таких случаев. Он облегчил волнующийся желудок в маленький унитазик и аккуратно нажал педаль. И все это вылетело ему в морду! Но то, что вылетело в морду, — это наплевать, можно обтереться. А вот то, что он сломал иностранное оборудование в первый же день пребывания на Кубе! — отправят домой, и никаких заработков, никакой годовой работы, никакой тебе купить машины! Он пришел в ужас… И через решеточку стал спичкой проковыривать это все туда, назад. И когда он этот харч проковыривал туда, он опять нажимал педальку, и оно опять вылетало обратно. И он повторял свой сизифов труд.
Да, мы многого не знали…
В.М. Вот Веллер написал новый рассказ. Вы меня приводили в восторг всегда, как из того, что вы так просто рассказали, — это уже получался рассказ.
М.В. Это горькая правда. Все-таки возвращаясь к «До и после полуночи» — сколько лет прожила передача?
В.М. Да она и сейчас еще существует. Только в другом виде, конечно, все немножко изменилось, и канал, и мы с вами изменились, и все кругом. Закрыл я ее сам, обсудив это все со своей группой, 28-го мая 91-го года. По собственной инициативе.
М.В. Мая 91-го… почему?!
В.М. Ну, это в общем уже все определилось к январю 91-го. Все программы были закрыты. «Взгляд» был закрыт, «Пятое колесо» было закрыто, «600 секунд» были закрыты — всё. А меня пока оставили…
М.В. Володя — я этого ничего не помню!
В.М. Вы этого не помните?..
М.В. Я уже десять лет жил в Таллине и на тот момент был сильно занят собственными проблемами. А что происходило зимой 91-го? Вильнюсская телебашня? Закручивались гайки?
В.М. Просто гласность закрывалась.
М.В. А почему закрывалась?
В.М. Ну — вот так. Меня стали цензурировать, стали приходить смотреть, что мы монтируем. Потому что мы обманывали начальство все время: мы на Дальний Восток показывали им (в 15:30 по московскому-то времени) там танцы народов мира — а вечером в живой эфир по Москве вместо прокрутки записи программы ко мне приходил какой-нибудь генерал Калугин. (За что я, кстати, — это то немногое, за что я испытываю неловкость, — за приход Калугина. Я очень не люблю предателей.)
И всё закрыли. Всех закрыли. А меня оставили, как икону. Я уже был политический обозреватель Государственного телерадио СССР.
М.В. Почему? Кто закрывал? ЦК?
В.М. Видимо, ЦК. Но нас поддерживал Яковлев, как нам говорили, и Шеварднадзе. И очень был против Лигачев и другие всякие там…
М.В. «Гласность раскачивает страну».
В.М. Ну, что-то в этом роде. Всё закрыли. Меня оставили. А как меня закроешь? Я — политический обозреватель Гостелерадио СССР, я — самый известный человек на телевидении в то время.
М.В. Да, вы были самый известный человек на телевидении безоговорочно.
В.М. Я три года подряд возглавлял разные списки. Какие-то «Литературки» делали «Лучший ведущий», и я все время занимал там первое место. Уж не знаю, как они это делали. Может быть, просто сидели какие-нибудь двое — и кто им симпатичнее, того и писали. Вот этот на первом месте, а этот на втором. Ну, не важно. Мне это было неловко.
Потом, я ведь вел не только «До и после полуночи». «До и после» — это любого можно было вроде заменить, закрыть, еще какие-то меры применить. А я вел программу «Время»! И я вел «Утро».
И вот 13-го января 91-го года я стал первым на советском телевидении, кто вышел из партии. Вместе со своим главным выпускающим.
А я хотел первым поставить сюжет в программе «Время» о штурме литовского телецентра. Мне позвонили по вертушке и сказали, что сюжета вообще не будет. Тогда я встал и сказал, что не буду вести программу «Время». За 10 минут нашли другого диктора.
Со мной ушел мой главный выпускающий, его звали Слава Мормитко. Он был старше меня, потом он работал долго в НТВ. И ушли. И что? Вот не было еще случая, когда политобозреватель вышел из партии, отказался вести программу «Время». Но они мне все равно оставили «До и после полуночи». И я понимал, что это уже стыдно.
И тогда я с помощью моего друга Юры Щекочихина сделал фильм о шахтерах. Я был его доверенным лицом, представлял его интересы как депутата. Ну, он попросил меня поехать в Луганске выступить. Я выступил, мы спустились в шахту. Я посмотрел на это. И вот тогда я понял — с этим фильмом я и уйду с телевидения.
М.В. Почему?
В.М. Потому что я уже хотел уходить. Я не хотел больше там работать в этой атмосфере. Потому что стыдно. Тебя держат как икону — чтобы показывать: вот, у нас есть свобода. Вот Молчанов, он со своей программой выходит, со своими танцами и прочим… Не хотел я.
Я собрал группу, сказал, что мы едем снимать фильм и после этого закрываемся. Все согласились. И я получил согласие руководства Гостелерадио на то, что в обмен на мое увольнение я показываю в эфире этот фильм. Фильм был сделан.
М.В. За то, что вы покажете мой фильм, я вам тоже сделаю хорошее — уволюсь. Ченч по-русски… Боже мой…
В.М. Вот мы сняли этот фильм. Фильм очень страшный. Он назывался «Забой». Неделю мы спускались на километр вниз в шахту. Это Луганская область, «Стахановуголь».
И когда мы показали этот фильм…
Я вышел в студию перед началом показа, вот чего не ожидало руководство Гостелерадио (они-то забыли, что еще прямой эфир у нас остался). Я вышел и сказал, что мы сами закрываем эту программу, никто на этом не настаивал. Это наш некролог системе, в которой мы выросли, в которой мы воспитаны. Мы с вами прощаемся.
И дальше пошел этот фильм, в конце которого вся наша группа под песню Высоцкого «Я, конечно, вернусь, не пройдет и полгода» появилась в кадре, меняя друг друга. Фильм закончился.
А через полчаса произошел взрыв на одной из шахт, где мы снимали. И погибло 74 человека. Что было подтверждением тому, что мы показали.
Вот с этим я ушел.
Не прошло и полгода — августовский путч. Случай! — и опять я вернулся на телевидение. (А так я там где-то околачивался.)
Я вернулся на телевидение, сняв арестованных. Сначала сняв обыск в кабинете Крючкова — второй в истории КГБ после Берии. Потом снял арестованных Язова, Крючкова. Я сидел там с камерой, с оператором.
Вот с этим фильмом «Август 91-го. Монтаж на тему» я и вернулся. Но уже никогда в жизни не был сотрудником государственного телевидения. Хотя я работал потом на канале «Россия» и на Первом канале. Я сидел в частных компаниях.
М.В. Теперь вы снова предложили каналу собственный готовый фильм.
В.М. Ну, канал меня сам умолял. Тогда Егор Яковлев пришел на телевидение, и он умолял меня прийти. Я сказал, что никогда больше не приду на государственное телевидение.
С Егором я работал вместе в АПН. Он возглавлял «Московские новости». «Московские новости» входили в АПН. Мы давно друг друга знали. Егор был тем человеком, которого я очень любил. Два таких человека там были: Панкин и Егор Яковлев. У Панкина нельзя было разобрать ни одного слова, которые он писал; у Егора нельзя было разобрать ни одного слова, которые он произносил. У него вообще отсутствовала дикция, но у него много было хороших мыслей.
Ну, вот так я продолжил работать на телевидении. Так и живу. Пожалуй, самое счастливое время было с Ирэной Лесневской, поскольку РЕН ТВ создавалось с нуля, плюс руководит каналом женщина, и это было интересно. Такой компании у меня никогда раньше не было.
М.В. А когда вы пришли на РЕН ТВ?
В.М. С первого дня. Это было где-то начало 93-го. Компания была чудесная. Я в такой компании никогда не сидел — в соседних кабинетах подряд: Юра Рост, Леня Филатов, Эльдар Александрович Рязанов, Юрий Никулин, ваш покорный слуга. Совершенно же чудесная компания.
М.В. Фантастика. Уже в другое время — сотрудничал я года полтора с РЕН ТВ… А когда мы с вами познакомились, вы делали цикл фильмов «И дольше века». Где первым фильмом был Василь Быков. Он уже покинул Белоруссию и как раз переезжал из Германии в Финляндию, больной уже.
В.М. Первым фильмом, я думаю, была Наталья Васильевна Бехтерева, к которой я обращался в самые непростые моменты моей жизни. Когда я что-то не понимал, когда мне было очень трудно, я или встречался с ней, или звонил.
М.В. А каким образом вы подружились с великим нейрофизиологом Натальей Бехтеревой?
В.М. Да совершенно случайно. Все случайно. Когда-то я ее просил дать мне по телемосту какое-то интервью из Петербурга. Да, вот она мне его дала, потом уже я с ней встретился, потом поговорил.
«И дольше века» — это была дань памяти моему папе. Когда он умер, на его письменном столе лежал роман Чингиза Айтматова «И дольше века длится день», и папа писал по нему либретто для своей очередной оперы. Только начинал писать. Я, конечно, этот роман раз десять перечитал. И договорился с Айтматовым, что буду его снимать. Он тогда послом сидел в Брюсселе.
Потом поехал сначала к Наталье Петровне и ее первой снял. Обычно очень трудно снимать людей, которых хорошо знаешь. Хотя Наталью Петровну я не знал хорошо, но читал все, что она писала.
А вообще самый большой телевизионный провал в моей жизни — интервью с Окуджавой для «До и после полуночи».
М.В. Почему провал?
В.М. Я всегда, когда встречаюсь со студентами или стажерами, привожу этот пример. Я настолько был влюблен в Окуджаву, во все эти песни!.. По-моему, я знал его песни все и даже после третьей рюмки рисковал взять в руки гитару и, перебирая три струны, их петь. И поэтому, когда мы встретились с ним (у нас было огромное по тем временам эфирное время — 20 минут мы могли разговаривать), я не знал, о чем с ним говорить. Я был в него влюблен и знал все песни наизусть. Вот о чем разговаривать?
Когда потом в Америке Окуджава выступал, его спрашивали: ну как же так, мы все тут телевизор смотрим — а вы вышли у Молчанова в студии, и о чем вообще говорили, мы так и не поняли.
И так же с Бехтеревой. Я ее долго снимал, она была очень интересная. Я ее безумно ценил. Да, в общем, как и всех тех, кого я снимал.
М.В. А кто продюсировал этот проект?
В.М. Я тогда работал… ох, эти все маленькие продюсерские компании. Моей продюсершей была Марго Кржежевская. Она потом много работала для канала «Россия», для канала «Домашний», для «СТС». Такая молодая девушка. Они все стали потом известными продюсерами, завели свои компании. Я не помню, как ее компания называлась. Я вообще никогда в эти вещи глубоко не вникал. Жизнь продюсеров и тех, кто делает программы, — она всегда движется как-то параллельно. И эти параллельные линии пересекаются в лучшем случае в день получения зарплаты. Но тогда это было проблематично. (В общем, и сейчас бывает в некоторых случаях проблематично…) Поэтому я не очень часто общался со своими продюсерами.
М.В. Вы сейчас на канале «Ностальгия»?
В.М. Нет, я ушел оттуда вместе со своей женой, которая делала все мои программы четыре года. Мы ушли, немного не доделав наш проект. Я не очень люблю работать с людьми, которые финансово некорректны, непорядочны. Но я думаю дальше…
М.В. Володя, вы же чрезвычайно востребованы как человек, который может на высшем уровне вести какую-то церемонию, какую-то процедуру, юбилей, концерт, что угодно. Вот начиная от застолья на кухне и кончая Кремлевским Дворцом съездов. Вам не предлагали сверху быть чем-то вроде (условно говоря) глашатая государства — ведущим центральных государственных концертов, например?
В.М. Я вел какие-то концерты, но думаю, что государство мне ничего не предложит. Поскольку государство прекрасно знает, что я критически отношусь ко многим чертам государства вообще, и тем более к империи, к власти. Это не для меня. Хотя иногда я с удовольствием что-нибудь торжественное веду. Это мой заработок, когда я веду какие-то там награждения или выступления.
Я вообще очень люблю сцену. Люблю в другом. Я люблю работать с (ныне очень больным) Борисом Красновым, когда он ставит свои театральные действа. Пожалуй, я считаю своими лучшими работами, какие я со своей женой делал, — это две постановки памяти «Бабьего Яра» в Киеве. Одна проходила в Оперном театре, другая — на сцене самого большого зала Украины. Я пишу сценарий, я веду это на сцене среди знаменитейших актеров, таких как Богдан Ступка, Ада Роговцева. Недавно я работал это вдвоем с потрясающей актрисой Юлией Рутберг.
Но я всегда себе роль пишу не как артисту, я не актер. Я пишу себе «от автора», потому что я стою на площадке рядом с великими артистами — и тут надо соблюдать грань! Которую далеко не всем удается соблюдать сегодня.
М.В. «Не всем»? Нынешние ведущие часто норовят все одеяло тащить на себя, полагая, что «я на сцене постоянный, а ты зашел постоять ненадолго».
Вы часто ездите, вас часто приглашают в бывшие советские республики, а ныне независимые государства прокатить ваши фильмы, где-то выступить.
В.М. Выступаю постоянно, если имеете в виду творческие вечера. Причем не только в республиках — в Таллине, в Риге, в Киеве, — в Питере часто бываю, в Москве выступаю в ЦДРИ, много где….
Из последнего, что я показывал на творческих встречах, — это фильм «Мелодия Рижского гетто», который мы с женой снимали в Риге. Мы уже двадцать лет все работы с ней делаем вместе. Это очень тяжелый во всех отношениях для нас фильм. Он пользовался огромным успехом на просмотрах в залах. Его запретили показывать по латвийскому телевидению. Ну как: они публично не запретили, просто сказали, что не будет и всё.
Помните, как в одном фильме замечательном, артисты потом умерли с интервалом буквально в неделю — Сергей Николаевич Колосов и Людмила Ивановна Касаткина, которую я Люсенькой всю жизнь звал. Так в нем Ролан Быков ходит, кого-то допрашивают и говорят: «справку предъяви», — а он говорит: «Мне НКВД справок не давало. Срока давало. А справок нет». Так и никто из тех, кто запрещает, они же вам не пишут, что запрещено.
М.В. На рубеже восьмидесятых — девяностых годов вы делали замечательную, уникальную, я бы сказал — головную программу. Не считая еще двух отличных программ одновременно. Сейчас, когда все-таки на телевидении можно позволить себе намного больше, чем тогда, вы на нем по причинам как субъективным, так и объективным работаете мало. Да почему же? Или я мало телевизор смотрю…
В.М. Я работаю последние 5 лет на телевидении, в общем, еженедельно. Просто на спутниковом — том, которое смотрит достаточно такой узкий круг. Но я всегда вспоминаю театр в Паневежисе, где работал Банионис. Маленький театр, в который ехали со всей страны, чтобы посмотреть, что они там творят, эти несоветские литовцы.
М.В. Очень знаменитый был театр, все приличные люди знали.
В.М. Я совершенно лишен комплексов. Комплекса славы или чего-то там. Вы заблуждаетесь, думая, что сегодня на телевидении можно делать гораздо большее, чем делали мы. Я-то как раз уверен, что в наше время, когда существовали ЦК партии, и обкомы партии, и КГБ, и все прочие организации, то бишь в 86-м — 91-м годах крушения Союза, — мы были гораздо более свободны, чем нынешние журналисты. У нас было гораздо меньше самоцензуры — плюс мы все понимали, что такое журналист.
Мы, наконец, в те годы впервые в жизни смогли стать журналистами, которые реально говорят. Говорят то, что хотят, что думают. Я, кстати, сейчас не всегда согласен с тем, что говорил тогда. Что поделаешь, вот иначе многое понимаю.
А сейчас другое время, сейчас другая публика. Потом — вам же тогда нечего было смотреть. Вы и смотрели меня, «Взгляд». Что еще было смотреть? Не ленинские же «университеты миллионов». Ну, были какие-то отдельные любимые передачи, трогательные: путешествия — Юры Сенкевича, животные — дяди Коли Дроздова.
М.В. Эти передачи были очень энергетически накачанные. И дело не только в этом. Они были чрезвычайно плотные эмоционально и информационно. И на весьма интеллектуальном уровне все подавалось. Не рыхлое изображение — а плотная подача, как яблоко. Сейчас этого практически нет, за редчайшими разовыми исключениями.
В.М. Так всё изменилось. Я помню, как-то снимал одного очень известного писателя для своего цикла. И он сказал там мне фразу…
М.В. Если не секрет, кто?
В.М. Сейчас. Он сказал мне одну фразу. Которая произвела на меня большое впечатление. Я часто ее использую, когда меня спрашивают: а почему вы не работаете на главных каналах, почему вы так сознательно ушли куда-то, скажем, радио «Орфей» некое, где транслируют классическую музыку. А просто со многими я не хочу работать. Я не люблю работать с мышами. И тот писатель мне сказал: «А мышки-то выросли и стали начальниками страны». Вы не помните этого писателя?
М.В. Простит-те великодушно. Это мы с вами давно были… Еще в той вашей родительской квартире. Очень бы не хотелось заканчивать разговор на этой печальной, в сущности, ноте.
В.М. Это не страшно. Потому что у нас с вами наверняка случится продолжение.
Андрей Макаревич
Повороты птицы цвета ультрамарин
«Новый поворот — что он нам несет?»
Михаил Веллер. Экий у тебя чудный френч. Он маде ин где?
Андрей Макаревич. Он маде ин Австрия, Тироль.
М.В. Тироль… Я никогда не был в Тироле!..
А.М. Это потрясающие места.
М.В. Пуговки такие костяные, с чернением… отличные.
А.М. Я, честно говоря, хотел их заменить на тусклые металлические, потому что френч мне очень нравится… Как солдат из черной планеты «Звездных войн».
М.В. Нет-нет, правильные пуговки. И сочетание этого тусклого черновато-серого, который отдает синим в сочетании с зеленым. Это сделал человек с правильным пониманием и вкусом.
А.М. Это тот мистический случай, когда в витрине висит один-единственный пиджак, и ты думаешь: хорошо бы его купить! А магазин закрыт. Потом ты понимаешь — завтра придешь, магазин будет открыт, но точно не окажется твоего размера. И назавтра не идешь. На третий день опять проходишь мимо. Магазин открыт.
Ты заходишь и говоришь: ну конечно, у вас нет моего размера? Они говорят: почему? — на витрине как раз ваш размер. Они снимают его с витрины, и он садится на меня так, как будто по мне сшит. Понимаешь, да?
М.В. Я знаю случай еще более загадочный. На дворе наступает новый, 2000-й год, то есть в декабре девяносто девятого. Рождественская распродажа. И в городе Нью-Йорке, Гринич-Виллидж, угол Бродвея и 14-й — одежный магазин. Цены небольшие. Висит шикарный, табачного цвета, средний между твидом и букле, френч. Стоит, допустим, 79 долларов 99 центов. Или 89 долларов. Но меньше 100 точно. Денег нету. Я туда приехал, потому что у меня составлена программа выступлений по восьми городам. В самом хорошем мне заплатили тысячу, в самом плохом — триста, еще на сколько-то продано книжек. Всего я насобирал в результате три тысячи долларов, еще за две продал права на неоконченного «Гонца из Пизы» одной газете. На эти деньги надо было с семьей жить год, ни в чем себе не отказывая. И вот я посмотрел на этот френчик, померил, вздохнул, поздравил всех с Мэри Кристмасом и пошел экономить дальше.
Проходит год. И я прилетаю снова. Иду по Бродвею. И вижу этот френч! В той же витрине. И на нем уже написано: «29 долларов 99 центов».
А.М. Он тебя дождался.