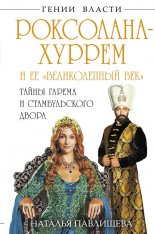Ангел, автор и другие. Беседы за чаем. Наблюдения Генри (сборник) Джером Джером
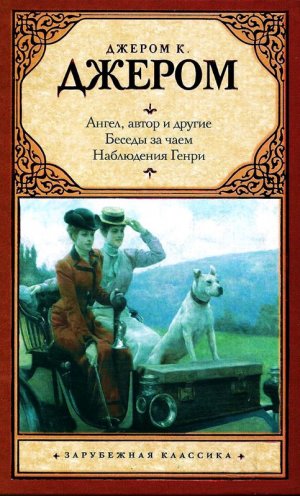
Джером Клапка Джером
Ангел, автор и другие
I
Встреча автора с ангелом
Однажды, после рождественских праздников, я видел странный сон. Мне приснилось, будто я вылетел из своей спальни прямо в окно в одной ночной сорочке. Я поднимался все выше и выше к небу, это радовало меня.
«Ага, обратили-таки на меня внимание! — с гордостью размышлял я. — Уж очень я был добр… должно быть, даже уж чересчур. Ведь будь я не таким добрым, пожалуй, пробыл бы на земле подольше… Впрочем, — заключил я, — всего сразу требовать нельзя».
Между тем земля становилась все меньше и меньше. Последнее, что я видел, был длинный ряд электрических фонарей, окаймляющих набережную Темзы. Вскоре и от этой светящейся линии не осталось ничего, кроме слабого мерцания, постепенно поглощаемого полным мраком. Когда подо мною исчез последний намек на земной свет, я услышал за собой тихое шуршание крыльев. Оглянувшись, я увидел ангела-регистратора. Он держал под мышкой объемистую, тяжелую книгу.
Я высказал ему свое предположение, что он, должно быть, очень утомлен.
— Да, — ответил ангел, — ваши рождественские дни всегда доставляют нам много лишнего труда.
— Понятно, удивляюсь только, как вы успеваете справляться в это время. К Рождеству мы, люди, сразу превращаемся в удивительных добряков и принимаемся благодетельствовать вовсю. Это такое приятное состояние, — заметил я.
— Охотно верю вам, — вежливо согласился ангел.
— Мне самому всегда дает толчок первый рождественский номер одного семейного журнала, в котором так трогательно изображены добродушные краснолицые эсквайры, оделяющие бедных сельчан пломпудингом, и хорошенькие, закутанные в дорогие меха девочки, кормящие сахаром дрожащих от холода и голода уличных лошадок. Эти картинки умиляют меня и до такой степени умягчают мое сердце, что я готов взять в первом попавшемся благотворительном обществе кружку для сбора и ходить по городу собирать деньги на бедных.
— Но вы, господин ангел, — продолжал я, — не думайте, что я один на свете делаюсь добрым на Рождество. О нет! Я отнюдь не желаю внушать вам такое превратное мнение о себе в ущерб другим. На Рождество то и хорошо, что оно делает добрыми всех людей. Сколько хороших чувств питаем мы в это время! Сколько делаем добра! Начинается это у нас незадолго до Рождества и продолжается чуть ли не до конца января. Вероятно, для вас одно наслаждение отмечать все это в вашей книге?..
— О да, великодушные дела доставляют всем нам большую радость! — подтвердил ангел.
— Так же и нам, — сказал я. — Я люблю думать о тех добрых делах, которые сделал сам. Я все собирался вести дневник, в который мог бы каждый вечер записывать свои добрые дела, совершенные за истекший день. Это было бы так поучительно для потомства.
Ангел нашел, что это была блестящая идея.
— Полагаю, что в вашей книге записано все, что я сделал хорошего на земле в продолжение последних шести недель, не так ли? — спросил я, глядя на толстую книгу моего небесного спутника.
— Да, сюда все занесено, — подтвердил мою догадку ангел.
Я разговорился с ангелом не из-за чего-нибудь особенного, а просто ради болтовни. Я нисколько не сомневался в его точности и добросовестности; но ведь всегда приятно лишний разок поболтать о себе.
— А что, записаны у вас пять шиллингов, пожертвованных мною в «шестипенсовый фонд для безработных», учрежденный при редакции «Ежедневного Телеграфа»? — осведомился я.
— Как же, конечно, записаны, — ответил ангел.
— Впрочем, — поспешил я добавить, — как теперь припоминаю, собственно, я пожертвовал десять шиллингов. Мне пришлось подписаться во второй раз, потому что когда был опубликован список имен жертвователей, я увидел, что мое имя искажено.
Ангел успокоил меня уверением, что в его книгу занесены обе мои подписки.
— Потом в течение миновавших рождественских праздников мне пришлось присутствовать на четырех благотворительных обедах, — напомнил я ему. — К сожалению, я забыл, о какой именно благотворительности шло дело. Помню только, что каждый раз на другой день после такого обеда у меня жестоко болела голова… не выношу подаваемого на этих обедах шампанского. А так как приходится платить за это шампанское — ради благотворительности, то нельзя не спрашивать его, иначе подумают, что не имеешь достаточных средств или жадничаешь…
Ангел прервал меня заверением, что мои жертвы на этих обедах также занесены им в книгу.
— На прошлой неделе я послал на благотворительный базар дюжину своих фотографических карточек с автографом, — продолжал я.
Ангел заявил, что записал и этот факт.
— Потом, — продолжал я, — мне пришлось участвовать на двух костюмированных балах. Я был в костюме сэра Уолтера Рэли. Лично я не охоч до таких балов, и бывать на них для меня в некотором роде подвиг, а потому я могу надеяться…
Ангел поспешил уверить меня, что у него отмечены и эти мои подвиги.
— Так вы, может быть, знаете и о том, что я на днях участвовал в представлении «Наших мальчиков», данном в пользу фонда для бедных викариев? Об этом было напечатано в «Утренней почте», но критик…
Ангел снова прервал меня, сказав, что если критик этой газеты отнесся ко мне несправедливо, то он за это понесет наказание, и что, во всяком случае, мнение газетных или каких бы там ни было критиков не может повлиять на мнение его, ангела.
— Это хорошо, — заметил я. — В сущности, я и сам понимаю, что от этих «благотворительных» спектаклей очень немного перепадает для нуждающихся. Но как бы то ни было, а я-то играл, кажется, недурно.
Ангел сказал, что он лично был на том спектакле и написал о нем одобрительный отзыв.
Я напомнил ему еще о тех четырех балконных местах, которые взял на грандиозное зрелище, устроенное королем в пользу фонда для неимущих британцев в Йоханнесбурге. Никто из знаменитых артистов и артисток, имена которых были обозначены в афишах, не принял в нем участия, но прислал письма с сердечными пожеланиями. Зато те, имена которых никому не известны, явились. Во всяком случае, зрелище стоило потраченных мною на него денег, и я не жалуюсь.
Я сделал и еще несколько добрых дел, но никак не мог припомнить, каких именно. Помнил только, что в число пожертвованных мною старых вещей попало и пальто, которое я с успехом мог бы еще поносить и сам. Кроме того, я вспомнил, что брал билет на лотерею с благотворительной целью. Разыгрывался автомобиль, который достался одной богатой леди.
Ангел просил меня не беспокоиться: не только все это, но и то, о чем я никак не мог вспомнить, значится у него в книге.
Мною овладело любопытство. По всей видимости, ангел относился ко мне благосклонно, и я решился спросить его, не позволит ли он мне заглянуть в его книгу. Он ответил, что ничего не имеет против этого, и открыл книгу на страницах, посвященных мне. Взлетев немножко повыше, я заглянул в книгу через его плечо.
При первом же взгляде мне показалось, что ангел многое перепутал. Например, вместо того чтобы занести мои добрые дела на страницу моих заслуг, он отметил их на странице моих прегрешений, рядом с моими действиями лицемерия, тщеславия и самохвальства. В рубрику милосердия он занес за последние шесть недель только одно мое доброе дело, когда я в вагоне трамвая уступил место одной измученной старушке, которая даже не поблагодарила меня за это, потому что от усталости еле дышала. Все же остальные мои жертвы и траты в пользу других пропали даром, по милости странной небрежности ангела.
Сначала я не хотел было обижаться на него, готовый видеть с его стороны простую ошибку при записывании, поэтому кротко сказал ему:
— Вы совершенно верно отметили статьи по количеству и форме, но при этом допустили небольшую ошибку… Это случается со всеми, и я за это не в претензии на вас, тем более что вы, наверное, исправите ее. Дело в том, что вы кое-что занесли не на ту страницу, на которую следует.
Но ангел взглянул на меня с таким серьезным и бесстрастным лицом и так самоуверенно возразил: «У меня нет никакой ошибки», что меня взорвало.
— Как нет никакой ошибки?! — воскликнул я. — А вот здесь…
Ангел с тяжелым вздохом захлопнул книгу прямо перед моим носом. Это еще пуще взбесило меня. Я хотел было вырвать у него книгу, чтобы указать на его ошибку, но вдруг почувствовал, что начал опускаться. Подо мной постепенно замерцали, потом вдруг стали подниматься мне навстречу лондонские огни. Видя, что меня несет на верхушку Вестминстерской башни с часами, я сделал движение, чтобы избежать этого и… угодил прямо в реку. И тут я проснулся.
Я не могу отделаться от впечатления, которое произвел на меня печальный взгляд ангела. Припоминая этот взгляд, я часто спрашиваю себя, не лучше ли бы я сделал, если бы лично раздал беднякам не требуя ничего взамен те деньги, которые во имя их потратил на разные глупости? Можем ли мы удовлетворить того Великого Идеалиста, который учил раздать все имущество бедным, теми подачками от нашего излишка, которые мы небрежно бросаем в сборные кружки, думая этим отделаться от всяких забот о бедных?
Не есть ли наша так называемая «благотворительность» просто плохая уступка совести, своего рода страховка, дешевая премия, взятая на тот случай, если окажется, что в действительности существует «другой» мир? Такое ли милосердие ведет к Богу? Так ли легко добывается вечное блаженство там?
Помню один великосветский благотворительный бал. Билеты на этот бал продавались по двенадцати шиллингов и шести пенсов, и каждая дама, продавшая более десяти этих билетов, удостаивалась собственноручного благодарственного письма от герцогини, бывшей председательницею того благотворительного учреждения, в пользу которого давался бал. Был, конечно, и буфет с прохладительными напитками, фруктами и разными сластями, а после бала следовал довольно существенный ужин, так что, за всеми расходами едва ли очистились для бедняков те шесть пенсов, которые приплачивались к основной цене билетов, то есть к двенадцати шиллингам. И дамы, обрадовавшиеся случаю показать свои новые костюмы, с видом жертв толковали между собой и со своими кавалерами о том, что они вовсе не были расположены танцевать на этой неделе, но для такой великой и прекрасной цели, как помощь неимущим, они, разумеется, всегда готовы жертвовать всем, чем только могут.
Вообще у нас такой избыток «благотворительности», что следует только удивляться, как это все еще имеются бедные. Но и хорошо, что они имеются. Иначе что бы мы стали делать без них? Ведь не будь бедных, мы никогда не узнали бы, сколько доброты и милосердия таится в нашем обществе. Кому бы стали мы уделять от щедрот своих, если бы не оставалось более бедных? Ведь тогда, пожалуй, нам пришлось бы одаривать друг друга; а это было бы уж чересчур убыточно для нас, потому что «друзья» требовательны и могут быть довольны только каким-нибудь особенно ценным подарком, между тем как вовремя розданная между бедными какая-нибудь пара шиллингов может принести им существенную пользу, а вам доставить славу доброго самаритянина. Хорошо, что Провидение в своей мудрой предусмотрительности снабдило нас достаточным количеством бедняков, на которых мы можем попрактиковаться в своих добрых чувствах.
Прекрасная леди Баунтифэл, разве вам никогда не приходило на ум поблагодарить Бога за создание бедных — тех самых чистеньких, признательных бедных, которые так низко склоняют перед вами свои головы и спины и так трогательно лепечут вам о том, что Небо тысячекратно вознаградит вас за вашу доброту?
Один викарий рассказывал мне, с известным подмигиваньем глазами, как однажды эта важная леди пригласила его к себе в свой роскошный экипаж и попросила указывать ей, где живут бедные, которых она желала осчастливить своим личным посещением. Под руководством викария она объездила несколько темных и узких улиц и во многих трущобах раздавала милостыню. Наконец они подъехали к переулку, в котором ютится больше всего бедноты. Заглянув в этот переулок, кучер обернулся к своей госпоже и сказал:
— Миледи, здесь экипаж не пройдет: слишком узко.
Леди вздохнула и прощебетала:
— Ах, как жаль!.. Поверните назад, Джек.
И чистокровные рысаки повернули назад.
Там, где ютится настоящая беднота, нет места великолепному экипажу леди Баунтифэл. Такие закоулки доступны только одному действительному Милосердию, которое повсюду проскользнет незаметно; оно не чета надутому Тщеславию…
Выслушав викария, я спросил его:
— Чем же, по-вашему, заменить эту показную благотворительность, которая совершенно не достигает цели?
— Справедливостью, — ответил викарий. — Если бы воцарилась справедливость, не было бы и нужды в благотворительности.
— Однако некоторым искренним добрым людям благотворение доставляет огромное удовольствие, — заметил я.
— Да, и я согласен с тем, что таким людям несравненно приятнее давать, нежели брать, — проговорил викарий и тут же со вздохом прибавил: — Но до осуществления моего идеала справедливости — увы! — еще очень далеко. Если мы и приближаемся к нему, то очень медленными шагами.
II
Философия и «демон»
Насколько мне известно, философия состоит в перенесении с твердостью всяких невзгод. В этом смысле величайшим философом смело можно признать ту простую женщину, которая была доставлена в больницу с ногою, пораженною антоновым огнем. Осмотрев эту ногу, врач прямо сказал:
— Вам придется отнять ногу.
— Всю? — осведомилась больная.
— Да, до колена… может статься, даже и выше. Вы поздно спохватились явиться сюда.
— А без этого никак нельзя обойтись?
— Никак нельзя, если хотите уцелеть сами.
— А?.. Ну, режьте с богом! Это ведь не голова, а только нога, — утешила сама себя мужественная женщина.
Люди низших классов имеют перед нами, лучше поставленными и обеспеченными, то огромное преимущество, что им постоянно доставляется случай упражняться в благородном искусстве философии. Как-то раз я присутствовал на вечере для поденщиц, устроенном нашими благотворительницами. Когда многочисленные «гостьи» были напоены чаем с печеньем, мы приступили к увеселению их. Одна молодая леди, гордившаяся уменьем «читать по руке», захотела предсказать «гостьям» судьбу.
При взгляде на первую протянутую ей руку миловидное личико современной сивиллы омрачилось облаком грусти.
— Вам предстоит большая тревога, — сказала она обладательнице руки, почтенной старушке.
— Только одна? — с улыбкой переспросила та.
— Да, только одна, а потом все пойдет хорошо, — уверяла леди, видимо довольная тем, что ее слова принимаются всерьез.
— Ну, слава богу! — пробормотала старушка.
Очевидно, она так привыкла ко всевозможным тревогам, что еще одна новая нисколько не смущала ее.
Впрочем, и мы все с течением времени становимся нечувствительными к ударам судьбы. Помню, как я однажды обедал у одного своего приятеля. Пришел из училища его двенадцатилетний сын и сел с нами за стол.
— Ну, как у вас сегодня шло в училище? — спросил отец.
— Ничего, папа, — весело отвечал юнец, уплетая за обе щеки еду, — все шло хорошо.
— Никого не наказывали? — продолжал отец, как-то странно глядя на сына.
— Никого… за исключением, впрочем, меня, — без малейшего смущения проговорил мальчуган, с трудом прожевывая огромный кусок жаркого, едва умещавшийся у него во рту.
Философия — штука немудреная. Вся ее сила в том, чтобы стараться не обращать внимания на неприятности, которые на каждом шагу случаются с нами. К сожалению, из десяти случаев в девяти мы никак не можем заставить себя не замечать этих неприятностей.
«Никакая невзгода не может огорчать меня без соизволения на это обитающего во мне демона», — говорил Марк Аврелий.
Но мы, обыкновенные смертные, не можем полагаться на сидящего в нас «демона»; он очень лениво следит за нашими интересами.
— Ты опять, гадкий, — говорит мать своему четырехлетнему отпрыску. — Смотри, я тебя выдеру.
— Не видесь! — уверенно говорит крохотный шалун, изо всех сил цепляясь за ручки стульчика, в котором помещается. — Я кьепко сизу… не стассись меня.
Но «демон» не настолько крепко держит ребенка, чтобы мать не могла стащить его со стульчика и не надавать ему шлепков. Следовательно, «демон» коварнейшим образом сдался на расправу матери. Вот и надейся на этих «демонов»!
Зубная боль не может мучить нас, или, вернее, мы можем не чувствовать ее мучений, пока «демон», то есть, собственно говоря, сила нашей воли, удерживает нас на месте.
Но стоит немного ослабнуть этой силе, как боль захватывает нас в свою власть, и мы от нее воем.
В теории все великолепно, а на практике… На практике получается совсем другая картина. Например банк, в котором находятся все ваши сбережения, прекратил платежи. Вы говорите себе: «Ну, что ж, пропали деньги — и Бог с ними! Не сходить же с ума из-за этого?» А на другой день в вашем доме собирается целая толпа со счетами из разных лавок и магазинов и устраивает вам скандал. Или возьмем такой случай: вы выпили бутылку фруктовой воды, уверив себя, что это настоящее шампанское. Но на следующее же утро ваша печень будет доказывать вам всю тщетность подобных самовнушений.
Я знал одного ярого вегетарианца. Он проповедовал, что если бы люди, в особенности бедные, всецело перешли к вегетарианству, то задача их существования решалась бы гораздо легче и, кроме того, люди стали бы более нравственными. Быть может, он и прав. Но, во всяком случае, он мог быть прав и только относительно самого себя. Как-то раз он пригласил к себе на обед десятка два бедных подростков из соседних домов с целью наглядно показать им преимущества вегетарианского способа питания. Он старался уверить их, что чечевица — то же жаркое, цветная капуста — котлеты, а вареная морковь со свеклой — те же сосиски.
— Вы все любите сосиски, — говорил он, — а наше нёбо во рту — не что иное, как орудие воображения. Скажите себе: «Я ем сосиски», и эти овощи вполне заменят вам сосиски не только по вкусу, но и по питательности.
Большинство парнишек согласились с ним, что действительно стоит только пожелать, и овощи превратятся в сосиски. Только один из них — парень, очевидно, более откровенный, заявил, что овощи все-таки кажутся ему именно овощами, а не сосисками.
— А почему же и ты не можешь уверить себя, что это — сосиски, как сделали твои товарищи? — осведомился хозяин.
— Потому, что у меня нет боли в животе, — пояснил парень.
Оказалось, что хотя он и любил сосиски, но всегда страдал от них жестокой резью в желудке; а так как от овощей, которыми его угостил вегетарианец, такой боли он не чувствовал, то и не мог, при всем желании, вообразить себе, что это сосиски.
Если бы в нас не было ничего, кроме «демона», то нам было бы легче философствовать. К сожалению, мы существа составные, и в нас находится кое-что еще, очевидно, преобладающее над нашим «демоном».
Одним из любимых аргументов философии в пользу того, чтобы ничем не огорчаться, состоит в указании на тот в большинстве случаев несомненный факт, что через сто лет нас все равно не будет на этом свете. Между тем, если нам и нужна философия, то лишь такая, которая могла бы быть нам полезной во время нашей жизни. Я хлопочу вовсе не о том, что будет через сто лет, а о завтрашнем дне.
Я чувствую, что мог бы быть отличным философом, если бы только меня оставили в покое разные сборщики податей, налогов, водопроводные и газовые общества, критики и тому подобные несносные люди и учреждения. Лично я охотно готов ни на что не обращать внимания, но эти беспокойные люди не соглашаются со мною. Они угрожают мне отнятием воды, освещения, отопления и заваливают меня судебными повестками. Я толкую им о том, что стоит ли заботиться о таких пустяках, когда все равно через сто лет ни их, ни меня не будет в живых. А они возражают мне, что до истечения ста лет еще долго, между тем как срок платежа за воду и освещение — на носу. Вообще они не желают слушать увещеваний моего «демона». Он их совсем не интересует.
По правде сказать, мне и самому в данную минуту нисколько не легче жить при том соображении, что через сто лет я, при наличии обыкновенного счастья, наверное буду уже в могиле. К тому же через сто лет и жизнь может совершенно измениться, приняв более разумные формы. Эта мысль еще сильнее разжигает мою досаду на те мытарства, которым я подвергаюсь при жизни. Быть может, через сто лет мне совсем не захочется умирать, именно потому, что жизнь будет устроена складнее.
Вот если бы мне умереть завтра, прежде, чем успели лишить меня воды, отопления и освещения и вручить мне судебные повестки за невзнос платы учреждениям, то я, пожалуй, даже порадовался бы этому, имея в виду длинные вытянутые лица господ таксаторов, сборщиков, полицейских и прочих мучителей, имя которым легион.
Мне рассказывали, или я где-то читал, как жена одного преступника, сидевшего в заключении, пришла к нему вечером и, застав его за истреблением целой груды хлеба с сыром, вскричала:
— Ах, Эдди, ты опять ужинаешь сыром с хлебом! Ведь ты знаешь, что у тебя после такого ужина всегда болит печень? Весь день завтра будешь мучиться…
— Совсем не буду мучиться, — хладнокровно возразил муж. — Меня завтра утром повесят.
Вот это истинная философия! У Марка Аврелия есть одно место, которое всегда приводило меня в сильное недоумение, пока я однажды случайно не напал на его скрытый смысл. Даже выноска к этому месту говорит, что его смысл темен. Некоторые ученые полагают, что оно имеет смысл, а другие находят, что нет. Мое открытие по отношению к этой загадке состоит в следующем. Я представил себе, как, хоть раз в жизни, у Марка Аврелия была хорошая минута. Он чувствовал себя вполне довольным и сказал себе: «Надо скорее записать, пока еще свежо в памяти»… И начал было записывать, но тут вдруг призадумался над тем, сколько добра он в этот день сделал, и, быть может, даже всплакнул от умиления над собой; потом, совершенно неожиданно для себя, заснул перед своим письменным столом. Проснувшись же, он совсем забыл о своем недавнем прекрасном настроении, забыл зачеркнуть и те слова, которые написал накануне и которые в недоконченном виде не имели никакого смысла; так они и остались в рукописи. По-моему, иначе не могло быть, и я очень горжусь своим открытием.
Мы все плохие философы. Философия — наука, учащая терпению во всех неизбежных превратностях нашей жизни, но это терпение является у многих из нас и без помощи философии. Марк Аврелий был римским императором, а Диоген был человеком, жившим на общественный счет. Неудивительно, что они умели хорошо рассуждать на философские темы. Но есть ли время предаваться таким рассуждениям какому-нибудь писцу, имеющему жену и нескольких детей и получающему тридцать шиллингов в неделю, или сельскому работнику, получающему двенадцать шиллингов и обремененному семейством в восемь душ?
«Опасаюсь, как бы не пришлось увеличить налоги, — наверное, не раз с тяжелым вздохом думал Марк Аврелий. — Впрочем, что такое, в сущности, налоги? Пустяки, против которых сам Юпитер ничего не может иметь. Обитающий во мне «демон» говорит, что налоги ничего не значат»…
Но современные ему отцы семейства, которым приходилось платить эти налоги, вероятно, не находили их пустяками. Нужно купить сандалии детишкам, жена плачется, что у нее нет приличной столы, в которой она могла бы посещать амфитеатр; а между тем ей так хотелось бы полюбоваться, как дикие звери растерзывают христиан. И вот теперь из-за этих несчастных налогов ей придется отказаться от такого огромного удовольствия. Конечно, будь ее муж поумнее, он сумел бы как-нибудь устроить, чтобы его жена была довольна; но так как он… И так далее, в таком же духе.
«Бесчеловечные варвары! — могло в нефилософский момент сорваться с языка Марка Аврелия. — Я бы желал, чтобы они не жгли домов несчастных бедняков, не поднимали бы на копья младенцев и не забирали бы в плен женщин и старших детей. И как это они не могут вести себя лучше!» Но философия, в конце концов, все-таки брала в нем верх над преходящими огорчениями, и он говорил себе:
«Как, однако, глупо с моей стороны досадовать на то, что варвары таковы, какими их создала природа. Не приходит же никому в голову негодовать на смоковницу за то, что она производит одну смокву и что огурцы бывают иногда горькими».
И Марк Аврелий шел колотить варваров, с тем чтобы потом простить их.
Мы все способны прощать нашим братьям их прегрешения против нас, раз нам удалось отплатить им за это. Помню, однажды в небольшой швейцарской деревушке, за углом школьной ограды, мне попалась маленькая горько плачущая девочка. Уткнув голову в руки, она рыдала самым душераздирающим образом. Я спросил ее, что с ней. Сквозь рыдания и всхлипывания она поведала мне свое горе. Оказалось, что один из ее школьных товарищей сорвал с нее шляпу и что этот товарищ теперь наверняка играет с ее шляпой в футбол по ту сторону ограды. Я старался утешить девочку философскими доводами, доказывая ей, что мальчики — всегда мальчики и что ждать от них, чтобы они относились с уважением к женскому головному убору, — значит ожидать кое-чего совсем несовместимого с природой мальчиков. Но философия плохо действовала на девочку, продолжавшую рыдать в прежней позе, уткнув голову в руки. Она кричала, что этот мальчик — самый негодный из всех мальчиков на свете и что шляпа, которую он у нее сорвал, была как раз ее самая любимая.
Оглянувшись, я заметил, что мальчик со шляпою в руках выглядывает из-за угла. Он стоял от девочки в нескольких шагах и протягивал ей шляпу. Девочка кричала, что она ненавидит этого мальчика и умрет, если он испортит ее шляпу. Мальчик подошел поближе и предложил девочке получить ее.
Думая, что этим инцидент исчерпан, я пошел было своей дорогой, но через несколько шагов оглянулся, любопытствуя узнать, что будут теперь делать дети, наверное, уже примирившиеся. Мальчик все ближе и ближе подходил к девочке. Видно было, что ему немножко стыдно и хотелось бы загладить свою вину. Но девочка продолжала реветь, не отнимая рук от лица. Очевидно, она была так погружена в свое горе, что ничего не замечала вокруг. Между тем мальчик решительно подошел к ней и хотел надеть ей шляпу на голову. Вдруг девочка неожиданным движением выхватила из сумки пенал и так треснула им по голове мальчика, что тот присел и в свою очередь заревел на всю деревню.
Вечером я снова встретился с этой девочкой и спросил ее:
— Испортил тебе мальчик шляпу-то?
— О нет! — со смехом ответила она. — Ведь это была моя старая шляпа. У меня есть еще новая для воскресных дней…
Я люблю пофилософствовать, в особенности после обеда, сидя в удобном кресле и с хорошей сигарой в зубах. В такие минуты я открываю Марка Аврелия, Эпикура или Платона; в такие минуты я вполне схожусь со взглядами этих философов и нахожу, что они были вполне правы, говоря, что человек часто совершенно зря так много огорчается. Нам следует питать в себе одно хорошее, ясное настроение духа. Ничего такого дурного не может случиться с нами, чего мы не были бы приспособлены переносить самой природой. Вместо того чтобы огорчаться малым заработком, каждому рабочему лучше бы иметь в виду те радости, которыми он пользуется в своем положении. Разве он не избавлен от мучительных забот о том, как бы повернее пристроить свой капитал на хорошие проценты? Разве для него не так же восходит и заходит солнце?..
А сколько из нас, более или менее состоятельных горожан, никогда не видят восхода солнца! Наша же, так называемая «меньшая братия», всегда пользуется счастьем видеть это чарующее зрелище. Пусть же обитающий в них «демон» заставляет их проникнуться сознанием этого счастья и радоваться ему.
И зачем огорчаться сельскому труженику, когда его голодные дети просят хлеба, которого у него не хватает на них? Разве не в порядке вещей, чтобы дети бедных людей кричали о хлебе? Так устроено мудрыми богами, и не нам упрекать их за это. Пусть «демон» этого работника лучше хорошенько поразмыслит о пользе для целого общества дешевого труда и пусть почаще созерцает мировое добро…
III
Литература и средние классы
Мне грустно, что я вынужден бросить пятно на литературную профессию. Эта профессия, хотя и имеет по-прежнему в своих рядах тружеников, специально рожденных для нее, но все более и более стесняется рамками того контингента среднего читателя, для которого Парк-Лейн никогда не будет ничем другим, как кратчайшим путем между Ноттингхиллом и Стрэндом; для которого красиво переплетенный и золотообрезный красный том «Пэрства» Дебретта всегда останется только предметом украшения, а не предметом общественной необходимости.
Что же должно теперь статься с нами, литературными тружениками? — осмелюсь я спросить в качестве представителя этой, хотя и быстро идущей на убыль, но все еще многочисленной корпорации? В прежнее время мы, литераторы, обладая хорошим слогом, живым воображением, глубоким взглядом, знанием человеческого сердца и жизни и уменьем говорить обо всем ясно и с юмором, — были менее стеснены. Мы черпали материал из жизни средних классов, пропускали этот материал сквозь свою среднеклассовую индивидуальность и преподносили свои писания тоже среднеклассовому читателю.
Нынче же по отношению к искусству среднеклассовая публика может считаться более не существующей. Общественные слои, из которых брали свои типы Джордж Эллиот и Диккенс, больше не интересуют большую публику. Хетти Соррель, Маленькая Эмили теперь считаются «провинциальными», а Деронда или семейство Уилферов презрительно отвергаются как «люди предместий».
Мне всегда казалось странным, что выражение «провинциальный» и «предместный» могут заключать в себе осуждение. Я никогда не встречал человека более щепетильного на счет того, что теперь стали называть «литературной провинциальностью» или «колоритом предместий», как одну неважную даму, живущую в старом доме, в одном из переулков Хаммер-смита. Разве искусство превратилось в вопрос одной географии, и если так, то где же его точные границы? И неужели сыровар из Тоттенхэм-Корт-роуд обязательно должен быть человеком, обладающим изящным вкусом, а профессор из Оксфорда — невеждой? Я никак не могу понять этого, и однажды предложил этот вопрос на разрешение одного приятеля-критика, отличавшегося остротой суждения.
— Вот, — говорил я ему, — вы, господа критики, назовете книгу «провинциальной» или «отдающею предместьем» и — дело с концом. А что именно вы хотите сказать этим?
— Очень ясно, — ответил он, — мы так называем книги, которые написаны во вкусе людей, живущих в предместьях. — Какой же развитой человек будет жить… ну, хоть в Сербитоне? — не без иронии прибавил он.
Этот критик жил в самом центре Лондона.
— Однако вот, например, Джонс, редактор «Вечернего Обозрения» живет же там, — возразил я. — Так неужели вы назовете все, что выходит из-под пера Джонса, вульгарным только потому, что он живет в Сербитоне? Потом возьмите хоть Томлинсона. Как вам известно, он живет в Корест-Гейт, по дороге в Эппинг, и как вы ни придете к нему, он непременно будет занимать вас своими «какемонами». Это такие длинные штуки, которые похожи на листы коричневой бумаги, покрытые иероглифами. Томлисон подхватывает их на палку и держит над своей головой так, чтобы вы могли одним взглядом обозреть эти чудеса; при этом он сообщает вам имя того японского художника, который нарисовал их за полторы тысячи лет до нашей эры. Он так увлекается этим занятием, что забывает накормить вас обедом, на который пригласил, и вы, просидев у него несколько часов, так и уйдете от него голодным. И во всем его доме нет ни одного удобного стула. Так можно ли, с высшей точки зрения, называть этого человека «вульгарным», хотя он и не живет в столице?
— Кроме того, — продолжал я, — я знаю человека, живущего в Бирмингеме… И вы, наверное, слыхали о нем? Это неутомимый собиратель карикатур восемнадцатого столетия школы Роулендсона и Джилендрея. Лично мне эти карикатуры вовсе не кажутся художественными: мне даже становится нехорошо, когда я гляжу на них. Но люди, знающие толк в искусстве, восторгаются ими. И в самом деле, разве нельзя быть артистом человеку, живущему в провинции?
— Вы меня не поняли, — с досадой проговорил мой приятель. — Совсем не поняли.
— Может быть, — согласился я. — Выскажитесь яснее. Тогда я, быть может, и пойму.
— Я не говорю, чтобы люди с высшим развитием не могли жить в предместьях и пригородах, и раз они такие, то, конечно, не могут сопричисляться к «предместникам» и «пригородникам», а должны разбираться особо.
— Значит, если они и живут в Уимблдоне или Хореи, то смело могут петь вместе с шотландским бардом: «Мое сердце в юго-западной области; мое сердце не здесь!» — подхватил я.
— Да хотя бы и так, — пробурчал мой приятель, бывший в тот день не в духе.
Модные беллетристы тщательно избегают выводить своих героев за черту, с одной стороны, Бонд-стрит, а с другой — Гайд-парка. Положим, года два тому назад большой успех имела одна повесть, героиня которой обитала в Оксли-гарден. Один известный критик писал тогда по поводу этой повести: «Недостает очень немногого, чтобы это произведение могло считаться ценным вкладом в английскую литературу». Из бесед с содержателем кэбов, на углу Гайд-парка, я узнал, что то «немногое», имевшееся в виду критиком, заключало в себе расстояние в какие-нибудь сто шагов. Описываемые в модных повестях представители высших классов никогда не уезжают в провинцию; на такую вульгарность они не способны. Нет, они направляются прямо к Барчестер-Тауэр или в «мое местечко на севере», как выражается в этих случаях литературный герцог. Вообще они всегда с такой неопределенностью говорят о своих местопребываниях вне города, словно витают где-нибудь в воздухе.
В каждом общественном слое есть люди, стремящиеся к высшему. Даже среди рабочих не редкость встретить тонкие натуры, одаренные джентльменскими наклонностями. Для человека с такой утонченной натурой, разумеется, плуг и лопата должны представляться предметами низкими, и они мечтают о величии городских домашних слуг. Так и на Греб-стрит мы всегда можем рассчитывать столкнуться с писателем, чувствующим себя призванным изучать и описывать людей, хотя немного превосходящих его по месту их пребывания и положению.
К несчастью, большая публика наших дней не хочет ничего читать, кроме повестей из быта «верхних десяти тысяч». Подавай ей одних южноафриканских миллионеров, американских миллиардеров и европейских герцогов и герцогинь; о простых смертных она и читать не станет. Даже дети должны изображаться только такие, которые хотя и бедны, но происходят по прямой линии от каких-нибудь громких фамилий и в конце концов тоже превращаются в миллионеров или миллиардеров; последнее, разумеется, предпочтительнее…
Открываю дешевенький журнал. Героиня — молодая герцогиня, супруг которой швыряется тысячефунтовыми билетами до тех пор, пока этой аристократической чете не приходится переселиться из собственного роскошного дворца в номера гостиницы, правда, еще первоклассной, и даже в бельэтаже. Злодеем выведен русский князь. Прежде в этой роли фигурировали опустившиеся отечественные баронеты, но нынче они не в моде, слишком уж стали обыденными. Потом какая же уважающая себя героиня решится бросить своего мужа и детей ради какого-нибудь разорившегося баронета, как бы он ни был обольстителен сам по себе? Она может сделать такое преступление и позор разве только ради годового дохода, вдесятеро превосходящего тот, которым обладал ее муж в то время, когда женился на ней.
Беру другой журнал, дамский, которым восхищается моя жена, находя, что нигде не даются рисунки таких красивых и изящных блуз, как в нем. Открываю этот журнал и на первой же странице натыкаюсь на то, что в прежнее время называлось «фарсом», а теперь слывет под громким названием «салонной комедиеты».
Действующие лица: герцог Денберийский, маркиз Роттенбургский и американская наследница — миллиардерша, тип которой заменил прежнюю «Розу, дочь мельника».
Я иногда спрашиваю себя: уж не Карлейль ли и Теннисон ответственны за такие склонности современной литературы? Карлейль внушал нам, что для истории интересна жизнь людей лишь выдающихся, а Теннисон учил, что «мы должны любить только самых великих». Может быть как последствие этих внушений и явилось стремление литературы «вверх».
Британская драма вращается теперь исключительно среди стен замков и таких домов, которые на языке объявлений называются «подходящими для лиц со средствами». Однажды я состряпал пьеску, которую сам же и прочел одному известному директору театра. Внимательно выслушав мою стряпню, директор объявил мне, что это — вещь довольно интересная (директора театров часто говорят так о пьесах, читаемых им самими авторами). Я с любопытством ждал, к какому другому директору он направит меня с этой «интересной» вещью, но, к немалому моему удивлению, он добавил, что не прочь и сам взять пьесу, при условии только некоторых исправлений.
— Следует несколько возвысить ее, — сказал он. — Ваш герой — простой адвокат, а публика не интересуется теперь простыми адвокатами. Сделайте его генерал-прокурором…
— Но он у меня играет комическую роль; нельзя же придавать такую роль генерал-прокурору? — возразил я.
— Гм?.. Да, в самом деле…
Директор призадумался, кусая усы, потом предложил:
— Так пусть он будет ирландским генерал-прокурором.
Я сделал соответствующую отметку в своей записной книжке, а директор продолжал:
— Ваша героиня — дочь содержателя меблированных комнат. Отчего бы не сделать ее дочерью… Ну хоть собственника первоклассной гостиницы? Положим, и это рискованно… Впрочем, — добавил он с внезапно просиявшим лицом, — лучше всего сделать ее дочерью главного директора какого-нибудь треста. Это будет вполне прилично и подходит к моей главной артистке. На содержателя же простых меблированных комнат моя публика и смотреть не станет; да ни одна из моих артисток и не возьмет на себя роли дочери такой мелочи.
Случилось так, что мне было некогда тотчас же заняться переделкой моей пьесы в указанном директором духе. Когда же я через несколько месяцев взялся было за это дело, то оказалось, что театральная публика шагнула еще на шаг вперед. Британские драматические театры были закрыты для пьес, в которых не выступали родовые аристократы, и носителем комической роли мог быть человек с титулом никак не ниже маркиза.
Как же нам, среднеклассовым литераторам, теперь быть? Мы не знаем салонов, потому что вращаемся только в обыкновенных гостиных. Мы с сердечной любовью смотрим на эти гостиные, а они, право, вовсе недурны, когда широко открыты их двустворчатые двери. Только в такой гостиной и может разыграться вполне понятная нам драма. Герой сидит в покойном, обитом зеленым трипом кресле главы семейства. Героиня восседает в кресле матери семейства; кресло это отличается от первого лишь отсутствием ручек.
Гневные взгляды и горькие слова среднеклассового мира перебрасываются через треногие ломберные столы. Красующиеся под стеклянным колпаком украшения свадебного пирога занимают место белого призрака.
В наши дни, когда высшим сортом цемента считается тот, который носит название «империального», можно ли осмелиться утверждать, что в гостиной средней руки могут переживаться и выражаться те же чувства, что и в салоне, убранном в стиле Людовика Четырнадцатого; что слезы, проливаемые в Бэйсуотер, могут быть сравнены с жидкостью, источаемою глазами обитателей Сгот-Одли-стрит; что смех, раздающийся в Клэпхем, нисколько не хуже культурного кудахтанья и клохтанья, оглашающих палаты Керзон-стрит?
Что же мы, средние литераторы, талант которых почерпает пищу только в среднеклассовых гостиных, должны теперь делать? Разве мы в состоянии обнажать душу герцогинь и истолковывать сердечные муки пэров государства?
Положим, некоторые из моих собратьев ухитряются в торжественных случаях беседовать с титулованными особами.
Но, во-первых, беседы эти всегда сильно ограничиваются присутствующими при них посторонними лицами, а во-вторых, я сомневаюсь, чтобы эти беседы могли принести пользу человеку, не посвященному в тайны сердечных и мозговых движений людей не его среды.
Большинство же из нас, обыкновенных ремесленников пера, лишены возможности бросить и такой мимолетный взгляд в высшие слои, и ничего, ровно ничего, не знает относительно чувствования «верхних десяти тысяч». Однажды и мне случилось получить письмо от одного герцога; но оно было в связи только с молочной компанией, председателем которой был этот герцог, и трактовало лишь о взглядах его светлости на молоко и преимущества капиталистической системы. О том же, что больше всего могло меня интересовать, то есть об интимных чувствах лорда, его стремлениях и мировоззрении, в письме не было ни слова.
И я стал придумывать, как бы мне поближе познакомиться с жизнью и чувствами аристократов.
Год за годом я вижу себя все в большем и большем одиночестве. Один за другим проскальзывают мои коллеги по перу в зачарованные аристократические круги и в гостиных средней руки больше уж не показываются. Они смело начинают описывать душевные и иные страдания королевских слуг, тайные душевные движения оскорбленных в каких-нибудь чувствах леди, религиозные сомнения герцогинь и маркиз. Мне бы очень хотелось знать, какими путями они достигают этой возможности, и я не раз спрашивал их об этом, но не получал точного ответа.
И я не вижу перед собою никакого просвета. Год от году читающая публика все дальше и дальше отходит от литературы, описывающей средние классы. Что же мне остается делать, если я только эти классы и умею описывать?
— Да пишите об аристократах все, что вам придет в голову, — сказал мне однажды один из моих знакомых, которому я поверил свои опасения. — Не беда, если вы их не знаете: читатели все равно всему поверят, лишь бы похлеще было написано.
Я возразил, что у уважающих себя литераторов существует твердое правило никогда не писать о том, что им плохо знакомо, поэтому я не могу воспользоваться таким советом. Чтобы изучить и понять аристократов, мне необходимо проникнуть в их среду. А как сделать это?
И у меня возникла мысль: не могу ли я сделаться, хотя на время, лакеем и в качестве такового проникнуть в замкнутый для меня круг?
Ухватив за хвост эту мысль, я принялся всесторонне разрабатывать ее. Но пока она разработается, займемся другими темами.
Одно англосаксы делают лучше французов, турок, русских, даже лучше немцев и бельгийцев, когда они назначают кого-нибудь на общественную или государственную должность, потому что в лице назначаемого подразумевают общественного или государственного слугу; когда же облекают кого-нибудь в мундир французы и многие другие народы, то они этим лишь удлиняют и без того длинные списки чиновников.
Если вы среди своих знакомых англичан или американцев знаете человека, не имеющего еще понятия о манерах континентальных должностных лиц, то советую вам пойти вместе с ним… ну, на почту, когда он отправится туда в первый раз, чтобы лично сдать заказное письмо. Вы увидите, с какою твердою самоуверенностью человека, гордого собою и своей расой, он подходит к почтовому учреждению. Подымаясь по лестнице, он спокойно толкует с вами о том, что он намерен делать, когда сдаст письмо. Говорит он таким уверенным тоном, точно вполне убежден, что его здесь надолго не задержат. Но вы уже хорошо знаете порядки в подобных континентальных учреждениях и про себя посмеиваетесь над наивностью своего знакомого.
Очутившись у двери, он пытается отворить ее легким толчком, но дверь не поддается. Он всматривается в надпись на двери и убеждается, что эта дверь назначена не для входа, а для выхода, и отворяется наружу от толчка изнутри. Ваш знакомый ничего не имеет против того, чтобы потянуть дверь к себе, вместо того чтобы толкать ее внутрь. Дверь отворяется, но тут же в ее раме появляется свирепейшего вида швейцар, который сурово указывает простертою дланью на настоящий вход для прибывающих.
— Ах, чтоб вас! — пока еще беззлобно бормочет ваш спутник и спускается с двадцати ступеней вниз, чтобы потом взобраться по такому же количеству ступеней вверх к другой двери. — Я сию минуту, — говорит он вам, входя в эту дверь. — Если хотите, обождите меня здесь.
Но вы, ради интереса, следуете за ним. Внутри есть места для сиденья, а у вас имеется в кармане газета.
Дело происходит, скажем, в Германии, где почтамты равняются английскому банку по своей обширности. Ваш спутник растерянно оглядывается. Перед ним тянется длинный ряд окошек, каждое с особой надписью. Плохо знакомый с немецким языком, он принимается разбирать эти надписи по складам, начиная с номера первого, и только тут ему приходит в голову, что сдача письма не такое дело, которое находили бы нужным поощрять германские почтовые чиновники. Из одного окошечка выглядывает лицо, на котором так и написано: «И охота это вам приходить сюда и надоедать нам такими глупостями, как письма! Давайте потолкуем лучше о чем-нибудь более интересном». А на смотрящем из второго окошечка выражается: «Эх, хорошо бы нам теперь выпить и закусить!»
Наконец вашему спутнику кажется, что он напал на то, что ему нужно, потому что на одной из надписей он увидел слово «Регистрация». Он смело подходит к этому окну и стучит в него, но никто не обращает на него внимания. Континентальный чиновник — это человек, жизнь которого омрачается тем, что от него вечно кто-нибудь чего-нибудь требует. Это — самое несчастное существо в мире.
Возьмите кассира в театре. Он только что уселся пить чай или кофе, когда вы постучались к нему в окно. Он обращается к своему товарищу и восклицает:
— Ну, вот еще один! Точно взбесились: всем понадобились билеты на сегодняшнее представление, и именно в эту минуту! Прямо с ума можно сойти с этой надоедливой публикой!
На вокзалах железных дорог та же история.
«Еще одному болвану вздумалось отправляться в Антверпен! — ворчит себе под нос кассир, выслушав ваше требование. — И что им не сидится на месте? Носит их взад и вперед, как угорелых кошек!»
Континентальному почтовому чиновнику в особенности портит печень и жизнь та часть публики, которая одержима страстью к писанию и отправке писем. Он делает все, что может, чтобы отучить от этого публику.
— Не угодно ли? — говорит он своему товарищу (заботливое германское правительство всегда сажает к одному чиновнику другого для компании, чтобы тот не обалдел от скуки и под давлением этой скуки не вздумал заинтересоваться своим делом). — Целых двадцать человек сразу столпилось! Некоторые из них уже давно торчат здесь…
— Так что ж, пусть подождут еще: авось, им надоест, и они уйдут, — замечает товарищ. — Попробуйте не обращать на них никакого внимания.
— А вы думаете, я этого не пробовал? — продолжает первый. — От них никакими средствами не отделаешься. Они только одно и твердят: «Марок! марок! марок!» Мне кажется, они только и умеют…
— А знаете что? — с внезапным вдохновением перебивает младший чиновник. — Попробуйте сразу, не заставляя их ждать, выдать им марки. Может быть, это удовлетворит их, и они отстанут…
— И в этом немного толку, — грустно возражает старший чиновник. — Одна толпа уйдет, явится другая. Только и всего.
— Ну, все-таки будет хоть перемена лиц, — говорит младший. — Мне страсть как надоели одни и те же рожи.
Разговорившись однажды с одним германским почтовым чиновником, которому и мне часто приходилось надоедать, я сказал ему:
— Вы думаете, я пишу свои вещицы и отправляю их по почте с исключительной целью мучить вас? Позвольте мне выбить эту мысль из вашей головы. Говоря откровенно, я ненавижу всякий труд так же, как и вы. Ваш городок мне очень нравится. Будь у меня малейшая возможность, я бы по целым дням только и делал, что болтался по вашим чистеньким улицам, и никогда бы не подумал садиться за стол, брать в руки перо и водить им по бумаге. Но как же мне быть? У меня жена и дети. Вы, наверное, сами знаете, что это значит, когда у вас требуют то на обед, то на обувь, то на шляпки и тряпки и черт знает на что. Вот мне и приходится писать эти вещицы и приносить их в виде пакетов к вам для отправки тому, кто мне дает за них деньги. Вы посажены здесь для того, чтобы принимать у меня эти пакеты. Не будь вас, то есть не будь в этом городе почтового учреждения, были бы другие способы переправки корреспонденции. Но раз здесь есть почтовое учреждение и вы состоите в нем чиновником, то я поневоле и обращаюсь к вам.
Мне кажется, это проняло его. По крайней мере, с тех пор он перестал глядеть на меня травленым волком; напротив, каждый раз, когда я приходил с новой партией, он приветливо улыбался мне и даже говорил что-нибудь, сочувствующее моему труду.
Вернемся, однако, к вашему еще неопытному знакомому. Окошечко вдруг раскрывается. Раздается сухой, отрывистый, сверхофициальный возглас: «Имя и адрес!» Не приготовленный к такому странному вопросу, новичок раза два сбивается в своих показаниях относительно адреса. Чиновник пронизывает его пытливым оком и продолжает еще более сухо:
— Имя матери?
— Чье имя? — недоумевает ваш спутник, думая, что ослышался.
— Матери! — повышенным тоном повторяет чиновник и добавляет: — Должна же быть мать.
Ваш спутник имел когда-то мать и нежно любил ее, но она уже лет двадцать как умерла, и он теперь никак не может вспомнить ее имени. Разве дети называют своих матерей по именам? Он говорит, что, кажется, его мать звали Маргаритой Генриеттой, но он не совсем в этом уверен. Притом, какое же может быть дело его покойной матери до заказного письма, которое ему нужно отправить к своему компаньону в Нью-Йорк?
— Когда он умер? — продолжает свой допрос чиновник.
— Он?.. Да кто же это «он»? — еще более недоумевает ваш знакомый. — Ведь вы спрашиваете про мою мать…
— Нет, — обрезает чиновник, — я вас спрашиваю не про мать, а про ребенка.
Недоумение вашего знакомого переходит в раздражение.
— Про какого ребенка?! Что за странные вопросы вы задаете мне? — гневно восклицает он. — Мне нужно только сдать заказное письмо, а вы…
— Что-о-о? Письмо? Это не здесь!
И окошечко с треском захлопывается. Когда злополучный податель минут десять спустя добирается наконец до надлежащего окошка, где идет регистрация заказной корреспонденции, а не умерших детей, как в первом, то ему со строгостью ставится в упрек то, что письмо запечатано или не запечатано, смотря по обстоятельствам, или, вернее, по капризу чиновника.
Я до сих пор так и не мог понять этой странности. Подаете письмо незапечатанным — на вас набрасываются за это; подаете запечатанным — опять беда: вас обвиняют чуть не в государственном преступлении. Во всяком случае, ваше письмо не примут в том виде, в каком вы желали бы послать его.
Очевидно, германское чиновничество, при обращении с публикой, придерживается правил той няньки, которая посылала свою старшую питомицу пойти посмотреть, что делает ее маленький братишка, и внушить ему, чтобы он не смел делать этого.