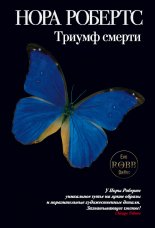Новый дом с сиреневыми ставнями Артемьева Галина
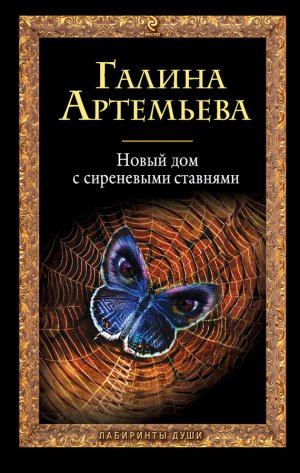
Дверь распахнулась. На фоне яркого света она видела лишь неясный темный силуэт, тянущийся к ней для объятья. Сердце ее пронзила жалость. И она была рада этой жалости, как спасению собственной души, как шансу выжить и выстоять.
Олег, смеясь, подхватил ее ношу:
– Да ты никак чайник для Веры купила? Ну все! Сушите весла: я тоже!
Ночь
Ночные решения
Что важнее – день или ночь? Кому как. Мы ведем отсчет своей жизни по дням. Именно днем происходит главное. День приносит события, известия, крушит, соединяет. День высвечивает, вытаскивает наружу темные тайны. День – время человеческой активности. А значит – время ошибок, проблем. Получается, если мы подсчитываем наше время днями, мы собираем в кучу все, что нагромоздили сами и что добавили нам «до кучи» наши родные, друзья и враги.
Галлы и германцы отсчитывали свое время количеством прожитых ночей. То же делали исландцы и арабы. Наверное, у них были на то свои причины. Мы их не узнаем. Но тысяча и одна сказка, рассказываемая Шахерезадой своему грозному супругу Шахрияру из ночи в ночь тысячу и один раз, спасла ей жизнь и смягчила сердце тирана. Ночами воинственные галлы и германцы обдумывали и устраивали хитроумные засады, в которые днем попадали их враги. Исландцы, наверное, любовались небесным сиянием. Из ночи в ночь. А днем слагали об этом свои саги.
Те, кто ночами просто безмятежно спит, скорее всего не задумываются о том, какое же это счастье.
Ночной сон – великое благо, великий дар. Каждую ночь человек меняется до неузнаваемости. Его кровь замедляет свой бег, половина ее уходит на отдых.
Ночами мы живем далеко от тех мест, где действуем днем. А проснувшись, досадуем, потому что, бывает, нам совсем не хочется возвращаться сюда, в мир, где нельзя летать, где невозможно перескочить из одной ситуации в другую, если первая сулит катастрофу.
Днем человек боится одиночества как наказания. Ночью каждый из нас наедине с собой. Мрак иногда освобождает мысли от дневной слепоты. И мы не зря доверяем и доверяемся тьме. Ночные решения самые верные. Так утверждают те, кому приходилось стоять перед выбором.
Как быть?
Таня проспала не больше получаса и проснулась, как от толчка. В первые мгновения она была спокойна и счастлива. В новом доме пахло чистотой, свежестью. Так должны пахнуть сбывшиеся мечты: хвоей и холодным ветром. Ведь настоящая мечта, даже осуществившись, продолжает удивлять и открывать новые дали.
То, что никаких горизонтов в ее жизни больше нет, она вспомнила очень скоро. И сон горестно отлетел.
Ей надо было вспомнить все и решить. Это только на первый взгляд казалось, что от нее не зависит ровным счетом ничего. Жди, мол, конца в своем капкане. Покорись и жди. Не делай лишних движений, чтобы не было больнее. Скули неслышно, чтобы не привлекать крупных хищников. Изображай благополучие, прячь ловушку, в которую попалась, от чужих глаз. Улыбайся через силу.
Ей представлялось, что она идет по узенькой жердочке, а внизу – шумная быстрая река с каменистым дном. Сорваться ничего не стоит. Шансов не упасть практически нет. Но нет и возможности повернуть назад. Значит – что? Падать сразу? Или шаг за шагом идти? Если выбираешь второе, продумывай каждый шаг и не вздумай предаться отчаянию. Только теперь Таня поняла, почему отчаяние считается смертным грехом. Оно губит хуже всякой другой погибели. Отчаяние – это всегда вопль: «За что?» И упреки судьбе за несправедливость жребия. Вопрос «за что?» надо вычеркнуть и к нему не возвращаться. Лучше отвечать на вопрос «как?».
Как быть с Олегом?
Сказать ли ему сейчас и пойти вместе утром сдавать кровь или сначала убедиться самой и действовать в зависимости от результатов нового анализа?
Сказать ли ему о ребенке?
Вечером они отправились к Вере. С одним из купленных чайников. Олег был таким, каким она любила его прежде, – нежным, веселым, внимательным. Шутил не так, как в последнее время, саркастично и злобно даже, а открыто, легко. Вера жила в пяти минутах ходьбы от них. Глупо ехать на машине. Но темень – как будто в повязках на глазах шли. Олег одной рукой обнимал Таню за плечи, другой держал коробку с подарком. Тане, обычно такой осторожной, было все равно, упадет ли она в темноте, подвернет ли ногу, расшибет ли коленки, испачкается в грязи. Она боялась одного – заплакать. Или начать задавать вопросы, время которых еще не пришло. Она шла в ногу с Олегом и в темноте надевала на себя лица: раздвинула губы, обнажились зубы – это получалась улыбка, широко распахивала глаза, собирала губки бантиком – выходило пристальное внимание. Она всю дорогу тренировалась, чтобы окаменевшее лицо ее научилось хоть немного быть похожим на прежнее.
– «Мы в город Изумрудный идем дорогой трудной, – дурашливо запел Олег голоском сказочной девочки Элли в такт их шагам, – идем дорогой трудной, дорогой непростой…» Эй, давай, подпевай, чур ты Железный Дровосек…
Он крепко прижал к себе Таню, побуждая ее включиться в песню. Она сглотнула, велела себе действовать, как от нее того ждут, и подтянула низким, «железным» голосом: «Чуд-десных тр-р-ри ж-желания исполнит гудрый Мудвин…»
– Гениально! – восхищенно прервал ее муж. – Как всегда у тебя! Это ж надо – гудрый Мудвин! Нарочно не придумаешь.
– Я не нарочно, – тускло подтвердила Таня, – давай… мудрый Гудвин. И Элли возвратится…
– И Элли возвратится, – мгновенно со значением вступил Олег, – с Тотошкою домой!
Окна в доме Веры были темны, безжизненны. Ясно, что хозяева отсутствовали. Олег для порядка позвонил, постучал.
– Ну вот! В кои-то веки собрались всей семьей с подарком навестить людей, а они свалили в неизвестном направлении. И когда будут, не сказали. А должна стеречь, между прочим, – принялся шутливо возмущаться муж.
Он на минутку поставил злополучный подарок у ступенек крылечка, взял обеими руками Таню за плечи, развернул к себе, обнял.
«Он хочет целоваться! – ужаснулась Таня тому, чему бы еще прошлым вечером обрадовалась несказанно. – Он хочет целоваться, а я не знаю, можно ли. Вдруг я заразная, а он нет?»
Она уткнулась лицом ему в шею, так, чтобы он не дотянулся до ее губ.
– Ты чего? – обиженно протянул Олег.
– Я… у меня, кажется, грипп намечается. Знобит, ломит все тело, – удалось придумать Тане.
Олег поверил. И это было первое испытание в огромной череде предстоящих испытаний, которое ей удалось преодолеть.
Он поверил и тому, что Татьяна в преддверии гриппозных лихорадок, повышений и падений температуры, упадка сил и возможных осложнений должна доделать срочную работу, ради чего ей необходимо обосноваться ночью в кабинете, а не с ним в супружеской постели.
Конечно, он был разочарован. Он явно собирался провести с ней любовную ночь. Но жена выглядела такой жалкой, глаза ее обведены были кругами, осунулась вся за считаные часы…
Дома он напоил ее чаем с медом. Заставил натянуть шерстяной свитер, укутал в плед.
– Пока, – попрощалась Таня, закрывая за собой дверь спальни.
– Выздоравливай скорей! Я жду. Нам пора беби делать!
– Сделаем, – согласилась она. И, стоя спиной к двери, раздвинула губы так, чтобы обнажились зубы. Улыбнулась.
Она и правда уснула, как больная. Быстро. Раз – и провалилась.
И так же быстро проснулась. Потому что надо было отвечать на многочисленные вопросы «как?».
Как в следующий раз отказываться «делать беби», пока не пришли результаты анализа?
Как разобраться, изменял ли муж или нет?
Как ей теперь вообще жить и сколько этой жизни осталось, если все окажется правдой?
История болезни
Таня отчетливо помнила, как впервые узнала о СПИДе.
– Все! Человечество доигралось! Будет нам теперь Содом со своею Гоморрою, – торжественно объявил папа, постоянно читавший зарубежную прессу.
На этот раз в его руках находился югославский журнал «Svjet», то есть «Мир». Югославия занимала особое положение среди стран, строящих коммунизм. Они вроде его и строили, но «шли своим путем» благодаря сильному и склочному характеру своего лидера Иосипа Броз Тито, сумевшего быстро и эффективно рассориться со своими союзниками. Дружить он хотел, но быть младшим братом в семье разношерстных народов, зачастую насильно ведомых в светлое будущее, отказывался горячо и категорически. В результате, не получая поощрительных подачек ни от старшего кремлевского брата, ни от собак-империалистов, балканский вождь, чтобы жители его страны могли хоть как-то добыть себе средства к существованию, разрешил своим подданным выезжать из страны на заработки. Югославы ездили добывать деньги на пропитание в Западную Германию и ряд других капиталистических стран. Посылали семьям материальную помощь, вещи, журналы. Гастарбайтеры. Именно рабочие турки и югославы породили это прижившееся ныне и у нас немецкое слово, ничего стыдного и позорного не обозначающее. Просто гость-рабочий.
Работа за рубежом носила массовый характер. Как следствие югославская журналистика обладала большой свободой подачи информации из-за рубежа. Все равно ведь узнавали и так.
Западную прессу в наши имперские времена в газетном киоске купить было невозможно. А вот югославские журналы приходили почти регулярно. Все-таки Югославия, хоть и с натяжкой, считалась братской страной. Папа дружил с киоскером из «Союзпечати», тот оставлял ему все, что получал (а были это в основном женские журналы). Правда, иногда некоторые печатные органы в продажу не поступали, не пропускала цензура из-за нападок на Советский Союз. Женских журналов с картинками и фотографиями светской хроники со всего мира это касалось в меньшей степени. Но и оттуда папа извлекал поразительные сведения. Вычитывал, сообщал домашним и только потом отдавал издание в руки своих женщин, все равно не понимающих в сербско-хорватском, а, подобно малым детям, разглядывающих цветные картинки.