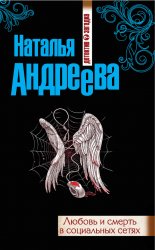Чудо в перьях (сборник) Артемьева Галина

Варя поднялась, отряхнулась и с достоинством повела своих домочадцев под родной кров.
Такие испытания ворона устраивала в исключительно редких случаях: после прихода к Варе парикмахера, когда собака не откликалась на предупреждающие вопли да еще и хвостом виляла чужому с острыми железяками в руках. Или если гулять уходила без птицы (были пару раз такие происшествия, так до конца и не понятые).
Прошло несколько лет. Река времени течет незаметно, бесшумно. Девочки почти сравнялись ростом с матерью. Волосы хозяина начали менять цвет. Но семейная жизнь тем и хороша, что поверхностные перемены с близкого расстояния не воспринимаются. Особенно если повседневный уклад устоялся прочно. А жизнеломными переворотами руководит судьба.
Как-то решили, что хватит Варе скучать и почему бы ей не стать снова матерью. Получить новый импульс. Обновить организм. Ну, и повели в нужный момент встречаться с отцом тех, отнятых до времени детей. Этому отцу вообще не доставалось негативных впечатлений. Крепкий убежденный оптимист. На Варю его запах навел тоску, поднял со дна памяти печаль и тревогу. Хотя они даже поцеловались и побегали вместе. И все такое. Но что-то не случилось, пошло не так.
Сначала, правда, все развивалось как полагается, живот рос. Поговаривали, что вот Варя родит, и одного малыша, самого-самого, оставят при матери насовсем. Придумывали имена новым ребятам-собакам.
Но потом заметили отклонения от прошлого раза. И вызвали на всякий случай доктора. Того, спасителя. И Варя, и ворона не опасались его. Видели его доброту и стремление быстро помочь.
Только день визита был неудачный. Плохой день. Доктор усыплял ротвейлера. Здорового, нестарого парня. Его хозяева уехали насовсем туда, где нельзя с собаками. Они, правда, долго искали, чтобы отдать своего умнющего верного пса в хорошие руки. Однако хорошие руки не справились с отчуждением сильного зверя, уверенного, что он был хитростью уведен этими доброхотами от своих, которые теперь мечутся и рвутся, как он, у чужих дверей. Он выл и рычал на обитателей, ничего не ел и наводил страх глубиной своего отчаяния. Пытались перетерпеть. Детей увели пожить к бабушке – от греха подальше. Уговаривали. Он выл и гадил, где мог, по квартире. Мстил.
Наконец терпение лопнуло.
Приводить в исполнение приговор должен был доктор. Он в звериные врачи пошел по большой любви и интересу ко всему живому. И не собирался никого умерщвлять в угоду всяким идиотам. Но любая профессиональная деятельность связана не только с радостями, но и с муками.
Пес смотрел на человека со шприцем, все зная. Он был не против. Он устал.
А потом врач в тесном облаке собачьей смерти пошел осматривать Варю.
Он только в подъезд вошел, а ворона уже была уверена, что к Варе приближается что-то ужасное. Она стала кричать и биться на кухне, куда ее заблаговременно изолировали, чтоб не дурила во время медосмотра.
– Варя – Варя – Варя!!! – предупреждала она беспомощную свою любовь, долбя стены клювом и бросаясь на них слишком легким телом.
Осмотр был недолгим и не причинил Варе беспокойства. Ложная беременность – и все дела.
И вдруг заметили невозможную тишину. И побежали впустить птицу к Варе. Она лежала на каменном полу, как тогда, у бульварной скамейки. Но оживить ее было нельзя. Сердце остановилось.
– Это я виноват, – сказал доктор. – Я принес с собой последний страх. Эти птицы все знают… Одно за другим, одно за другим…
Так кончается эта история. И только не надо говорить, что она тяжелая. И всплакивать в конце. И даже чтоб просто в носу щекотало.
Мало, что ли, этого добра вокруг? Ворон. Собак. Людей…
Елка
У них была нормальная семья. Вполне полная. Она и дочь. С мужем у Али как-то не заладилось сразу после рождения Витуты. Наверное, внутренний ребенок, который, оказывается, гнездится в душе каждого взрослого, заставил большого и вроде бы сильного мужика ревновать жену к собственной новорожденной дочери. Муж, скорее всего, не дозрел до отцовства и не приходил в восторг от сладких мелочей, которыми теперь восторгалась еще недавно всецело принадлежавшая ему юная женщина.
– Ну, подумаешь, стала держать головку. Ну, подумаешь, научилась пить сок из ложечки…
Все это было скучно и бесперспективно. Он себе любви хотел, когда женился. Себе заботы. Себе верности. А тут вдруг стал крайним: подай то, принеси это. Вполне можно расценить как предательство и покинуть зону отчуждения с чистой совестью. Алименты платил исправно, но никогда не наведывался к тем, кто заставил его чувствовать себя несчастным и брошенным.
У нее тоже были основания считать себя преданной. Она же рожала ребенка от собственного мужа, не от случайного залета. Верила в надежность их любви, ведь три года уже были вместе, когда встал вопрос о ребенке. Да, собственно, что такое «встал вопрос»! Забылись во время отдыха, дни свои она не так посчитала, что ли, ну и забеременела. А почему бы и нет? Если так хорошо вместе. Если есть, где жить, есть работа, есть силы, любовь. У всех, в конце концов, рождаются дети.
Но он с заметным ужасом отвращения прикасался к ней беременной. А после родов и вовсе изменился. Знать бы ей, что это ревность! Можно было найти тысячу способов убедить мужа, что он для нее главнее всего. Но для этого нужна была мудрость, знание жизни, вера в себя, наконец.
Однако молодые женщины чаще всего мечутся по жизни впотьмах, руководствуясь обрывочными сведениями, полученными от замотанных бытовой рутиной матерей, идиотскими советами женских журналов и беспомощным лепетом подруг. Все они очень хорошо знают, каким должен быть настоящий мужчина, и, чуть что, упрекают своего спутника жизни в ненастоящести. При этом настоящего никто никогда не видел, и где находится эталон неизвестно.
Удивительно, что мужчины в этом отношении гораздо терпимее и не требуют от своих подруг доказательств их подлинности как женщин. Так уж они устроены: или желают свою спутницу – или нет. У них по-честному.
Женщина, переставшая быть желанной, не способна к анализу причин краха отношений, еще недавно казавшихся вечными и незыблемыми. Она только подбирает слова: предал, бросил, подонок, подлец, эгоист. И крепчает и закаляется в гордом одиночестве. Потому что даже вдвоем с ребенком – одиночество. И полное погружение в любимую работу – одиночество. И поездки в выходные в гости к такой же, как сама, подруге с сынишкой – одиночество.
Оно коварно. Оно нашептывает: ты сильная, ты можешь одна. Ты вырастишь дочь, и у нее все будет не хуже, чем у других. Лучше. Намного лучше. Потому что и дочь лучше других. Гораздо. Ей не повезло с отцом. Ничего. Зато с матерью – повезло. У нее будет все, потому что она способная, умная и красивая. Добрая и обаятельная. Лучшая мамина подруга и советчица.
Одиночество научит гордыне. Одиночество отучит терпеть естественные недостатки другого человека. Одиночество приспособит душу лениться, ибо общение – серьезный труд, сочувствие – подвиг, на который вряд ли станет способен тот, кто с головой погрузился в себя.
Миновали ожесточенно-неопределенные годы раннего Витутиного детства. Переболели, какими положено, болезнями. Поизнуряли себя поездками в какие положено кружки и спортивные секции. Приспособились к бессмысленно жестоким требованиям спецшколы. Вышли на нужных репетиторов. Поступили в университет.
За это же самое время защитили мамину кандидатскую, выпустили монографии, подготовили докторскую.
Аля привыкла рассуждать о себе и о дочери во множественном числе: мы сдали выпускные, мы прошли ученый совет. У них все общее. Хотя все Витутино – важнее.
Девочка вышла такая, как мечталось. Вита – жизнь. Витутой ее в младенчестве дачная хозяйка в Паланге называла. Так и пристало это имя.
Жизненные силы переполняли Витуту. Она все могла, и ничего ей не было трудно. Одно только казалось непостижимым: что за зверь такой – мужчина? Как с ним управляться? Она никогда не жила с мужчиной под одной крышей. Кратковременные дедушкины визиты в раннем детстве в счет не идут. От матери к девочке передалось недоверие к существам противоположного пола. Они с матерью не могли бы считаться настоящими подругами, если бы та не рассказала все про внезапное предательство и безответственность Витутиного отца, которого дочь не могла ни простить, ни понять: оставить такую безупречно-прекрасную женщину мог действительно только законченный негодяй.
И все же ее тянуло к этим неведомым существам, от них исходило обещание какой-то совсем иной жизни – настоящей.
С недавних пор к Витуте пришло понимание, что их с мамой жизнь – нечто не совсем подлинное, как бы ущербное.
Выросшая в атмосфере поклонения и полной самоотдачи матери, Витута привыкла воспринимать любовь извне и даже награждать любящего человека ответными ласками. Но сама любить она не умела. Пока.
Огромное жизнелюбие, темперамент, любовь к самой себе – все это привлекало к ней необыкновенно. И она играла молодыми людьми, как кошечка с пойманной мышкой.
Аля любила это ее особое выражение лица – охотничье. Внешнее безразличие и даже некая апатия притягивали очередную жертву. Витуте самое главное было – услышать объяснение в любви. Напитаться силой отчаянного мужского чувства. Увидеть, как покоряется большой, непонятный, чужой. Ей ничего больше нужно не было.
Они вечерами болтали о Витутиных поклонниках: о тех, кого пора уже было отшивать из-за слишком большой настойчивости, и тех, кого интересно бы одолеть.
Какая-то веселая пошла у Али жизнь, молодая. Звонки постоянные. Голоса мужские ее с дочерью путают. Начинают ласково курлыкать в трубку всякую чепуху:
– Алло, Витутик, ну чего мы такой печальный? Один дома, а? Давай я приеду? Чего тебе привезти?
– Я не один дома и не печальный, и не Витутик, – отвечает, давясь от смеха, Аля.
И радуется смущенному восклицанию о ее молодом голосе и сходстве с дочкой. И тут только начинает потихонечку догадываться, что если кто-то невидимый удивляется ее молодому голосу, то, стало быть, ее молодость уже в расчет не принимается. Она вроде бы считается уже ушедшей, ее так и не начавшаяся, между прочим, молодость.
Время, конечно, меняло ее лицо, делая его серьезно-взрослым. Но чтобы измениться внутри, надо приобрести какой-то опыт человеческих взаимоотношений, взять на себя ответственность не только за часть себя – собственную дочь, а за совершенно чужого человека, который мог бы стать самым близким, но мог бы и нанести страшный удар, чего она больше всего и опасалась. И что в итоге? Сидит глубоко в душе запрятанная девочка, так и не прожившая свою женскую жизнь, не навлюблявшаяся как следует, не нацелованная до полного изнеможения. Сидит в оболочке такой «рабочей лошадки», порядком объезженной жизненными обстоятельствами и трудами праведными во благо дочери.
А дочь – удалая охотница все реже бывает вечерами дома. И хотя Аля знает, где она и с кем, и в любой момент может отзвонить чаду на мобильный, чтобы удостовериться в полной ее сохранности, нет в ее душе покоя и радости.
И именно в такой поворотный момент – от радости счастливой слиянности с выросшей дочерью к осознанию неминуемой с ней раздельности – что-то новое появляется в ее собственной жизни.
Он пришел на кафедру, чтобы поговорить о том, что его интересовало. С ее монографией в кармане куртки. Спросил у Али, где можно найти такую-то – вытащил книгу из кармана, подчеркнул пальцем фамилию.
– Уже нашли. Это я, – торопливо ответила собравшаяся убегать на лекцию Аля.
– Вы?! – потрясенно переспросил молодой человек. – Я думал – она старая, мудрая такая профессорша.
– А я и есть старая и мудрая. Ну, давайте ваши вопросы, времени нет совсем.
Ему надо было поговорить обстоятельно, не спеша. Назначили встречу на следующей неделе. Собеседник оказался интересным. Шесть лет, как закончил университет, теперь представитель конкурирующей фирмы. Работает успешно. Хочет в аспирантуру. Под ее руководство. Наработано много, статьи есть. Кто ж от такого аспиранта откажется? И столько общего с ней! В одном направлении мысли идут.
Он, разумеется, поступил. Работать стал истово. Вышел на идеи, полностью идущие вразрез с общекафедральными установками. Аля понимала, что он прав. Она давно подошла к подобным выводам, но не хотелось трудностей с докторской, поэтому пока отмалчивалась, концептуальных революций не затевала.
– Вы подождите пока, Олег, не будьте экстремистом. Вот защититесь, тогда…
И вспомнила, как перед вступительными экзаменами в институт спросила что-то на консультации и вслух удивилась абсурдности ответа.
– Да, это абсурд, – подтвердила преподавательница, – но на экзамене советую произнести этот абсурд, а потом уже, поступив, вы обретете свободу этот абсурд ниспровергнуть.
Но даже подойдя к защите докторской, не решилась Аля стать ниспровергателем: ей всегда было что терять и во имя чего подниматься к вершинам премудрости.
Олег упорно не желал впитывать положительный житейский опыт. Как-то в пылу спора он случайно перешел на «ты», обмолвившись:
– Для меня дело не в защите, я на хлеб и так зарабатываю. То, что я говорю, на сегодняшний момент – истина, да и в твоей книге – о том же, только намеками, понимай, кто умный.
Он даже не заметил оговорки. А с ней – как в кино – произошли мгновенные изменения. После этих его слов «в твоей книге» она словно бы отодвинулась от него далеко-далеко и вгляделась внимательно: перед ней сидел мужчина. Не очередной робкий ученичок, не смеющий слова поперек сказать, и не трусоватый эгоист, как тот, что оказался способным оставить жену с грудным ребенком. Вот мужчина другой генерации. Твердо стоящий на ногах и уважающий себя за дело. И мужчине этому двадцать девять лет. А ей – сорок один. И у нее восемнадцатилетняя дочь. Поезд уходит. Но почему тогда возникает отчаянное – до слез – желание чувствовать себя женщиной, любимой, желанной, ведомой, покорной. И откуда это стремление прожить наконец не прожитую по трусости молодость – беззаботную, веселую, нежную, добрую, какой нет и не может быть в по-настоящему молодые годы из-за кучи тревожащих душу проблем, на поверку оказывающихся пустяками.
Она не спала ночь. «В твоей книге… в твоей книге»… Она хотела, чтобы это «ты» не было оговоркой, хотела услышать его голос. Пусть он просто позвонит. Пусть на «вы». Пусть о научной чепухе. Но он. Ей. Пусть.
Он и позвонил, как только настало утро. Хотя было воскресенье и по выходным научные руководители не консультируют аспирантов.
– Я, знаете, все ждал, когда утро настанет, чтобы позвонить вам, – честно сказал он.
– Я тоже ждала, – бесстрашно призналась она.
– Тогда пойдемте в музей.
– Тогда пойдемте.
И в Пушкинском, проходя по залам мимо греческих богов, мимо знакомых с детства картин, они говорили, говорили, говорили. Будто впервые увиделись. О детских снах и страхах. О том, кто что любит. О зиме и лете. О море и реке. О солнце и дожде.
Только вернувшись, Аля вспомнила, что Витута вроде бы не ночевала дома. Но как-то спокойно вспомнила, без паники. Ну, не ночевала дома взрослая девочка. А я и не заметила!
Боже, какое счастье! Все-таки это со мной случилось!
Все прежнее отошло в тень. Началась ее собственная жизнь. Сейчас она состояла из ожиданий встреч и ожиданий звонков. Встречи и звонки – это было полное счастье. Ожидание – беспредельное мучение. Все вместе составляло новую реальность.
Аля училась быть женщиной. Приглядывалась к Витуте по-новому. Оказывается, та знала, как правильно одеться, какая прическа молодит, а какая старит, что надо есть, чтобы не толстеть, и как накраситься по-хитрому: чтобы никто не заметил макияжа, а просто удивлялся твоему свежему сиянию.
Ей ничего не понадобилось объяснять про них с Олегом: умная девочка все поняла и приняла просто и естественно. Вполне можно было сказать, что она подружилась с маминым другом – так, неопасно подружилась, общалась, как с приемлемым взрослым, доверяя материнскому вкусу.
Иногда, критически глядя на Алю, Витута выдавала ценные объективные рекомендации, которым, как показывал дальнейший опыт, стоило следовать неукоснительно, но которые при этом безжалостно обозначали возрастную дистанцию между матерью и ее долгожданной любовью:
– Нет, мам, ты в этих очках с Олегом не ходи. В таких уже никто не ходит. Лучше линзы.
Аля покорно заказывала линзы. Олег восхищался ее молодостью и удивлялся, почему это раньше она все в очках да в очках…
– Что ты все время в этом пиджаке ходишь, как заслуженная учительница! – возмущалась Витута.
И правда: столько лет все в одном и одном, да еще радовалась – удачный какой пиджачок попался, и не мнется, и стройнит. Немедленно покупался свитерок, как у дочери.
Одного только и боялась она: как бы до времени не узнали на кафедре. Тогда с докторской ее точно прокатят. Пока она была одинокая мать, бьющаяся, чтобы поднять ребенка, и при этом всецело отдающаяся работе, завидовать было нечему. Ей даже помочь старались.
Но радостная роль счастливой любовницы молодого аспиранта… Б-р-р… даже подумать страшно, что начнется и какие серьезные недочеты обнаружатся в ее научном труде…
На кафедре она появлялась в привычном пиджачке, старящих ее очках. Олег правильно понимал причины этого маскарада. Он тоже должен был решать свои непростые проблемы. Его преклонных лет родители суровели с каждым прожитым годом, не собираясь делить единственного сына ни с кем извне. Он не раз порывался купить себе собственное жилье, да так и не решился из сострадания к своим старикам, не представляющим жизни отдельно от сыновней.
Время шло. Они сближались все теснее. По большей части Олег ночевал у Али. К командировкам сына родители привыкли давно и пережить отсутствие такого рода могли вполне – надо так надо.
Аля боялась привыкнуть к тому, что ее балуют подарками, деньгами, которые Олег приказывал тратить, не считая: еще будут. Все-таки привыкла. И настоящего стало мало, мечталось о будущем. Вот бы пожениться. Она еще успеет родить и вырастить сына. Девочку не хотела: лучше Витуты все равно не будет.
Но не самой же предлагать руку и сердце. Да еще с такими препятствиями, как ее докторская и его родители.
Морозным снежным декабрьским вечером все произошло само собой. Не так, как мечталось, но все же…
Аля пошла проводить Олега до метро: остаться не мог, прихварывала мать. Все в этот день шло наперекосяк: машина у него не завелась, после работы добирался к ней в час пик общественным транспортом, пробыл совсем чуть-чуть и засобирался к неведомой разлучнице-матери, не понимая, как в эти темные длинные вечера он нужен здесь. До метро шли молча, даже не под руки: оба забыли перед выходом перчатки, и оказался повод показать раздражение, не развивая его в дальнейшую ссору: идти, сунув руки в карманы, сосредоточенно глядя под ноги, чтобы не поскользнуться на ледяной колдобине. Так бы и идти. И попрощаться сухо у метро, но в самом людном и светлом месте он остановился, развернул лицом к себе, провел пальцем по ее губам, очертив их линию, нагнулся и поцеловал, долго-долго.
Очнувшись, Аля столкнулась глазами с женщиной, пристально на нее глядящей. И в ту же секунду узнала ее, но не нашла в себе решимости хотя бы кивнуть.
Попалась! Она все-таки попалась! Узнала ее эта кафедральная крыса. И ведь никогда раньше с ней здесь не встречалась! Головокружение от поцелуя мгновенно улетучилось. Аля крепко стояла обеими ногами на твердой почве тоскливой зимней Москвы. Оставалась одна надежда: в целовавшем Алю мужчине кафедральная карга могла не признать их же аспиранта.
– Да наплевать, – засмеялся Олег, – пусть узнала. Все равно скоро поженимся. Ты не против? – он смотрел с улыбкой, сверху вниз, как взрослый на маленькую.
Она потянулась к нему, обняла, мороз щипал руки, и было действительно наплевать на все, кроме них и кроме тех слов, что он произнес. Эти слова все звучали и звучали в ней всю ночь. Всю ту одинокую, бессонную ночь.
Они так решили: раз скоро Новый год, пусть будет двойной праздник. Устроить помолвку в Новый год, отпраздновать вместе с родителями. Почему обязательно ждать сопротивления с их стороны? Может, они как раз обрадуются их счастью. Ведь перед ними открывается будущее их сына, у них наконец, вполне возможно, появится внук…
Аля нашла небывалую елку: такие же точно голубые красавицы росли у Кремлевской стены. Стоило это чудо целое состояние – плевать! Витута впервые отказалась встречать Новый год дома – плевать! И на многочасовые хлопоты у плиты – плевать! Все равно она была веселой и молодой. Любила весь мир, кто сможет устоять перед силой ее любви? Родители на то и родители, чтобы первыми почувствовать, любят их сына или притворяются ради незнамо какой выгоды.
На звонок в дверь она летела, готовая обнять тех, кто создал это чудо – ее будущего мужа, готовая любить и жалеть.
На пороге стоял Олег с нестарой, приземистой, квадратной женщиной, широко улыбавшейся накрашенным ртом.
– Знакомься, Алечка, это моя тетя Лида.
– Отца его сестра, – добавила гостья, обнимая разгоряченную Алю.
– А где?…
– А дома остались, – в тон ей ответила тетя Лида. – Принципиальные они у нас, заранее, за год приглашение надо было высылать по спецпочте.
– Ну, видишь, не пришли пока. Не ожидали от меня, что жениться надумаю, – объяснил Олег, внося в комнату сумки с шампанским, подарками ей и Витуте и всякой ненужной теперь снедью.
Тетя Лида заглянула только на помолвку и проводы уходящего года. Жила-то, оказывается, на соседней улице – мир тесен. Шумная, бесцеремонная, уютная – своя, она восхищалась Алиной стряпней, квартирой, прической. От елки в исступление пришла: где такие берутся?
В десять открыли шампанское, и Лида – на правах старшей – напутствовала:
– Ваше здоровье, молодые! Все у вас будет хорошо, Алечка и Олежка, я это вижу. Берегите друг друга. На стариков не обижайтесь, дозреют, стерпятся. А я вас благословляю! Целуйтесь теперь, мои голуби, весь Новый год, чтоб потом все двенадцать месяцев в любви пролетели. А я полетела к своим, заждались меня.
В коридоре, прощаясь, Лида шепнула Але:
– А ты сама свекру со свекровью позвони, не гордись. Вон они тебе какого сокола отдают. Звони, говори с ними, пусть успокоятся, поверят, что в хорошие руки сын попал, что их не обидишь, уважаешь. Помоги им себя пересилить.
Но где там – помогать кому-то пересиливать себя, если всю жизнь прожила с неуязвленной гордостью.
Аля зашла в пустую Витутину комнату, вдохнула запах дочкиных духов, витавший среди разбросанных в сборах вещичек: где теперь ее девочка? Как хорошо они вдвоем встречали Новый год раньше, елку вместе наряжали, целовали друг друга под бой курантов, ждали обе счастья, а на самом деле как были счастливы тогда! Давно они не болтали, обнявшись, общей их жизни почти не осталось! Выросла! Выпорхнула из гнездышка! Пока она занималась собой, своей любовью, ее девочка перестала в ней нуждаться.
Дочка – вот ее единственная любовь! Не иллюзии надо строить, а беречь то, что есть.
Но Олег не был иллюзией. Он увел ее из темной Витутиной комнаты в их праздничную, пахнущую елкой и мандаринами, и они все не могли нацеловаться, надышаться своим счастьем, свободой стонать и вопить под праздничную музыку, хлопки петард и новогодний бой часов.
Год обещал быть счастливым. Олег практически переехал к ней. Свадьбу наметили на осень. За это время, в мае, защитится он, в октябре – она. Родители дозреют. О родителях Аля старалась не думать – не ее проблема. Иногда она слышала, как Олег звонит своим, никогда не произнося слов «папа», «мама»:
– Это я. Как вы? Да, я тут. Да, сегодня остаюсь. Ага. Ну, пока, утром позвоню.
Вот и весь разговор. Аля понимала, что он заезжает к ним, завозит деньги, продукты. Но что об этом говорить? Звонить и уговаривать, как советовала Лида, она не могла, и точка. Да Олег и не просил ее об этом. У них и без того было много тем для разговоров. Он уже купил просторную квартиру, в которой велись отделочные работы по ее, Алиному, вкусу. А откуда у нее вкус? Вкус был у Витуты. Это она знала, в какой цвет стены красить, какую сантехнику устанавливать, какую кухню подобрать. Много чего знала Витута. И хорошо. Не до убранства комнат было Але перед сдачей докторской.
Защита Олега прошла блестяще. Зарубежные партнеры пригласили его на три месяца прочитать курс лекций в университете. Он не мог оставить дела своей фирмы и порекомендовал Алю: у нее гораздо больший опыт. Все лепилось одно к одному: то монотонное существование, когда каждый день был похож на предыдущий, кануло в прошлое. Защиту удалось перенести на сентябрь. Свадьбу назначили на конец декабря. Как раз она вернется, и новая квартира будет готова.
Одна была печаль – Витута. Они еще никогда в жизни не расставались. Ночевки в разных концах города не в счет. А так – на целых три месяца… И Витута, и Олег дружно утешали: ну что может случиться? С голоду не пропадет, университет за это время пропускать не будет, созваниваться можно каждый день. Когда-то все бывает в первый раз. Пора привыкнуть, что двое взрослых людей – мать и дочь – должны жить каждая своей жизнью. И три месяца – не три года, пролетят незаметно.
Разлука далась тяжело. Не хватало Олега страшно. Она, оказывается, привыкла быть любимой. Не хватало Витутиной болтовни, ее энергичного напора, силы ее молодости.
Они встречали ее на вокзале. Два самых дорогих ей человека.
Издалека, еще глядя на них из запыленного окна поезда, она уловила тень перемены. Не было долгожданного веселья в их лицах, не подрагивала нетерпеливо Витута, готовая сорваться и побежать навстречу материнским объятиям, взгляд Олега показался чужим. Не увидели они ее? Или разлука сумела-таки что-то разрушить?
Они медленно приближались друг к другу, и вдруг Аля увидела Витутин быстрый охотничий взгляд снизу вверх на Олега. И сообщнический молчаливый кивок его сверху вниз – Витуте.
Как это ей раньше в голову не приходило? Не она с Олегом – пара. Вот – пара. Прекрасные, молодые, сильные. Вместе. Они уже все решили. Когда? Может, задолго до ее отъезда? И эта ее поездка – Олегово благодеяние, – только чтобы развязать себе руки?
А его вздохи по телефону ночами: «Не могу без тебя, не могу…» Зачем? Чтобы раньше не вернулась? И то, что стариков уговорил, и они согласны, и придут и до свадьбы, и на свадьбу?
Какая теперь свадьба!
Ах, Витута, Витута! Не удержалась! Попробовала свои коготки. На материной единственной любви. На долгожданном счастье.
Нет, она, конечно, не со зла, не специально. Инстинкт охотницы – никуда не денешься. Поиграла. Забылась. И не нужен он ей. А вот теперь… Не знает, как матери в глаза взглянуть…
Он… вот кто виноват. Такой же, как все. Чужой. Вероломный. Мужчина. Враг. Все у нее взял, что мог. Все – знания, информацию, любовь, дочь.
Ведь Аля за долгие одинокие годы умела видеть людей насквозь. Ей не надо было слов. Она и так знала о людях и о жизни по максимуму. Сейчас главное было как-то дойти эти последние несколько шагов до них, не закричать, не заплакать. Впрочем, плакать она бы и не смогла: слезы высасывала изнутри бездонная тоска, мгновенно окрасившая все окружающее в тусклый серый цвет: и рыжую Витутину шубку, и огромную зеленую елку с красными бантами в здании вокзала, и подаренный ею на тот счастливый Новый год радостный полосатый шарф Олега.
– Устала? – услышала она участливый голос предавшего ее человека. – Давай я понесу.
Они шли молча. Их вина и ее знание создали такую страшную смесь, что каждый вдох давался Але с усилием.
Она поняла: сейчас он отвезет их с Витутой домой, сам уедет к себе, у нее не останется. И все. Это было все. Рассказать ей у него не хватит смелости. Он просто спрячется, укроется от ее горя. Расхлебывать будут они с Витутой. Хотя – что «с Витутой». Она себя от матери сама отрезала. Что тут «расхлебывать»?
Надо просто стараться вдыхать и идти. Вдыхать и идти. И как-нибудь…
…Он хотел пропустить ее первой в дверь подъезда. Наверное, чтобы еще раз напоследок переглянуться с Витутой.
– Вы идите, я чуть на воздухе побуду, – смогла произнести Аля. Пусть договариваются, как хотят. Ей надо продышать свою тоску, дух перевести.
– Кисуленька, я сейчас чемодан занесу и на работу, может, чайку вместе попьем?
Он как ни в чем не бывало смел называть ее им же придуманным ласковым прозвищем. Но голос-то не прежний – участливо-горький. Сочувствует.
Она отрицательно качнула головой.
– Ну я после работы приеду, – зачем-то продолжал ломать комедию молодой человек, не глядя ей в глаза.
Впрочем, и ей было не поднять на него глаз.
Ушел. Аля вздохнула. Начинался новый отсчет времени.
А ты как хотела? За счастье всегда надо платить! И вот она – плата. Ничего. Дыши. Смотри на пар собственного дыхания, на снежинку, прилетевшую умирать на твой рукав: все как всегда, и после такого все будет как всегда.
– Вот кто знает, где настоящую елку купить! Вот у нас главный по елкам специалист! – донесся до нее когда-то слышанный голос.
Тетя Лида! Ее именно сейчас тут не хватало. О чем с ней теперь говорить? О своем позоре? Пусть племянник сам объясняет по-родственному.
Широкое лицо простецки сияло радостью. Глядя сквозь это лицо, как сквозь невидимое привидение, Аля нашла в себе силы проскрипеть неприязненно-ржавым голосом:
– Вы меня с кем-то путаете. Я вас в первый раз вижу.
И, повернувшись лицом к подъезду, также «сквозь» взглянула на замершего у раскрытой двери Олега, увидевшего и услышавшего все разом.
Сюжет был завершен.
Минуя его, не коснувшись, вошла Аля в свой дом начинать новую старую жизнь.
Витута уже лежала, заботливо подоткнутая со всех сторон одеялом. Он позаботился, уложил. Ну пусть отдыхает.
И все же не выдержала, подошла:
– Что, тебе нечего мне сказать?
– Давай не сейчас, – тихо попросила Витута.
– Почему же? Зачем откладывать? – Алю прорвало, и голос наконец-то зазвучал в полную силу.
– Мне плохо просто, – пожаловалась Витута матери.
– А мне хорошо?! Обо мне ты подумала?! Ты что думала, все всегда для тебя?
Аля смотрела в лицо дочери и видела забытые черты ее отца. Вот в кого она выросла. Бездушная, эгоистичная тварь. Вот чьи гены победили!
– При чем здесь ты? Я думала о тебе, но ты-то здесь при чем?
Витута села на кровати, цепко и неприязненно глядя на мать.
– Я тебя просила оставить меня в покое. Ты не хочешь. Тогда слушай. Я аборт сделала. Позавчера. В районной женской консультации. Я сделала аборт! Без анестезии! Меня там вырвало. И они велели мне мыть пол. После всего этого. Я мыла пол, а эта тетка там, нянька, что ли, сказала, что после первого аборта детей не бывает! Довольна?!!! Ты теперь довольна?!!!
Аля видела только бескровные губы дочери и черные круги под ее глазами.
– Зачем же ты это сделала? Почему не подождала меня? Почему – так? И он – что он – не знал?
– Я тебя не подождала, потому что ты – дура! Дура и только себя понимаешь! И думаешь, что самая умная. Все у тебя должно быть по правилам! Ты все лучше всех знаешь! Я тебя ненавижу!!! Ненавижу, слышишь!
Аля отшатывалась от страшных слов в ужасе и понимала, что от них не уберечься, что теперь должно быть именно так.
– Я не хотела ребенка из-за тебя! Из-за твоих сволочных правил! Из-за того, что «сначала диплом и замуж за порядочного…». А он, он непорядочный, поняла? Женатый он! И я потом только узнала… Когда уже ребенок был!
– Так это не… – Аля тут же осеклась, но состояние Витуты делало ее особенно чуткой.
– Не Олег, ты хотела сказать? Ну, ясно, что ты еще можешь подумать! Одноклеточная, пошлая дура! Только тебе одной может быть больно! Только ты рассудишь по справедливости! Я все заранее знала! И никому из вас не хотела говорить! Но у меня температура поднялась. Он привел нормального врача. Умолял все тебе сообщить. Я с него клятву взяла, что он молчать будет, пока я сама не решу. Довольна? Все выпытала?
Неважно, какие слова произносила бедная ее девочка. Неважно, что «ненавижу» Аля впервые услышала от самого дорогого ей существа. Случилось непоправимое. Гораздо страшнее всяких слов. И случилось – она знала – и по ее вине тоже. Она действительно – ни разу в жизни – еще не пыталась кого-то понять. Не умела простить, не умела смириться.
Надо было чему-то учиться. Чему-то самому главному. Она пока не знала, что это. И, как слепая, на ощупь, протягивала руки вперед, навстречу случившейся беде.
Махну серебряным тебе крылом… [3]
Оставалось пройти паспортный контроль. Антон встал в небольшую очередь – сегодня в цюрихском аэропорту почему-то всюду были очереди, – достал заранее паспорт.
«Ай лав ю со мач, ай вил мис ю» [4], – услышал он впереди себя нежный тихий шепоток. В шепотке слышались слезы. Впереди стояла красивая пара, как он сразу их не заметил? Не швейцарцы – иначе зачем английский. Но иностранцы. В смысле, не русские, не наши.
Мужчина – высокий, статный, ухоженный – одна стрижечка чего стоила, в костюме, который тянул на несколько тысяч баксов, судорожно обнимал тоненькую бледную девушку с короткими темными волосами.
«Вылитая Деми Мур», – определил Антон. Он увидел ее тонкие пальчики с длинными ноготками лопаточками (самая модная форма, жене его так же теперь маникюрша делает). Некоторые пальцы были украшены не слабыми колечками: в одном – крупный бриллиант, в другом – изумруд. И мужчина, и девушка были совсем из другого мира. Там летают на личных самолетах и не стоят в очереди на паспортный контроль. Но мало ли что бывает?
Девушка продолжала шептать свои отчаянные слова. Мужчина молчал, прижимая ее к себе. Антон постарался встать так, чтобы можно было увидеть его лицо: в глазах того стояли слезы, одна слеза катилась по щеке. Девушка подняла лицо, встала на цыпочки и выпила ее. Мужчина объятий не разжал, уткнулся лицом в ее волосы.
Антон был растроган. Он никогда не видел, чтобы такие мужики не то чтобы плакали, а вообще хоть как-то проявляли свои чувства. Сидят на переговорах с приветливо-каменными лицами, до последней минуты не поймешь, что решили. Хотя тут было все понятно – когда такая девушка говорит тебе о любви, и выпивает твою слезу, и прижимается к тебе беспомощно, а ты с ней должен расстаться, – тут можно и зарыдать. Все поймут.
В общем, пара излучала такую любовь и боль от предстоящей разлуки, что долго смотреть на них было трудно: становилось завидно. И хотя у Антона была красавица жена, и они любили друг друга, и верили друг другу, и скучали, расставаясь, ужасно, но тут у него как-то учащенно забилось сердце. Захотелось быть на месте этого мужика, чтобы так же красиво все было, и пусть даже больно невыносимо, но чтобы так же потянулось к тебе любимое, единственное лицо, чтобы слезу твою выпила. Очередь двигалась медленно.
«Вот счастье-то для этих», – подумал Антон и глянул вперед: много ли еще народу. И глаз не смог оторвать! Перед отчаянно прощающейся парой стояла еще одна, почти такая же. Только у этого, нового мужчины волосы были чуть светлее, и сам он был несколько круглее – типичный процветающий швейцарец, а девушка его была не Деми Мур, а вообще ангелоподобная Мия Фэрроу, какой она была в «Ребенке Розмари». (Жена у Антона любила кино и его приучила, так что ему типы внешности было легче всего определять, сравнивая с кинозвездами.)
Эта пара прощалась менее выразительно, но более темпераментно: жадно целовались, отстранялись, смотрели друг на друга, потом опять бросались друг другу в страстные объятия.
Ситуация из эксклюзивной превращалась в обыденную, комическую даже. Зависть прошла. Антон стал думать о своих служебных делах.
На подходе к пограничнику обе парочки жестом пропустили его вперед – не напрощались, значит. Он глянул напоследок на девушек: бывают же такие. Темненькая по-прежнему что-то жалобно шептала своему спутнику, гладила его по щеке узкой рукой, а голубоглазая «Розмари» как раз подставляла губки для очередного жаркого поцелуя.
Войдя в салон самолета и заняв свое место, Антон достал деловые бумаги и принялся их перечитывать.
– Танька, блин, чуть в самолет из-за вас, козлов, не опоздали, – раздался почти над самой его головой задыхающийся хрипловатый женский голос. Стервозный такой голос энергичной московской девки.
Взъерошенная Деми Мур обращалась к запыхавшейся Мии Фэрроу. Обе плюхнулись в пустовавшие кресла перед пораженным Антоном. Он слушал, стараясь не пропустить ни слова.
– Ну, Дашк, – сказала Мия более пискляво, но с теми же развязными интонациями, что и ее подруга, – ну, ты мне такое дело сделала, век тебе не забуду.
– Да ладно, чего там, – отвергла благодарность Деми. – Ты давай рассказывай, как у вас там. Мы ж с тобой теперь соседки будем, мне к тебе только с горочки спуститься. Это тебе не Братеево с Теплым Станом.
Обе сыто заржали, и Танька, уже совершенно утратившая в глазах Антона даже приблизительное сходство с похожей на ангела Мией, принялась хвастаться:
– У него такая вилла! Комнат двадцать! Не сосчитать! Две ванны джакузи! Мы все время – то в одной, то в другой. Смотри, какая я промытая, да? Сад большой, бассейн. Слушай, пферд – это лошадь? Вот, у него, значит, еще пферды есть, только не здесь, в другом каком-то месте. На пфердах скакать будем, сказал, по уик-эндам! Представляешь? А в моей ванной – ты бы видела (у него несколько ванн, с ума сойти!), так в моей – туалетных вод всяких – тьма: и Живанши, и Келвин Кляйн, и Шанель, и Элизабет Арден, и Тифани, и Герлен. И к ним такие же гели для душа, и кремы! Знаешь, кайф какой! Я даже с собой оттуда немножечко взяла…
– Вот дура! – с досадой оборвала ее Дашка. – Это ж все твое будет, зачем же у самой-то себя переть, это тебе не из клубного сортира жидкое мыло скомуниздить. Сколько тебя учила, а ты… Ты, наоборот, делай вид, что для тебя это все – тьфу, дерьмо собачье, видела и не такое тысячи раз. Ты же, типа, сама не голодрань, человек приличный, хоть и от одиночества уставший. И тебе, типа, кроме любимого человека, ничего и не нужно.
– Нет, Дашк, я не перла. Я у него в последний вечер, когда мы в ванне, ну, это… И я ему говорю: «А можно я с собой на память возьму вот эти духи?» Что я, когда ими подушусь, сразу этот вечер вспомню, как у нас все было. А Уго мне говорит: «Это же я специально для тебя и покупал, не знал, что ты любишь, волновался, вот и купил разное». Он увидел, что я Шанель взяла (она же самая дорогая, правильно?), так сегодня перед отлетом, смотри, чего мне еще принес.
– Ух ты! – похвалила Дашка. – А мне мой сегодня, смотри, что подарил.
Танька молчала, видно, подарок разглядывала. Потом протянула:
– Это да-а! Бриллиант настоящий?
– Ага! Я на душки не размениваюсь. Это ж обручальное, Таньк! Мы с ним вчера помолвились, считай, официально. Он прием устроил, народу назвал, все от меня балдели по-страшному. В общем, показала я им европейский класс. А их бабы – такие коровы: накраситься толком не умеют, одеваются, как чушки, я-то волновалась, думала: как я там среди них. Но хорошо еще: все по-английски говорят…
– Счастливая ты, Дашка, по-английски можешь. А я вообще – дура дурой, как глухонемая, все на пальцах объясняла. Ну, ничего, сейчас прилетим, на следующий же день на курсы пойду.
– Курсы курсами, а ты как с Шуриком своим будешь? Уго твой знает, что ты замужем? Сказала ты ему? Как ты за него выходить-то собираешься? Они же ведь через месяц приедут!
– Ой, Дашка! Я об этом все время думала: ну что мне делать, такого шанса ведь больше не будет у меня. Вот ты представь, возвращаюсь я сегодня в нашу трехкомнатную, к Шурику моему благоверному с его мамочкой. Я тебе еще не рассказывала, что она недавно отмочила? Он на работу собирается, у него что-то важное на девять утра было намечено, ну и мамусенька нас, сынулечек своих малолетних, перед выходом оглядывает, есть ли у нас платочек носовой и всякое такое, и вдруг она так тревожно: «Шура, а ты трусы сменил?» Он отмахивается, мол, спешу, мам, не до трусов мне, так она за ним к лифту бежит и на всю лестницу вопит: «Шура, смени трусы! Шура, смени трусы!» Он у нас мальчик послушный, вернулся трусы менять, на меня орет, торопится, я виноватой оказалась, представляешь, мамочке никогда ничего не скажет, всю злость на мне выместит. И что ты думаешь: опоздал он на свою серьезную встречу из-за трусов! Вот какие у нас дела! Надоело мне все это, мужику сорок пять лет, а без маминой юбки – никуда. И мама у нас – святая, непорочная, какая бы ей моча в голову ни ударила.
– Да, слов нет, – хмыкнула Дашка, – ну думай, как ты будешь. Они как про развод узнают, ведь грызть тебя начнут, тебе тогда сразу уходить надо, а Вовчик как же? Хорошо, я себе крылья не обрубила. Свободная. Правда, ты все-таки за ними была как за каменной стеной, ни о деньгах, ни о том, как с начальником поладить, у тебя голова не болит. А я… Хватит, насекретутствовалась. Шефа кондрашка хватит, когда узнает, за кого я замуж выхожу. Козел вонючий. Теперь он под мою дудочку попляшет. Это ему не за триста баксов в месяц надо мной измываться. В общем, заживем, как белые люди.
Таньку грызла мрачная дума:
– Даш, я знаю, что я сделаю: пойду в суд, подам заяву, типа, он алкаш, бьет меня, где он – не знаю. Они его вызовут, он не придет, нас и разведут. Мне Машка говорила, она со своим, он у нее правда пьянь был, так развелась. Легко и быстро. Шурик с мамулечкой даже и не узнают ничего. Я за Уго выйду, а потом уже им скажу. Во они обалдеют!
– Это ничего, – одобрила Дашка. – А Вовчик? Может, Уго твой вообще детей не захочет. Или чужих не выносит. Знаешь, есть такие мужики – на чужих детей аллергия. Удавятся, а бабу с ребенком не возьмут.
– Он добрый, Дашка! И как раз детей любит! И спрашивал меня, сколько у нас детей будет. И сказал, что много хочет. Придумаю что-нибудь. Еще не вечер. А Вовке только лучше будет.
Дашка откинула спинку кресла, которое уперлось прямо в колени Антону.
– Мужчина, уберите свои ноги, вы мне отдыхать мешаете, – вызывающе брезгливо потребовала она, повернувшись к нему.
Он увидел ее цепкие пальцы, хищные ногти, кольцо с массивным бриллиантом. Отвечать не хотелось.
– Дашк, ты что, не видишь, это же иностранец, не понимает он тебя, – проворковала Танька и ласково улыбнулась.