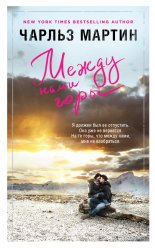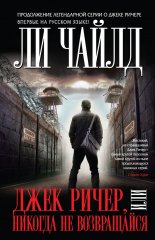Человек со связями (сборник) Улицкая Людмила
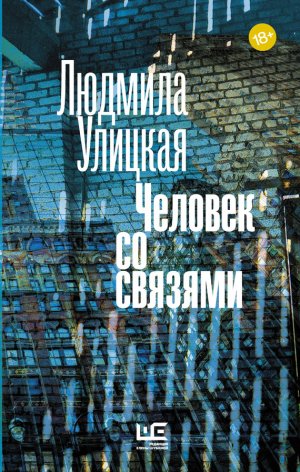
– Гадина поганая! Сука гребаная!
Приспустив печальные веки, Мур с тихой укоризной обратилась к внучке:
– Забери своего выблядка, деточка. Деточка, детей надо воспитывать, – и, поскрипывая колесиками, поехала на кухню.
Катя, еще не догадываясь, что за комок бумаги теребит рыдающий Гриша, уволокла его в комнату, откуда еще долго раздавались всхлипы.
В тот день Анна Федоровна пришла с работы усталой более, чем обычно, – есть вещи, которые утомляют человека гораздо более, чем сама работа. Привезли очень тяжелую девочку. В детском отделении не было врача соответствующего профиля и квалификации. Девочка была Гришиного возраста, с осколочным ранением. Операция была очень тяжелая.
Складывая в футляр прибор для измерения кровяного давления, Анна Федоровна размышляла: откуда у Мур берется энергия? При таком давлении она должна была испытывать сонливость, слабость… А тут агрессивность, острота реакций. Вероятно, вступают какие-то иные механизмы. Да, геронтология…
– Да ты меня не слушаешь! О чем ты думаешь? Я против, ты слышишь меня? Я не была в Греции! Никуда они не поедут! – Мур теребила Анну Федоровну за рукав.
– Да, да, конечно. Конечно, мамочка.
– Что – конечно? Что ты мамкаешь? – взвизгнула Мур.
– Всё будет, как ты захочешь, – успокаивающим тоном сказала Анна Федоровна.
“Нет, дорогая моя, на этот раз – нет”, – твердо решила Анна Федоровна. В первый раз в жизни. Слово “нет” еще не было произнесено вслух, но оно уже существовало, уже проклюнулось как слабый росток. Она решила просто поставить мать перед фактом семейного неповиновения, никаких предварительных разговоров по этому поводу не вести. Можно было только догадываться, какую бурю поднимет это прозрачное насекомое, когда выяснится, что дети уехали.
К началу июня были готовы иностранные паспорта, получены визы. На двенадцатое июня были заказаны билеты до Афин. На этот же день, в соответствии с тонкой стратегией Анны Федоровны, был назначен переезд на дачу. Продумано было всё до мельчайших деталей: утром Катя с детьми уедет в Шереметьево, что не должно вызвать никаких подозрений, поскольку Катя всегда отправлялась на дачу заранее, чтобы подготовить дом к приезду Мур. На двенадцать была вызвана машина для перевозки на дачу Мур и Анны Федоровны. Суматохой переезда Анна Федоровна надеялась смягчить удар, тем более, что и дачные сборы удачно маскировали преступный побег. Гриша и Леночка были просто раздуты ожиданием, особенно Гриша. Полугреческий дедушка объявился очень кстати. Все Гришины одноклассники уже побывали за границей, он был чуть ли не единственным, кого не вывозили никуда дальше Красной Пахры. Да и сам дедушка, седой, кудрявый, стоящий на борту белой яхты, был предъявлен всему классу и удачно компенсировал отсутствующего отца.
В ночь накануне отъезда Анна Федоровна и Катя почти не спали. Под утро позвонил Марек, сказал, чтоб лишнего барахла не брали, в Греции, как известно, всё есть, что он ждет не дождется и встретит в аэропорту.
В половине восьмого Мур потребовала кофе. Утренний кофе шел с молоком, а послеобеденный полагался черным. Анна Федоровна помогла Мур одеться и сварила кофе. После чего обнаружила, что молочный пакет в холодильнике пуст. Это была Леночкина безалаберность, она вечно засовывала в холодильник пустые пакеты. Время подходило к восьми. Такси в Шереметьево было заказано на половину девятого.
Анна Федоровна, в синем домашнем платье, в шлепанцах на босу ногу, выскользнула из дому – побежала на Ордынку за молоком. Это занимало никак не больше десяти минут. Она припустила поначалу легкой рысью, но вдруг замедлилась – утро было необыкновенным: дымчатый, чуть голубоватый свет, небо переливчатое, как радужная оболочка огромного, самого синего глаза, и чистейшая зелень прибранного скверика возле уютной округлой церкви Всех Скорбящих, куда Анна Федоровна изредка захаживала. Она пошла медленно и вольно, как будто никуда не торопилась. Продавщица Галя, местная ордынская татарка, проработавшая всю жизнь в здешних магазинах, ласково поздоровалась. Лет пятнадцать тому назад Анна Федоровна оперировала ее свекровь.
– Как Софья Ахметовна?
Удивительно, как при таком количестве золотых зубов улыбка получается робкой и детской…
– Оглохла совсем, ничего не слышит. А глаза видят!
Анна Федоровна взяла в руки прохладный пакет молока. Через пятнадцать минут уедут дети, а еще через два часа Мур узнает, что они уехали. Скорее всего, это будет уже в Пахре. Она представила себе побледневшие глаза Мур, тихий хрипловатый голос, повышающийся до звонкого стеклянного крика. Осколки разбитой посуды. Самый подлый, самый нестерпимый мат – женский… И увидела вдруг как уже совершённое: она, Анна, размахивается расслабленной рукой и наотмашь лепит по старой нарумяненной щеке сладкую пощечину… И совершенно всё равно, что после этого будет…
Чувство чудесной свободы, победы и торжества стояло в воздухе, и свет был таким напряженно ярким, таким накаленно ярким. Но тут же и выключился. Осознать этого Анна Федоровна не успела. Она упала вперед, не выпуская из рук прохладного пакета, и легкие шлепанцы соскользнули с ее сильных и по-немецки прочных ног.
Мур в это время уже бушевала:
– Дом полон бездельников! Неужели нельзя купить бутылку молока?
Голос ее был прозрачно-звонок от ярости.
Катя посмотрела на часы: до приезда такси оставалось пятнадцать минут. “Куда подевалась мать?” – недоумевала она. Но делать было нечего, и она побежала за молоком.
Знакомая продавщица Галя металась по тротуару. Реденькая толпа собралась перед входом в магазин. Там, на тротуаре, лежала женщина в синем звездчатом платье. “Скорая помощь” пришла минут через двадцать, но делать ей уже было нечего.
Катя, прижимая к груди всё еще прохладный пакет молока, твердила про себя: “Молоко, молоко, молоко…” – до тех пор, покуда ее не послали за материнским паспортом. И, уже подходя к дому, повторяла: “Паспорт, паспорт, паспорт…”
В доме Катя застала шумный скандал. Шофер такси, ожидавший их внизу, как было уговорено, минут двадцать, поднялся в квартиру узнать, почему не спускаются те, кому надо ехать в Шереметьево.
Гриша, дрожащий от нетерпения, как щенок перед утренней прогулкой, завопил счастливым голосом:
– Ура! Мы едем в Шереметьево!
Мур, покачиваясь в своей металлической клеточке, вышла в прихожую и догадалась, что ее хотели обмануть. Она забыла и про кофе, и про молоко. В выражениях, которые даже шофер слышал не каждый день своей жизни, она объявила, что никто никуда не едет, что шофер может убираться по адресу, который привел шофера, молодого парня с дипломом театрального института, в чисто профессиональное возбуждение, и он прислонился к стене, наслаждаясь неожиданным театром.
– Где эта п…головая курица? Кого она хотела обмануть? – Она подняла вверх костлявую кисть, рукав ее старого драгоценного кимоно упал, и обнажилась сухая кость, которая, если верить Иезекиилю, должна была со временем одеться новой плотью.
Катя подошла к Мур и, размахнувшись расслабленной рукой, наотмашь влепила по старой, еще не накрашенной щеке сладкую пощечину. Мур мотнулась в своей клеточке, потом замерла, вцепилась в поручни капитанского мостика, с которого она последние десять лет, после перелома шейки бедра, руководила всеобщей жизнью, и сказала внятно и тихо:
– Что? Что? Всё равно будет так, как я хочу…
Катя прошла мимо нее, на кухне вспорола пакет и плеснула молоко в остывший кофе.
Голубчик
В те самые годы, когда Гумберт Гумберт томился по своей неполовозрелой возлюбленной и строил бесчеловечный план женитьбы на бедной Гейзихе, на другом конце света Николай Романович, одинокий профессор философии (или той науки, которая претендовала так называться), также пораженный любовным недугом, идущим вразрез с общепринятыми нормами, женился на даме, которая и в своем золотом сне не могла бы претендовать на такую блестящую партию. Собственно говоря, Антонина Ивановна нисколько не была дамой, и даже гражданкой могла считаться лишь с натяжкой. Она всепроцентно относилась к категории теток, работала в ту пору сестрой-хозяйкой, по-старому кастеляншей, в кардиологическом отделении, куда упомянутый профессор поступил как плановый больной в соответствии со своей стенокардией.
Мягкая тетеха, даже не курица, а серенькая индюшка, расширяющаяся книзу от маленькой головки до толстенных ног, разводка, тайно выпивающая, жила Антонина Ивановна в девятиметровке с малолетним сыном. Зарплата была самая ничтожная, она легонько, по мере возможностей, подворовывала, сама себя стыдясь. Словом, порядочная была женщина. В начале января, по причине школьных каникул, она стала водить своего мальчонку с собой на работу, и бледноволосый отрок, сидевший в бельевой и выглядывавший из-за материнской спины белейшим лобиком со светлыми щеточками у основания бровей, сразил профессора в самое его больное и порочное сердце.
Возможный пассаж о связи этих двух явлений, болезни и греха, об их тонких взаимных касаниях и перетеканиях оставляем на рассмотрение психоаналитиков и святых отцов: и те и другие на этих опасных просторах вволю попаслись.
Николай Романович прогуливался часами по больничному коридору и заглядывал в приоткрытую дверь бельевой, ухватывая нацеленным взглядом то острый локоток в штопаном синем свитере, легко елозящий по столу (он что-то рисовал), то мелькающие штуки пожелтевшего от автоклавирования казенного белья. А то вдруг и предстанет в просвете двери во весь рост светлое изящное существо, настоящий гаремный мальчик, ну разве что чуть-чуть не дорос, еще два-три годика набрать. Двенадцать – сладчайший возраст…
Иногда мальчика кормили в столовой для ходячих больных, и он сидел за угловым столиком, где наспех ели врачи. Спинка прямая, серьезный, испуганный. Николай Романович хорошо разглядел его бледно-голубые глазки, немного косящие, когда он смотрел вправо, и белесые ресницы, пушистые, как созревшее одуванное семя.
– Тоня! Тоня! – позвала кастеляншу старшая сестра, заглянув в столовую, и Антонина Ивановна отозвалась ласковым рыхлым голосом:
– Аюшки!
Вот как раз при звуке этого голоса Николая Романовича и прошило озарение: а не попробовать ли устроить свою жизнь иным способом?.. Конечно же, она домашний человек, экономка, няня… На основании честного брачного договора: ты – мне, я – тебе.
Шел Николаю Романовичу пятьдесят пятый год, возраст почтенный. Так и запишем: никаких постельных радостей не ждать, не рассчитывать, однако отдельная комната, полное обеспечение, уважение, разумеется. С вашей стороны, дорогая Ксантиппа Ивановна, ведение домашнего хозяйства, хранение домашнего очага, то есть: стирка, готовка, уборка. Сыночка усыновлю, воспитаю наилучшим образом. Образование дам. О да, и музыка, и гимнастика… Ганимед легкобегущий, пахнущий оливковым маслом и молодым потом… Тише, тише, только не вспугнуть прекрасной мелодии. Постепенно, чудесным образом растет в доме нежный ребенок, превращается в отрока… дружок, ученик, возлюбленный… И в эти алкионовы дни он будет своим трудолюбивым клювом вить гнездо своего будущего счастья.
Антонина-кастелянша сначала растерялась: с чего бы это? Но счастье, как ветер, приходит и уходит, не отчитываясь. Ну, привалило: комната восемнадцать с половиной метров, с балконом, этаж пятый, окна во двор, дом шикарный, на улице Горького, в нем и актеры, и генералы, и кто хочешь. Всё богато и прочно. Сам нежадный: на питание выдает щедро, да питание-то какое – из кремлевского распределителя, не велел никому рассказывать. И сдачи никогда не спрашивает. Чистоплотный – белье меняет раз в три дня, а носки чуть не каждый день. В ванной полощется, как утка, а в бане по субботам всё равно полдня проводит. Ходит чисто и ботинки сам трет, и брюки сам гладит. Вы, говорит, так не сможете. Подружкам, которые уж очень интересовались, со всей простотой отвечала: насчет того-этого, нет, не скажу. Да я живого-то… уж сколько лет не видала, и да ну его совсем, я уж и так привыкла. Прям даже не знаю, за что так повезло, со Славкой возится, как отец родной. Хотя, правду сказать, со мной-то он больше молчком молчит. Да и о чем ему со мной-то разговаривать, если подумать-то? А уж культурный, одно слово сказать, профессор…
В последнем, надо сказать, она не ошибалась: был и культурным, и профессором. Философы-античники, как и породистые собаки, плохо приживались на скудном пайке социализма. Но как раз Николай Романович нашел для себя грядочку, копал, поливал и унавоживал на ней кустик марксистско-ленинской эстетики, поскольку еще в канун революции успел завершить свое образование и даже едва не защитил диссертацию по теме “Сущность платоновской диалектики в интерпретации Альбина и Анонима”. Вот это самое волшебное словечко “диалектика” и открыло перед Николаем Романовичем царские врата в новую жизнь, то есть в Социалистическую академию, на должность преподавателя античной философии. В Академии он был единственным сотрудником, владевшим древнегреческим и латынью, и его постоянно использовали как “цитатчика” высокопоставленные начальники, включая и самого Луначарского, так что он десятилетиями теребил то Платона с Аристотелем, то Канта с Гегелем, отыскивая верное научное решение эстетических задач, в которых все эти домарксовы ученые путались, как слепые кутята. Он так поднаторел в теории искусства и критериях художественности, что ни одно постановление ЦК ВКП(б) по части культуры и искусства без его участия не составлялось – хоть об опере Вано Мурадели “Великая дружба”, хоть о “Катерине Измайловой” Шостаковича. Он нисколько не страдал от раздвоенности: гибкая диалектика, как опытный проводник в горах, извилисто проводила его по самым сомнительным местам.
Но все-таки служил Николай Романович – увы! – двум господам. Вторым его господином, властным и тайным, была его несчастная склонность к мужскому полу. С самых юных лет она давила ему на темечко, поднимала артериальное давление и вызывала тахикардию. Страшно нависала сто двадцать первая статья. Ни один враг народа, истинный или дутый, ни один оппортунист или оппозиционер не испытывал такого бездонного страха, как те, кто жил под угрозой этой, с виду невзрачной, статьи. Это было реальное, невыдуманное тайное общество мужчин, узнающих друг друга в толпе по тоске в глазах и настороженности в надбровьях, – вроде масонов с их тайными знаками и особыми рукопожатиями. Свинцовый век, пришедший на смену серебряному, разметал по свету утонченных юношей, порочных гимназистов и миловидных послушников, оставив для Николая Романовича и ему подобных опасные связи с алчными и жестокими молодыми людьми, с которыми ухо востро, потому что предадут, разоблачат, оклевещут, посадят… Лишь однажды в зрелой жизни Николая Романовича у него возникли длительные и глубокие отношения с молодым историком, мальчиком из хорошей семьи, погибшим на фронте, но прежде гибели совершенно измучившим Николая Романовича психопатически издевательскими письмами, полными оскорбительных намеков.
Славочка открывал новую эру в жизни Николая Романовича. Заветная мечта профессора обещала исполниться: он вырастит себе возлюбленного, и любовь мудрого воспитателя принесет мальчику пользу – о да! – разумную пользу. Он вылепит из него свое подобие, вырастит нежно и целомудренно. Будет Николай Романович истинным педагогом, то есть рабом, не жалеющим своей жизни для охраны и воспитания возлюбленного.
“Клянусь собакой! – мысленно произносил Николай Романович, склоняясь над спящим мальчиком, проживавшим теперь в его квартире, правда, в материнской комнате, на обитой светло-оранжевым плюшем кушетке, в зыбком свете головастого торшера. – Всё так и будет…”
– Голубчик ты мой, – шептал Николай Романович, подтыкая с боков одеяло.
В эти вечерние часы разрешено было Антонине Ивановне приложиться к рюмочке для сна. Под присмотром Николая Романовича, умеренно. И в самом деле был он педагогом, ничего из виду не выпускал.
В первый же год их семейной жизни Николай Романович отдал мальчика в музыкальную школу, на духовое отделение. Флейтиста из него не получилось, но в музыку он вошел, как в дом родной, дарование его как раз в том и заключалось, что слышал он музыку, как бог. Так что даже и в этой утонченной области получил себе Николай Романович партнера: отчим с пасынком ходили теперь вдвоем в консерваторию, наслаждаясь искусством, наименее пригодным для анализа его с классовых позиций.
Консерваторским завсегдатаям тех лет примелькалась эта парочка – субтильный пожилой мужчина в крупных очках на мелочном личике и тоненький юноша с аккуратно постриженной светловолосой головой, в черном свитерке и выпущенным поверх круглого выреза воротом белой пионерской рубашки. Московские мелогомофилы – вот неразгаданная таинственная корреляция – корчились от зависти, когда Николай Романович покупал в буфете два лимонада и два пирожных. Но доносов на него не писали – слишком страшно жили.
Там, при консерватории, образовался в те годы некий круг посвященных, без обозначенных границ, но с узнаваемыми, заметными лицами. Кроме тайных единоверцев Николая Романовича и обыкновенных любителей, к этому кружку примыкали, разумеется, и профессионалы. И некоторые Славочкины соученики по музыкальной школе. Например, девочка Женя, юная виолончелистка, приходила обыкновенно с папой или с мамой. Женя всё шептала что-то Славе на ушко и тянула его за рукав в сторону, всё в сторону…
– Милая девочка, – говорил Николай Романович своему питомцу, – но очень уж неудачной внешности…
Но это было не так. Внешность девочки была вполне приемлемая: темные глазки, кудряшки, бантик клетчатый. Просто сердце Николая Романовича на мгновенье сжимала темная ревность. Ни к чему нам эти девочки. Впрочем, ему досталось всё, о чем только мог мечтать Гумберт Гумберт: золотистое детство, обращающееся на глазах в юность, почтительная дружба ученика и полнейшая и доверчивая взаимность, заботливо выращенная гениальным, как оказалось, мастером нежных прикосновений, дуновений, скользящих движений.
На шестьдесят пятом году жизни в собственной постели во сне Николай Романович умер от закупорки сердечной аорты, как и упомянутый уже господин. Умер, насыщенный молодой любовью своего “голубчика”, в полном согласии со своим “даймоном”, так и не прочитав романа, наполненного высоковольтным током набоковского электричества, и не ощутив глубокого родства с его несчастным героем.
Осиротевший Славочка, к тому времени студент первого курса философского факультета МГУ, остался после смерти воспитателя в глубоком недоумении. Пока еще шли занятия, разбирали логику и пропедевтику диамата в старом здании философского факультета, что окнами выходил на анатомический театр Первого медицинского, было еще ничего, но потом настало летнее каникулярное время, которое Слава привык проводить с отчимом в пансионате в Пярну, и тут он впал в депрессию – залег в кабинете отчима, слушая его любимые пластинки и с трудом поднимаясь, чтобы перевернуть на вторую сторону или поставить новую.
Старый эстетик сыграл недобрую роль: голубчик его теперь не знал, как жить дальше, – без водителя он не умел. Друзей не было. Тщательно сберегаемая тайна его отношений с отчимом ограждала его от остальных людей непроницаемой стеной. От матери он был далек. Он давно уже относился к ней точно, как Николай Романович: корректно и инструментально. Последние четыре года он вместе со своей оранжевой кушеткой пребывал в кабинете Николая Романовича, спасаясь от материнского храпа.
Наследство после отчима осталось по тем временам ошеломляюще огромное: стопочка сберегательных книжек, часть из которых была на предъявителя, часть именных, с завещанием на имя Славы. И одна, самая скромная серенькая книжечка на три тысячи рублей, завещана была Антонине Ивановне. Ее Слава вручил матери, которая руками всплеснула от радости. Не ожидала такого богатства и слетела с катушек: вместо разрешенной Николаем Романовичем стограммовой стопочки брала теперь четвертинку, да и не только вечером. Часам к девяти Антонина Ивановна засыпала, как обыкновенно, нерушимым сном, а Слава выходил на улицу пройтись, подышать густым бензиновым воздухом, посидеть на пыльной лавочке Тверского бульвара, неподалеку от самодеятельного шахматного клуба, куда стекались на ночь глядя фанатики клетчатой доски – пенсионеры и несостоявшиеся шахматные гении. Туда же забрела в один из душных вечеров и музыкальная девочка Женя.
Женя происходила из хорошей, насквозь музыкальной семьи, несущей свою музыкальность, как иные семьи несут наследственный недуг – гипертонию или диабет. В предках числились итальянская оперная певица, чешский органист, немецкий капельмейстер. Но главным Бахом в семье был Женин дедушка. Имя его и по сей день значится на почетной доске медалистов Московской консерватории, в компании Скрябина.
Композиторство дедушки не поднялось выше посредственного уровня, в духе времени и культуры тех лет. Модерн его зачаровал, но ни дерзости Дебюсси, ни оригинальности Мусоргского ему не было отпущено. Известен он был как исполнитель, виолончелист, как педагог и музыкальный деятель – председатель разнообразных музыкальных обществ и собраний, распределитель стипендий для бедных одаренных детей и вспомоществований для старых оркестрантов. Словом, он был настоящий русский интеллигент сборных кровей, без капли русской, между прочим. Семья была большая, все близко к музыке – старший брат его был скрипичный мастер, младший, неудачливый, – переписчиком нот.
Женя деда своего не знала: их разделяли три десятилетия, между которыми пролегли две мировых войны. Дед умер сорока двух лет, в один день с эрцгерцогом Фердинандом, то есть в начале Первой мировой войны, а она родилась в последний день Второй.
В качестве бунта или каприза в семье вдруг возникал какой-нибудь отступник дядя Лева, перекинувшийся в бухгалтеры, или тетя Вера, изменившая музыке с сельскохозяйственной наукой. Отступником был и отец Жени, Рудольф Петрович, соблазнившийся в свое время военной карьерой. Из-под своей полковничьей папахи он всю жизнь тосковал по музыке, болел ею, но инструмента не касался. Зато дочь свою он решил непременно вернуть к семейной традиции и определил на виолончель. И дом их, полный фотографий всяких великих с автографами, пыльных нот и непогребенных клавиров опер, наполнился живыми звуками гамм и упражнений. Женечка обещала стать настоящим исполнителем, и сам Даниил Шафран ее отметил и покровительствовал ей. Известность ее деда в музыкальном мире прибавляла ей привлекательности, но к тому же она обладала своим собственным трудолюбием и усидчивостью и с отроческого возраста проводила по многу часов, растопырив ноги и заключив между разведенными коленями малютку виолончель, ученическую игрушку. Она росла, и вместе с ней росло чудо – инструмент оказывался скоропослушен: едва тронешь его смычком, как он отзывался такими глубокими бархатными звуками, слаще которых не бывало. И разве можно было сравнить с широким и гибким голосом виолончели сухой и шероховатый голос скрипки, простоватость альта или однообразную меланхолию контрабаса…
В то лето она впервые осталась одна в городе, родители жили на даче, а она готовила свою первую концертную программу. Вечерами выходила на прогулку.
Встретившись случайно на лавочке Тверского бульвара, оба безмерно обрадовались. Каждый из них переживал период одиночества: Женя – временного, но очень острого, потому что первый раз в жизни осталась в доме одна, Слава, как ему казалось, – окончательного и пожизненного. Но говорили они только о музыке. К тому же у них было и общее поле воспоминаний – музыкальная школа на Пушкинской площади, куда оба они так долго ходили и от которой теперь не осталось и следа. На ее месте высилось уродливое здание “Известий”. Общие уроки сольфеджио, хоры, ученические концерты… Они проговорили до позднего вечера. Потом он проводил ее домой, на Спиридоновку, а дорогой, неожиданно для самого себя, сказал ей:
– А у меня отчим умер.
Эти слова он произнес вслух в первый раз и поразился тому, как они прозвучали. Как будто что-то изменилось в воздухе и именно от произнесения этих слов Николай Романович умер окончательно.
Женя, что-то почуявшая, встрепенулась:
– Ты очень любил его?
– Он был мне больше, чем отец…
Это прозвучало так скорбно и благородно, что Николай Романович мог бы порадоваться.
– Бедненький! Я бы с ума сошла, если бы с папой что-нибудь такое случилось. – Она была так далека от смерти в свои восемнадцать лет, что даже слово “умер” не умела произнести.
Она затрясла головой, отгоняя от себя смертную тень, и рот ее сморщился сочувствием, но сказала она детскую глупость:
– Давай мороженого съедим! Много-много…
– Да где же его в такое время взять? – улыбнулся Слава, тронутый столь полным сочувствием.
– У меня в холодильнике. Родители на даче, а я ничего другого не покупаю.
Мороженое было превосходным, с кусочками замороженной клубники или ледяными ягодками черной смородины, его приносила в кастрюльке с сухим льдом соседка снизу, работавшая в кафе “Север” официанткой. Воровали все, кому было чего украсть.
После мороженого Женя вынесла из отцовской комнаты торжественную пластинку в черно-белом конверте:
– Фон Караян. Из Германии привезли. Ты такого Вагнера сроду не слышал.
Она благоговейно опустила на диск проигрывателя мерцающую пластинку. Оркестровая версия “Тристана и Изольды”. Оркестр звучал так, как будто играли не люди, а демоны. Они прослушали ее два раза подряд, и под эту вздыбленную музыку, именно где-то в районе смерти Изольды, Женя влюбилась в Славу. Ни с кем, даже с отцом, не слушала она так хорошо, так совместно. И он всей душой к ней рванулся: такая милая, ласковая, глаза черные, умные, живые кудряшки трепещутся надо лбом…
– Какая мужская, крепкая музыка, – заметила Женя, когда Караян отгрохотал.
– О да, – согласился Слава, про себя удивляясь: как она может это понимать…
Во рту еще долго сохранялся вкус клубничного мороженого, зернышки ягод покалывали десну, и какой-то вкус остался и в душе от совместного переживания этой буйной густоокрашенной музыки.
Весь август он ходил к ней в гости. Поздними вечерами, когда спадала жара и на Тверском бульваре собирались ночные шахматисты, он возвращался домой в хорошем настроении – депрессия его проходила. Это сочетание ощущений ночного бульвара, Вагнера и тающего мороженого накрепко связалось с Женей.
Когда наступила осень и родители Жени вернулись в город, начались занятия и встречаться они стали реже, хотя каждый день подолгу разговаривали по телефону о концерте Рихтера, о чудном альбоме Сомова, который Слава купил в букинистическом на Арбате, следуя привычке покойного отчима прогуливаться с деньгами в кармане по антикварным и букинистическим. Николай Романович никогда не был настоящим коллекционером, но разбирался понемногу в изделиях материального мира – даром, что ли, был убежденным материалистом.
В конце лета Жене казалось, что у нее, наконец, начинается настоящий роман, но всё почему-то застопорилось на хорошей дружеской ноте и никак не развивалось дальше, хотя Женя очень желала чего-то большего, чем маленькие кусочки мороженой клубники или ледяные ягодки черной смородины.
Слава чувствовал постоянное ожидание, исходящее от Жени, и слегка нервничал. Он очень дорожил их общением, благородным домом, куда он попал, да и самой Женей, чуткой и к литературе, и к музыке, и к нему, Славе. Влечения он к ней испытывал столько же, сколько к фонарному столбу. И с этим, кажется, ничего нельзя было поделать.
В свои девятнадцать лет он твердо знал, что относится к особой и редкой породе людей, обреченной таиться и прятаться, потому что мягонькие наросты, засунутые в тряпочные кульки, вызывают у него брезгливость и ассоциируются с большой белой свиньей, облепленной с нижней стороны сосущими поросятами, а само устройство женщин с этим волосяным гнездом и вертикальным разрезом в таком неудачном месте представлялось ужасно неэстетичным. Сам ли он об этом догадался, или Николай Романович, эстетик, ему тонко внушил, не имело теперь значения. Женя ему очень нравилась, и от одиночества она его спасала, но физическая тоска его не уходила, а только нарастала.
Простившись с Женей, он садился обыкновенно на Тверском бульваре неподалеку от шахматистов на одну и ту же лавочку и разглядывал редких прохожих с робким мысленным вопросом: он? не он? Однажды рослый красивый блондин посмотрел на него внимательно, и он весь напрягся, потому что ему показалось, что взгляд этот был особо содержательным. Но тот прошел мимо, оставив Славу в сладком поту, с сердцебиением. Странно, но сердце его словно вторило тому, страдающему стенокардией.
“И в этом мы тоже похожи, – констатировал Слава. – Меломаны, сердечники, эстеты…”
Он заблуждался, истинная картина была значительно сложнее, но заблуждение такого рода вполне понятно: эпоха суперменов в кожаных одеждах и металлических цепочках, гомосексуалистов с накачанными шарами мышц, высокомерно и презрительно взирающих на “натуралов”, еще не наступила, ковбои же воспринимались как секс-символ, желанный для женской половины мира, дырчатых алчных созданий, а не как коровьи мальчики, пастухи с задницами, разбитыми грубыми седлами, предающиеся однополой любви за полным отсутствием баб в округе…
Слава весь принадлежал античности в том романтическом виде, какой она представлялась поверхностным ученым девятнадцатого века – ведь и сам Маркс что-то бормотал о “золотом детстве человечества”.
Вероятно, с огромного расстояния в несколько тысяч лет картина исказилась, и самое кровавое и разнузданное язычество, с его ярким политеизмом, в котором всё сущее обожествлялось, одухотворялось и пускалось во все тяжкие – нимфы, наяды, сатиры, самые мелочные боги луж и придорожных канав, а также лебеди, коровы, орлы, пастухи и пастушки устраивали беспрерывную оргию не ограниченного ни в чем совокупления – и всё это содрогающееся язычество почему-то называлось античным материализмом. В этом заблуждении и состояла вера Николая Романовича, он передал ее в полном объеме своему воспитаннику вместе со своим сугубо личным пристрастием, которое он прививал осторожно и терпеливо с помощью опытных пальцев, нежного, в проницательных вкусовых сосочках, языка и старенького увядшего копья.
У гениального учителя оказался гениальный ученик, и он теперь изнемогал всем своим сверхчувствительным телом от нерастворимого одиночества: тосковали светлые тугие волосы, тосковал рот, грудь и живот, бедра и ягодицы. И райский сад, и роза Содома, как говорил Николай Романович. Да, да… Форель разбивает лед…
В начале октября, в один из темных, но еще теплых вечеров затянувшегося бабьего лета Слава высидел себе на Тверском бульваре нового учителя. От группы темных фигур, сгрудившихся под фонарем, освещавшим шахматные доски, к нему подошел человек лет сорока в холщовой кепочке, с красивым лицом, которое могло быть еврейским, в клетчатой старомодной ковбойке. Сняв кепку с раздутого луковкой черепа, присел на край развалистой скамьи. Он весь был как будто под давлением – глаза слегка вылезали из орбит, а щетина перла со страшной силой так густо, что только на носу оставалась незаросшая поляна. Николай Романович, напротив, всегда слегка проминался, как подспущенный баллон. Подошедший уперся волосатыми кулаками в край скамьи и обратился к Славе очень свободно:
– Ваше лицо мне знакомо. Вы, простите, в шахматы не играете?
Сердце заколотилось неровно, заплясало под дурную музыку: он?
– Играю немного.
Человек засмеялся:
– Немного даже моя бабушка играла… Так, по крайней мере, она думала. Сейчас мы это проверим.
Человек вынул из кармана маленький кожаный ящичек, раскрыл. Фигуры были расставлены – остренькие штыри крепились в прорезях кожаной доски.
– Ваш ход.
Руки у Славы тряслись так, что он еле-еле смог ухватить шахматную фигуру. Он сделал первый ход Е2–Е4… И успокоился. Сомнений не было: это был он. Шахматист выдернул легонько черную пешку на острой ножке, задержал ее между большим и средним пальцем, пробормотал:
– Так рано стало темнеть… – и вонзил пешечку в светлый квадратик.
В тот вечер шахматисту показалось, что глаза у Славы зеркально-черные, как вошедшие в моду солнечные очки, но это впечатление было ошибочным, просто зрачки были так расширены, что голубая радужная оболочка сплющилась по окружности глаза.
– Давайте-ка эту партию доиграем у меня дома… Уж больно темно.
Шахматист сложил шахматы, нахлобучил кепочку, и они пошли на троллейбус. Слава не спрашивал, далеко ли ехать. Его колотило от предчувствия, а шахматист время от времени клал ему руку то на плечо, то на колено. Доехали до Цветного бульвара, там вышли и завернули в какой-то глухой переулок. Зашли в запущенный подъезд трехэтажного дома, и, пока поднимались по лестнице, шахматист сказал, что живет с мамой, что мама была в молодости красавицей, актрисой, а теперь почти слепая и совершенно безумная.
Квартира оказалась маленькой и очень грязной. Время от времени мама подавала за стеной недовольный голос, а потом запела романс. Партию не доигрывали. Потому что была любовь. Сильная мужская любовь, о которой прежде Слава смутно догадывался. Пахло вазелином и кровью. Это было то самое, чего хотелось Славе и чего Николай Романович не мог ему дать. Брачная ночь, ночь посвящения и такого наслаждения, что никакой музыке и не снилось. У Славы началась новая жизнь…
Хоронили Валиту за казенный счет. С уверенностью никто не знает, хоронили ли вообще. Возможно, разъяли на органы, залили их формалином и отдали на растерзание тем студентам, которые окнами выходят на философов. Или другим. Но это маловероятно. Экспертиза установила, что тело пролежало дней пятнадцать-семнадцать, прежде чем было обнаружено в укромном уголке Измайловского парка гражданином спортивного вида, прогуливавшим фокстерьера.
Почему Евгения Рудольфовна подала в розыск, трудно объяснить. За сорок с лишним лет их знакомства он пропадал много раз, на разные сроки. Особенно длинным был первый. Сначала ему дали пять лет, а уж там еще добавляли, так что исчез он тогда почти на десять. Это было не по своей воле. Потом объявился, но уже не Славой, а Валитой. Такое образовалось у него прозвище. Он Евгении Рудольфовне кое-что рассказывал, но ничего такого, что могло бы ее напугать или смутить. Он ее в некотором смысле берег.
Она не то чтобы Славу любила, нет, конечно, но она любила воспоминания своей молодости и помнила, как была влюблена в светлого одухотворенного мальчика, как слушали они музыку и как страдал он от несовершенства тогдашней звукозаписи: у Караяна шесть пиано и восемь форте, а здесь всё слипается… Жалко было этого бедолагу, изгоя, лишившегося всего, чего только можно было лишиться: имущества, зубов, светлых волос и московской прописки, которую он, впрочем, вырвал из зубов у жизни, женившись на какой-то пропадающей алкашке, и прописался к ней на улицу с ласковым названием Олений Вал. Осталось у него от всех его богатств только редкое дарование слышать музыку да барские руки с овальными ногтями.
Вот уже много лет, как приходил он к Евгении Рудольфовне в театр, в обширный ее кабинет с медной табличкой “Завмуз” на солидной двери. И сотрудники его знали, и гардеробщики пускали. Обычно она давала ему немного денег, варила кофе и доставала из дальнего уголка шкафа шоколадные конфеты. Он был сладкоежка. Иногда, когда было время, она ставила ему какую-нибудь музыку. Впрочем, он признался, что музыки давно уже не любит – любит только звуки. Она не совсем поняла, что он имеет в виду. В этой области он разбирался лучше, чем она, заведующая музыкальной частью известнейшего московского театра. Бесспорно. И она это отлично знала.
Сидел он в кабинете недолго, стеснялся сам себя, как стеснялась себя когда-то его покойная матушка Антонина Ивановна.
Месяца два он не заходил, и Евгения Рудольфовна его не вспоминала. Как-то в субботу вечером пошла в консерваторию. Играли 115-й опус Брамса, кларнетный квинтет, немыслимо трудный для исполнения. В последней части, когда уже почти душа вон, просто в поднебесье улетаешь, вспомнила Славу. Как он со своей блокфлейтой в маленьком угловом классе занимался с преподавательницей Ксенией Феофановной, толстой дамой в шелковом балахоне, краснолицей и грубой, а она, Женя, влетела почему-то в класс и остановилась в испуге от собственной наглости… Сорок лет назад, в музыкальной школе, от которой ни кирпичика… Брамс кончился, и с последними звуками она почувствовала, что Славы больше нет.
Сделала запрос через справочную. Славу не обнаружили ни на Оленьем Валу, ни на какой другой улице, и она позвонила в милицию. С ней разговаривали грубо, но через день вызвали ее сами, на опознание. Опознавать там было нечего. Это было какое-то черное тряпье, почти земля, очень страшная земля. Только рука была человеческая, с овальными благородными ногтями.
Потом разговаривала со следователем. Следователь был немолодой, одутловатый и знал так много, что можно было бы и поменьше. Он не получил от Евгении Рудольфовны ничего для себя интересного. Преступление было из тех, которое раскрыть было несложно, но гомосексуальными убийствами милиция не особенно интересовалась. Они копились, копились, а потом их вешали на какого-нибудь маньяка из числа пойманных. Да и кому, кроме маньяка, нужно было убивать Валиту, человека, у которого ничего не было, кроме безумной жажды быть любимым… быть любимым мужчиной… любимым мужчиной…
Дома Евгения Рудольфовна долго рылась в детских фотографиях и нашла ту, которую искала. На остальных была девочка Женя с виолончелью. А на этой снят зал во время школьного концерта. Рудольф Петрович снимал. Во втором ряду хорошо видны они оба – Николай Романович в сером костюме и в полосатом галстуке и двенадцатилетний Славочка в белой пионерской рубашке с расстегнутой верхней пуговкой. Такое милое лицо, светленький такой, голубчик… И как его Николай Романович любил. Как любил…
Сквозная линия
рассказы
Диана
Ребенок был похож на ежика – иглистой щеткой темных волос, любопытным вытянутым носом, узким к кончику, и забавными повадками существа самостоятельного, постоянно принюхивающегося, и совершенной своей неприступностью для ласки, для прикосновения, не говоря уж – материнского поцелуя. Но и мамаша его, судя по всему, тоже была из ежиной породы – она его и не трогала, даже руки ему не протягивала на крутой тропинке, когда они поднимались от пляжа к дому. Так он и карабкался впереди нее, а она медленно шла сзади, давала ему возможность самому цепляться за пучки трав, подтягиваться, скользить вниз и снова подниматься напрямик к дому, минуя плавный поворот шоссе, по которому ходили все нормальные курортники. Ему еще не исполнилось и трех лет, но характер у него был такой отчетливый, такой независимый, что и мать иногда забывала, что он почти младенец, и обращалась с ним, как со взрослым мужчиной, рассчитывала на помощь и покровительство, потом спохватывалась и, посадив малыша на колени, подкидывала легонько, приговаривая: “Поехали за орехами… поехали за орехами”, а он хохотал, проваливаясь между коленями в натянувшийся подол материнской юбки…
– Сашка – пташка! – поддразнивала его мать.
– Женька – пенька! – радостно отзывался он.
Так целую неделю они жили вдвоем в большом доме, занимая самую маленькую из комнат, а все другие, ожидая жильцов, были чисто вымыты, приготовлены к заселению. Была середина мая, сезон только начинался, стояла холодноватая, не купальная пора, зато южная зелень не огрубела, не выцвела, а утра были такие ясные и чистые, что с первого дня, когда Женя случайно проснулась на рассвете, она не пропустила ни одного восхода солнца, ежедневного спектакля, о котором она прежде и не слыхивала. Жили они так прекрасно и мирно, что Женя усомнилась даже в медицинских диагнозах, которые были определены ее буйному и заводному ребенку детскими психиатрами. Он не скандалил, не закатывал истерик, пожалуй, его можно было бы даже назвать послушным, если бы Женя имела точное представление о том, что вообще означает “послушание”…
На второй неделе в обеденное время возле дома остановилось такси, и из него вывалилась целая прорва народу: сначала шофер, доставший из багажника странное железное приспособление неизвестного назначения, потом большая красивая женщина с львиной гривой рыжих волос, потом кособокая старушка, которую немедленно воткнули в снаряд, образовавшийся из плоского приспособления, потом мальчик постарше Сашки и наконец сама хозяйка дома Дора Суреновна, нарядно накрашенная и суетливая более, чем обычно…
Дом был расположен на склоне холма, стоял криво, наперекосяк всему, шоссейная дорога проходила под ним, другая, земляная, разбитая, выше усадьбы, а сбоку еще прибивалась тропка – кратчайший путь к морю… Зато сам хозяйский участок был чудно устроен – в центре всего стоял большой стол, плодовые деревья обступали его со всех сторон, а два дома, один против другого, душ, уборная, сарайчик закруглялись вокруг, как театральная декорация. Женя с Сашей сидели с краю стола, ели макароны и, как только вся компания вывалилась в закругленный дворик, лишились аппетита.
– Привет, привет! – Рыжая бросила чемодан и сумку и плюхнулась на скамью. – Никогда вас здесь не видела!
И сразу всё расставилось по местам: рыжая здесь была своя, основная, а Женя с Сашкой новенькие, второстепенные.
– А мы здесь в первый раз, – как будто извинилась Женя.
– Всё бывает в первый раз, – философски ответила рыжая и прошла в большую комнату с террасой, на которую Женя попервоначалу нацелилась, но получила решительный хозяйский отказ.
Шофер сволок вниз старушку в ее клеточке, старушка слабо что-то верещала, как показалось Жене, на иностранном языке.
Саша встал из-за стола и с видом важным и независимым удалился. Женя собрала тарелки, отнесла на кухню: знакомство всё равно было неизбежным. Эта рыжая своим появлением совершенно изменила весь пейзаж лета…
Беленький, с крутым курносым носом и невиданно узким черепом мальчик обратился к рыжей уже явственно по-английски, но слов Женя не разобрала. Зато рыжая мамаша очень отчетливо отрезала: “Шат ап, Доналд”.
Женя до того дня видом не видывала англичан. А рыжая с ее семейством оказались самыми что ни на есть англичанами.
Настоящее знакомство состоялось поздним, по южным понятиям, вечером, когда дети были уложены, вечерняя посуда вымыта и Женя, накинув платок на настольную лампу, чтоб не светило на спящего Сашку, читала “Анну Каренину”, чтобы сопоставить некоторые события своей распадающейся лично-семейной жизни и настоящую драму настоящей женщины – с завитками на белой шее, женственными плечами, оборками на пеньюаре и с рукодельной красной сумочкой в руках…
Женя не решилась бы сунуться на освещенную террасу к новой соседке, но та сама стукнула крепкими полированными ногтями ей в окно, и Женя вышла, уже в пижаме и в свитере поверх – по ночам было холодно.
– Проезжая мимо “Партийного гастронома”, что я сделала? – строго спросила рыжая. Женя туповато молчала, ничего остроумного ей в голову не приходило. – Купила две бутылки “Крымского”, вот что я сделала. Может, ты не любишь портвейна, может, ты предпочитаешь херес? Пошли!
И Женя, отложив Анну Аркадьевну, пошла, как завороженная, за этой роскошной бабой, укутанной в какое-то не то пончо, не то плед, лохматое, клетчатое, зелено-красное…
На терраске всё было вверх дном. Чемодан и сумка были распакованы, и удивительно было, сколько же в них поместилось веселого разноцветного тряпья – все три стула, и раскладушка, и половина стола были завалены. В складном кресле сидела матушка, с белесым кривоватым личиком и забытой на нем искательной улыбкой.
Рыжая, не выпуская изо рта сигареты, разлила портвейн в три стакана, в последний поменьше, – и сунула его в руки матери.
– Матушку можно звать Сьюзен Яковлевна, а можно и никак не звать. Она по-русски ни слова не понимает, до инсульта немного знала, а после инсульта всё забыла. И английский. Помнит только голландский. Детский язык. Она у нас чистый ангел, но абсолютно без мозгов. Пей, гренни Сузи, пей…
Ласковым движением рыжая сунула ей стакан, и та взяла его в обе руки. С интересом. Впечатление было такое, что не всё на свете она забыла…
Первый вечер был посвящен семейной биографии рыжей – она была ослепительна. Безмозглый ангел голландского происхождения имел коммунистическую юность, соединил свою судьбу с подданным Объединенного Королевства ирландской крови, офицером Британской армии и советским шпионом, пойманным, приговоренным к смертной казни, обменянным на нечто равноценное и вывезенным на родину мирового пролетариата…
Женя слушала, развесив уши, и не заметила, как напилась. Старушка в кресле тихо похрапывала, потом пустила деликатную струйку.
Айрин Лири – каково имя! – всплеснула руками:
– Дала себе расслабиться, забыла посадить на горшок. Ну теперь уже всё равно…
И она еще час дорассказывала завидную семейную историю, и Женя всё более пьянела, уже не от портвейна, который был выпит до последней капли, а от восхищения и восторга перед новой знакомой.
Разошлись они в третьем часу ночи, переодев и слегка помыв встрепенувшуюся ото сна и абсолютно ничего не понимающую Сузи.
Следующий день был хлопотным и шумным – утром Женя сварила завтрак, накормила всех овсянкой и увела обоих мальчишек гулять. Английский мальчик Доналд, родословная которого, несмотря на его российское рождение, тоже была восхитительна – его дедушка по отцовской линии был совсем уж знаменитым, но тоже провалившимся шпионом, обменянным на нечто еще более ценное, чем дедушка по материнской линии, – оказался на редкость славным: приветливым, хорошо воспитанным, и, что Женю к нему расположило не менее, чем к его рыжей матери, он сразу же отнесся к заводному и нервному Сашке великодушно и снисходительно, как старший к младшему. Собственно, он и был старшим, ему уже исполнилось пять. В нем сразу же открылось какое-то взрослое благородство: он немедленно отдал Саше затейливую машинку, показал, как у нее поднимается кузов, а когда они дотащились до киоска с водой, возле которого Сашка обычно начинал канючить и где Женя обычно покупала ему газировку в мутном стакане, пятилетний мальчик отвел рукой протянутый ему стакан и сказал:
– Вы пейте. Я потом.
Просто лорд Фаунтлерой. Когда Женя пришла домой, Айрин сидела за дворовым столом с хозяйкой, и по тому, как важная Дора пласталась перед новой жиличкой, видно было, что Айрин здесь высоко ценится. Всем был предложен хозяйский бараний суп, горячий и переперченный. Английский мальчик ел медленно и исключительно прилично. Перед Сашей стояла миска, и Женя готовилась, что ей сейчас придется потихоньку унимать Сашку, который в еде был строг: ел картофельное пюре с котлетами, макароны и овсянку со сгущенкой… И больше ничего. Никогда…
Сашка, однако, посмотрел на лорда Фаунтлероя и сунул ложку в суп… И впервые, кажется, в жизни съел еду не из своего списка…
После обеда дети спали, а женщины все сидели за столом. Дора с Айрин вспоминали прошлогодний сезон, говорили весело и смешно о незнакомых людях, о каких-то давних курортных историях. Сузи сидела в кресле с улыбкой, столь же постоянной и неуместной, как и ее коричневая родинка между носом и ртом. Женя посидела немного, выпила чашку хорошего Дориного кофе и пошла к себе – легла рядом с Сашкой и взялась было за “Анну Каренину”. Но посреди дня чтение было почти неприлично – она отложила лохматый том в сторону и задремала, сквозь сон представляя себе, что вечером будет сидеть с Айрин на ее терраске вдвоем и без Доры… И пить портвейн. И как будет славно… И совсем сверху, как с облака, она вдруг поняла, что уже второй день, с самого приезда рыжей Айрин, не вспомнила ни разу о гнусной гадости жизни, которую можно еще назвать катастрофой – такой корявый черно-коричневый краб, который сосет ее изнутри… да ну его к черту, не так уж и интересна вся эта любовь-морковь… И опустилась до самого дна сна…
А когда проснулась, то всё еще была немного на облаке, потому что откуда-то взялась веселость, которой давно уже не было, и она подняла Сашку, натянула на него штаны и сандалии, и они пошли в город, где была карусель, любезная Сашке, а напротив карусели – “Партийный гастроном”.
“А почему “партийный” – надо спросить у Айрин”, – подумала Женя. Две бутылки портвейна. С вином в тот год было отлично: на него еще не напал Горбачев, и крымские вина производились совхозами, колхозами и отдельными дедками – сухие, полусухие, крепленые, массандровские и новосветские, дармовые и драгоценные… А вот сахара, масла и молока не было… Но об этом как раз забыли как о несущественном. Потому что жизнь была сама по себе очень существенна.
Вечером на терраске снова пили портвейн. Только матушку отвели спать пораньше. Она не возражала. Она вообще только кивала, благодарила на неизвестном языке и улыбалась. Лишь изредка вскрикивала “Айрин!”, а когда дочь к ней подходила, смущенно улыбалась, потому что уже успела забыть, зачем ее звала.
Айрин сидела, уперев локоть в стол, а щеку в ладонь. Стакан был в правой. Игральные карты разбросаны были по всему столу – остатки сломанного пасьянса.
– Второй месяц не получается. Что-то у меня не сходится… Жень, а ты карты любишь?
– В каком смысле? В детстве с дедушкой в дурака на даче играла… – Женя удивилась вопросу.
– Может, так оно и лучше… А я люблю… И играю, и гадаю… Мне было семнадцать лет, мне одна гадалка предсказание сделала. Мне б его забыть… Но не забыла. И всё идет как по писаному… как та сказала.
Айрин взяла несколько карт, погладила их цветастые рубашки и бросила на стол мастями кверху: сверху оказалась девятка треф.
– Я ее терпеть не могу, а она вечно привяжется… Пошла отсюда… Изжога от нее…
Женя подумала немного и переспросила:
– То есть ты всегда знаешь, как всё кончится? Не скучно?
Айрин вздернула желтую бровь:
– Скучно? Ну это ты не понимаешь ничего… Ой, не скучно… Да если тебе рассказать…
Айрин разлила остатки первой бутылки по стаканам. Отпила, отодвинула стакан.
– Ты поняла уже, Женька, что я болтлива? Всё про себя рассказываю, никаких секретов не держу. И чужих тоже, имей в виду – предупреждаю на всякий случай. Но было одно, чего я никому не рассказывала. Тебе – первой. Не знаю, почему вдруг мне захотелось…
Она усмехнулась, передернула плечом:
– И самой удивительно.
Женя тоже уперлась локтем в стол и положила щеку на ладонь. Они сидели насупротив, с вдумчиво-абстрактным выражением уставившись друг в друга, как в зеркало… Жене тоже удивительно было, что Айрин выбрала вдруг ее для откровений. И льстило.
– Мать моя была красавица – вылитая Дина Дурбин, если тебе это что-нибудь говорит. И всегда была идиотка. Вернее, не идиотка, а слабоумная. Я ее очень люблю. Но в голове у нее всегда была каша: с одной стороны, она коммунистка, с другой – лютеранка, с третьей – любительница маркиза де Сада. Она всегда была готова отдать всё, что у нее есть, немедленно, и могла устроить отцу истерику, потому что ей вдруг нужен был срочно тот купальник, который она купила в тридцатом году на бульваре Сен-Мишель, на том углу, что ближе к Люксембургскому саду… Когда отец умер, мне было шестнадцать лет, и мы остались вдвоем. Она – надо отцу отдать должное, не понимаю, как это удалось при их немыслимо тяжелой жизни, – отличалась полной, совершенно победительной беспомощностью: работать не могла ни дня, потому что при своих родных двух языках, английском и голландском, она не смогла выучить русский. За сорок лет! Отец работал на вещании, ее бы взяли. Но даже там, где в принципе русский не нужен, надо было всё же сказать “Здравствуйте!” или прочитать надпись: “Тихо. Идет запись”. Она не могла. Отец умер, и я сразу же пошла работать, образования у меня никакого, но я классная машинистка, печатаю на трех языках…
Так вот. Про предсказание. Была у меня старая подруга, англичанка, с двадцатых годов в России застрявшая. Есть такая небольшая колония русских англичан. Я, конечно, всех их знаю. Либо коммунисты, либо оставшиеся в России по каким-то причинам технари, чуть не с нэповских времен. Вот и эта Анна Корк, она по любви застряла. Любовь расстреляли, а ей повезло, выжила. Отсидела, конечно. Ногу потеряла. Из дому она почти не выходила. Давала уроки английского. Гадала. За гаданье денег не брала. Но подарки – брала. Она меня кое-чему научила, да и я ей полезна была…
Однажды, когда я у нее торчала, пришла к ней красавица, что-то вроде генеральской или партийной жены: то ли родить не могла, то ли советовалась, брать ли ребенка на воспитание. И моя Анна говорит с ней в своей обычной манере, на невесть каком языке, с сильнейшим акцентом. А русский она знала, поверь, не хуже нас с тобой – восемь лет лагерей. Но, когда считала нужным, такой напускала акцент… Материлась же она – какой там Художественный театр! А тут она этой красавице – ни да ни нет, извилисто и многозначительно, как и полагается гадалке, – то ли ребенок будет, то ли нет, но лучше, чтобы его не было…
А потом вдруг обернулась ко мне и говорит: “А ты с пятого начинаешь, запомни… С пятого…”
Чего я с пятого начинаю? Чушь какая. Я сразу же и забыла. Но в свой час вспомнила…
Айрин опять утонула подбородком в ладони. Задумалась. Глаза ее слегка отливали животным светом, как у кошки… Уют, нежность и тонкая тревога…
Были у Жени подруги, с которыми она вместе училась, вела разговоры о делах важных и содержательных, об искусстве и литературе или о смысле жизни. Она защищала диплом о русских поэтах-модернистах, и диссертационная тема ее была по тем временам очень изысканная – о поэтических перекличках поэтов модернистических течений и символистах 10-х годов. Жене повезло необыкновенно – руководителем диплома у нее была преклонных годов профессорша, которая в этой самой русской литературе распоряжалась как у себя на кухне. Эта боготворимая студентами и, главным образом, студентками профессорша Анна Вениаминовна знала всех этих поэтов не понаслышке, а лично: почти дружила с Ахматовой, чаи пила с Маяковским и Лилей Брик, слушала чтения Мандельштама и помнила живого Кузмина… Около Анны Вениаминовны Женя и сама обзавелась значительными знакомыми, вращалась среди гуманитарных интеллектуалов и претендовала на то, чтобы со временем и самой сделаться кем-нибудь значительным. И если честно говорить – такой пошлой болтовни, как в этот вечер, Женя сроду не слыхала. Странность же заключалась в том, что в пошлом этом разговоре содержалось нечто важное, и содержательное, и очень жизненное. Может, даже и пресловутый ее, жизни, смысл?
Радуясь сладкому портвейному опьянению, тишине и заоконной тьме, в которой трепещущим пятном шевелился фонарный свет в листьях большого инжира, Женя еще и наслаждалась временным, как она догадывалась, освобождением от навязчивой нерешенности важных – важных ли? – своих жизненных задач…
Айрин смела со стола карты – часть упала на пол, часть приземлилась на стуле…
– Лежит Сузи на диване с книжкой с утра до вечера, сосет карамель. Теперь я понимаю – она была в депрессии, но тогда я видела только, что она превращается в моего ребенка. Имей в виду, это всё задолго до инсульта. С ложки я ее, конечно, не кормила, но, если я суп в тарелку не налью, могла три дня не есть… Я решила, что мне надо срочно завести ребенка, своего собственного, настоящего, потому что превращаться в мать собственной матери я совершенно не хотела. А так, может, она хоть бабушкой стала бы, коляску бы катала… Я наскоро вышла замуж, за первого попавшегося. Парень со двора. Красивый, совершеннейший дурень. Забеременела и девять месяцев ходила с пузом как с орденом. Говорят, токсикоз, самочувствие, давление… Что там еще у беременных? Вот у меня – ничего этого. Рожать иду прямо от пишущей машинки. Не успеваю допечатать, работу сдать. Ну, думаю, рожу по-быстрому и потом закончу, уже с ребеночком. Там оставалось на два дня работы… Оказалось не так. Обвитие пуповины. Ребенок мой погибает – акушерка молодая, врач распиздяйка. Проворонили моего ребеночка… Всего-то, что надо было, – простую бабку-повитуху… А мне восемнадцать лет, идиотке. Пальчик загни: погиб мой первенец, Дэвид, в память отца я его хотела назвать. Молоко из меня хлещет, слезы ручьями…
Пристальными, сузившимися глазами Айрин смотрела на Женю, как будто прикидывая, стоит ли продолжать…
– У Сашки было обвитие, – потрясенным тихим голосом сказала Женя. Она знала, что это очень опасно для ребенка, но впервые видела мать, которая действительно потеряла ребенка из-за этой дурацкой петли, которая верно служила младенцу все девять месяцев, а потом вдруг задушила…
– Через два месяца я снова забеременела. Ты характера моего не знаешь: если мне чего надо, я из-под земли вырою. Снова хожу. Уже не такая веселенькая, то тошнит, то пучит, то немеет… Но ничего, бодрая. Муж мой, мудило огородное, работал автослесарем. Я же тебе говорю, за первого попавшегося замуж выскочила. Что заработает, то и пропьет. Внешность – Ален Делон один к одному, только роста хорошего. Я сижу старательно, колочу по машинке, прилично выколачиваю. На “барбарис” для Сузи хватает.
В первый раз я точно знала, что мальчик. А тут я девочку себе распланировала. Пузо растет, а у меня одна бабья радость: копейку заработаю – и в “Детский мир”. Носочки… распашоночки… ползуночки… Всё советское, тупое, грубое. А я росла дворовой девчонкой, на заборах висела… Родителей ведь сначала в город Волжск под чужой фамилией поселили. Я только в десять лет свое настоящее имя узнала. Родителей рассекретили, и мамина сестра прислала первую посылку. Там и кукла была. А я их терпеть не могла, я и девочкой не хотела быть. Ревела, когда меня в юбку заталкивали. А когда грудь начала расти, я чуть не повесилась. – Айрин расправила плечи, большая бабья грудь шевельнулась от шеи до пояса.
Женя смотрела на нее с тонкой завистью: у человека была биография… Да и по Айрин видно было, что она знает о своей значительности.
– Девочка родилась красавицей – с первой минуты. Ничего новорожденного, никакой слизки, красноты, шершавости. Глаза синие, волосы черные, длинные. Это – от автослесаря. Черты лица – вылитая я. Мой нос, подбородок, овал лица…
Женя как будто в первый раз увидела Айрин: за яркой рыжестью не сразу было разобрать, что она красавица. Да, и овал лица, и нос, и подбородок… И даже зубы, у кого другого лошадиные, а у нее – английские: длинные, белые, чуть выпирают вперед, как раз столько, чтобы губы приподнимались как будто навстречу, ожидающе…
– Я на нее посмотрела и сразу увидела, что зовут ее Диана. И никак иначе. Она была маленькая, очень складная и с длинноногой женской фигурой. И с крутой попкой. Это была самая красивая девочка на свете. Нет, это не мое материнское воображение. Все над ней ахали. Автослесаря я выгнала на третий день, как из роддома выписалась. Он просто оскорблял мой глаз. Когда он первый раз взял ее на руки, мне сразу стало ясно: у Дианы должен быть другой отец. Дело не во мне. Я еще не была женщиной. С автослесарем не получилось, но я этого и не понимала. Он взял ее на руки, и я увидела, какой он жлоб. Это мне моя дочь продемонстрировала. Она была умна и спокойна. Я в жизни не встречала такой – не смейся! – женщины. Она отлично знала, как себя с кем вести, от кого чего ожидать. Можешь себе представить, она относилась к Сузи снисходительно. Не плакала, если я оставляла ее с бабкой. Понимала, что бессмысленно. Ей было месяца четыре, когда я начала читать ей книжки. Когда ей нравилось – говорила “да-да-да”… Не нравилось – “не-не-не”. К полугоду она понимала всё, буквально всё, а к десяти месяцам начала говорить. Погулила месяц и сказала: “Мама, муха летит”. И правда – муха…
Я очень долго ее кормила. Молоко не уходило, а она любила грудь. Прижмется, пососет, потом рукой по груди погладит и говорит: “Спасибо”. А потом я заболела гриппом. Температура подскочила выше сорока – я вырубилась. Кормить не могу. Подруги набежали, Диану кормят кефиром, кашей, ей уже к годику подходило. Она просится ко мне, а ее не пускают, чтоб не заразилась. Она кричала из маленькой комнаты: “Мама, я не понимаю!” Сузи тоже свалилась. И что за такая крепкая зараза выдалась, подруги мои все, одна за другой, тоже от меня подхватили. Не помню ничего.
Айрин загородила глаза руками, как будто от сильного света. Волосы почти закрыли ее лицо. Женя уже знала, что нечто ужасное сейчас произойдет, тогда произошло… Но все-таки немного надеялась…
– Потом встала, подхожу к Диане – она горит, – продолжала Айрин, и Женя заметила, как покраснели ноздри и бледные веки англичанки. – Вызвала врача. Ей сразу же стали колоть антибиотик. После двух уколов – у Дианы аллергическая реакция. Всю засыпало. Ну, моя дочь. Я ведь сама аллергик. Прописывают ей тот же самый седуксен, что и мне. Только в двадцать раз дозировка меньше. А мне – всё хуже. Температура сорок, временами как будто уплываю. Прихожу в себя – кефир Диане, кефир маме… Временами кто-то заходит, уходит. Скандалю с врачихой, которая требует немедленной госпитализации. Какие-то подруги мелькают. Соседка. Помню, автослесарь приперся. Пьяный. Я его прогнала.
Встаю, как в полусне, – Диану посажу на горшок, переодену, суну таблетку… Она, прелесть моя, от зеркала отворачивалась, говорила “не надо”… Ей сыпь на лице не нравилась.
Упаковки, Женя, были совершенно одинаковые, мой седуксен и ее. Я не знаю, сколько я ей дала седуксена. Тем более что жизнь-то шла не по часам. У меня – сорок, какие часы. Ни утра, ни вечера не разбирала. Но твердо помнила, что надо дать Диане лекарство… На дворе декабрь – тьма круглые сутки… Двадцать первого декабря, в самый зимний солнцеворот, встала я, подхожу к Диане, трогаю – холодная. Температура спала, думаю. А ночник горит. Я смотрю – личико белое-белое. Сыпи нет больше… Не стала будить, легла. Потом встаю опять, думаю, пора лекарство давать. И только тогда я поняла, что Диана моя прекрасная мертвым-мертва…
Женя увидела эту картинку – как в кино: в длинной белой рубашке Айрин, склонившаяся над детской кроваткой, и как она вынимает из кроватки в белой же рубашке девочку. Только лица девочки Женя не увидела, потому что оно было загорожено этими рыжими сияющими волосами, которые и теперь живут, вьются, блестят… а Дианы уже нет…
Плакать Женя не могла, потому что в сердце у нее что-то спеклось горьким комком, и слезы больше не шли.
– Хоронили мою девочку без меня. – Айрин посмотрела Жене в глаза таким прямым и безжалостным взглядом, и Женя подумала: “Господи, как я могу думать о всякой чепухе, когда в жизни вот такое происходит…” – У меня сделалось воспаление мозговых оболочек, три месяца я провалялась по больницам, потом меня учили заново ходить, ложку в руках держать. Живуча я, как кошка. – Айрин засмеялась горьким смехом.
Да, голос у Айрин был необыкновенный – один раз услышишь и никогда не забудешь: хриплый, мягкий, и казалось, что это голос певицы, которая себя сдерживает, потому что если запоет, то все будут рыдать и плакать от такого голоса и рваться туда, куда этот сиренический звук повелит…
И Женю от этого предполагаемо-прекрасного пения прорвало, и она заплакала, и едкая горечь от этого рассказа стала выливаться из нее слезными струями. Айрин подсунула ей белый платок, кружевной, пахнущий духами, и Женя мгновенно измочила его.