Модель для сборки Каганов Леонид
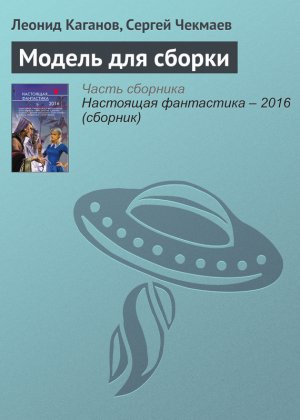
Что я мог сейчас сказать или объяснить человеку, далеко шагнувшему за порог вменяемости? Жалко оправдываться за совершенную коллегами ошибку, стоившую человечеству трети освоенных территорий? Или с придыханием и мечтательной улыбкой поведать ему, что такое настоящая любовь? Не книжная, а живая, отвергающая любые границы? Да много ли я и сам об этом знаю, случайный гость на чужом празднике? Или ударить его коротко и точно, закрыв проблему этого мессии раз и навсегда? Чтобы расчетливое зло не вылезло на царство по чужой боли, страхам и затаенным обидам? Мне хотелось назвать Нунчика мразью, но рацио привычно взяло верх над эго.
— Амандо, дружок, — я взял его за локоть. — Ты здорово разбираешься в моей работе. И поэтому понимаешь, что в рамки моих полномочий входят многие вещи, которые показались бы тебе как живому существу весьма неприятными. Ты уверен в своей правоте. Но она не защитит тебя от меня, веришь?
Он дернулся, но я держал его цепко.
— И эти милые люди, благодарные тебе за спасительные дары, со значением выпьют чарку за твой упокой. Но они пока что не готовы нажать на курок во славу твоего имени. Дорожка, на которой мы сейчас стоим, ведет к посадочной площадке. Челнок на орбиту уходит через три часа. Курьерский к Пятому Байресу — послезавтра. Все время мира в твоем распоряжении.
Я вынул у него из-за пояса тупорылый револьвер, заряженный разрывными, и сунул себе в карман. Нунчик обмяк, как тряпичная кукла. С тяжелым ревом на площадь с двух сторон выползли фургоны комендатуры. Люди начали расходиться, торопливо пряча смертельное добро под одежду. Несостоявшийся мессия побрел по указанной мной дорожке.
— Капрал, — окликнул я старшего, уже пломбирующего нунчиковскую машину, — а что случилось? Какие новости?
— Плохие новости, Антон Андреевич, — помощник коменданта двинулся мне навстречу. — Час назад трое напали на приют. Сверхновые, фанатики. Шнеху вырубили стайером, и она успела оторвать голову только одному. А мы подоспели поздновато.
— А что с детьми? Что Ростислав? — я перестал анализировать собственные интонации, забыл о лице, жестах, подборе фраз. Черная помпа в моей груди погнала в мозг килотонны адреналина.
— Охотника они застрелили в лицо. И зарезали двух головастиков. Мы задержали преступников, детей увезли в госпиталь. У мальчика сотрясение, девчонка в шоке. Сейчас Георгий Петрович разговаривает с тем берегом. Только вряд ли что получится. Шнеха, наверно, уже к своим уплыла. Скоро жди гостей.
На деревянных ногах я прошел к машине Нунчика, упал за руль, ткнул в клавишу подкачки. Капрал не протестовал.
Жестянка приподнялась над землей. Заложив по площади широкий вираж, я бросил ее в сторону Бугорков.
Нунчик, еще не ушедший далеко, проводил меня взглядом и размашисто осенил небрежным крестным знамением.
Я боялся. И знал, что не смогу не войти. На каждом шаге по скрипучим мосткам я боролся с желанием развернуться и бежать прочь.
Вопреки предсказаниям, жена Ростислава не уплыла.
Шуль безмолвно громила дом. Для рептилии в два с половиной метра длиной не может стать препятствием легкий строительный пластик. В стенах пучились вмятины и зияли дыры. Войдя внутрь, я сначала увидел лишь мертвые предметы — сорванные ставни, опрокинутую мебель, глубокие свежие борозды на полу и потолке. Потом появилась Шуль.
Пробежав по стене, она бросилась об пол, смахнула со стола посуду, извернулась клубком, на мгновение впившись зубами в собственный живот. Потом за одну бесконечную секунду преодолела комнату и замерла напротив меня, глаза в глаза. Ее дыхание оказалось легким и пряным.
— Вы такие все, — прошелестела она почти без акцента. — Бесчувственные, расчетливые, целеустремленные. У вас нет времени замереть, чтобы почувствовать ток воды, тепло солнца, радость жизни. Вы опутываете себя долгом и необходимостями. Вы такие же, как мы.
Загипнотизированный ее перламутровыми глазами, я не видел, я на самом деле не видел, что когтями левой — руки? ласты? лапы? — она сантиметр за сантиметром раздирает свою зеркальную шкуру.
Из рваной раны на животе сочилась прозрачная масляная жидкость — лимфа? сок? кровь? — и голос Шули сорвался в хрип:
— Но есть исключения, хомо! И только из-за этих исключений у вас и у нас остается хоть какой-то шанс. Ты знаешь, что «шуль» означает на нашем языке?
— Слава, — перевел я. Но пересохшее горло не издало ни звука, я лишь пошевелил губами.
— Единым именем следуют, — прошептала она по-шнехски, если только я правильно разобрал слова.
Сверкающее тело изогнулось дугой, пушинкой отлетел в сторону двухтумбовый стол, и Шуль пробила внешнюю стену. Раздался тяжелый всплеск.
Когда я выбежал на причал, Шуль успела отплыть от берега метров на тридцать. Она перевернулась на спину, а вода вокруг нее кипела полосатыми спинками карналей.
Я должен был кричать и звать на помощь, но голос оставил меня в эту минуту, и я лишь немо — как настоящая рыба — кривил рот, выталкивая из себя воздух.
Там, где Шуль прокусила и разорвала свою непробиваемую шкуру, карнали быстро обнаружили брешь. Ей должно было быть очень больно, но Шуль не издавала ни звука. Ее тело медленно ускользало под воду.
То, что всегда казалось живой сталью, сначала стало походить на грязную рыбью чешую, а потом — на безжизненный свинец. Карнали накрыли Шуль с головой, а когда отхлынули, в стылой воде озера можно было разглядеть только кривобокие облака, выползающие из-за берега шнехов. Собирался дождь.
— Тошенька, миленький, что же будет? — такими словами меня приветствовала перепуганная Марта.
Я пожал плечами и без стука вошел в кабинет.
— А я тебя уже потерял, — насупив брови, сказал комендант. — Был там?
Не дождавшись ответа, продолжил:
— Варварство, средневековье! Убить детей! Ты должен знать, Антон. Я постоянно на связи с вождем их экспедиции. Контакт, понимаешь?! Наметился контакт уже совсем другого уровня.
— О чем вы говорите, Георгий Петрович? — устало спросил я.
— О том, Антоша, что шесть тысяч наших детей сейчас сидят у них в гнездах. И столько же шнешат забились по углам у нас. Шнехи требуют выдачи убийц. А я почти дожал их на совместный открытый процесс. Частично это твоя работа, между прочим. Будешь должен, спец.
— Георгий Петрович…
— Марта!.. — крикнул комендант через закрытую дверь. — Будь добра, принеси нам с Антоном Андреичем свежей выпечки к чаю!
И снова заговорил со мной:
— Твою роль не забудем, конфликтолог ты наш. Что с того, что где-то сбился, где-то отвлекся? Все мои подвижки — благодаря контакту с тобой, Антоша. Наш план оказался блицкригом. Мы с тобой миновали бутылочное горлышко, хотя народ пока этого не понимает.
Неожиданное безумное прозрение разорвало мне мозг. Сердце словно споткнулось, а забилось снова уже в другом, математически выверенном ритме. Навыки деловой клоунады, которую в меня вколачивали почти семь лет, позволили сохранить внешнее спокойствие.
— Я уже в строю, Георгий Петрович. Жалко их всех, конечно…
— Славу-то? И этих мальков? Еще бы! И Русалка его, бедная девочка, это будет для нее таким ударом… Но эти три смерти не будут напрасны, Антошенька! Я двадцать тысяч положил зря — а этих не зря. Не будет нас, не будет их — будем мы. С общими гуманными законами. С единой торговлей. Все у нас будет хорошо!
Слепящая безжалостная истина засверкала гранями логических связок и объединяющихся фактов. Я начал строить фразы бережно, словно ставил последнюю пару джокеров на вершину карточного домика:
— Вы меня отлично подстраховали, спасибо. При всех моих умениях, все равно поражен: как вам удалось подгадать момент нападения? Чтобы это совпало с переговорами?
В эту секунду я должен был получить в морду и кубарем скатиться с лестницы. К сожалению, этого не произошло.
— Мысли шире, Антоша! Я подгадал переговоры под нападение, — комендант с удовольствием потянулся, хрустнув суставами. — Заодно и эти маньяки-церковники у нас вот где теперь! — Он сжал кулак, плакатно-правильный кулак колон-капитана, отца нации, бати.
— Георгий Петрович, как-то это на провокацию смахивает.
— Обидеть хочешь, Антоша? Я здесь власть. Мне никого провоцировать не надо. Люди просто интересуются моим мнением. По разным вопросам. Без протокола.
Я окончательно потерял себя. Прежний «я», брат-близнец коменданта, агонизировал. А нового «я» пока не предвиделось.
— Знаете, Георгий Петрович, а они ведь на самом деле любили друг друга.
— Антон, брось мне это дело. Нас с тобой не самоистязанию учили. Малая жертва за большое дело. Правильно? И как можно любить ящерицу? Ты же взрослый человек!
Я вспомнил, как однажды застал Шуль одну на веранде. Она не слышала моих шагов и продолжала мучительно разрабатывать артикуляцию. Стягивая изо всех сил углы безгубого рта, она тихо-тихо повторяла: «Люллю… Лювлю… Люблю…»
Прежний «я» умер.
— Георгий Петрович, а помните, позавчера вы спрашивали о векторах?
— Ну?
Я сделал шаг вперед.
— Отрицательный вектор нельзя убрать, его можно и нужно поворачивать или делить. Нацеливать на новый объект, так?
— Что ты, Антоша, мне взялся теорию рассказывать?
— А ведь есть еще одно решение, Георгий Петрович. Простое. Нет объекта — нет ненависти, так, комендант?
А он так ни черта и не понял и еще попытался по-отечески втолковать мне, что на нашей сволочной работе только настоящим мужчинам удается сжать свою совесть в кулак и сделать «как надо».
Я вышел на крыльцо и огляделся. Солнце блеклым блином катилось на запад. Над Бугорками стлался заблудившийся пласт тумана. Изо всех дорог, расходящихся от управы, путь к болотам казался самым правильным для человека в поисках одиночества.
Я думал о том, что имел в виду Михайло Ломоносов, когда говорил, что ничто не берется из ниоткуда и не девается в никуда. Не пытался ли он в своих допотопных фразах открыть, излить простую и очевидную истину: чувства, копящиеся в душах людей, не могут упорхнуть в одночасье, рассыпаться пеплом, растаять во вчерашнем дне. Им, как любому другому материальному объекту, нужен выход, действие, выплеск.
По перегревшемуся монолиту улицы Охотников я прошел мимо пекарни. На заднем дворе детвора весело играла в экспансию. Маленький серебристый шнех, зависнув на карнизе вниз головой, страшно клацал челюстями и шевелил хвостом, пока не начинал трескуче хохотать вместе со всеми.
Свернув на хоженую-перехоженную тропинку к заимке Ростислава, я выщелкнул в канаву отстрелянные гильзы, а потом бросил и револьвер.
Где-то далеко позади из окон управы исторгся запоздалый и бессильный женский крик. Я не должен был думать о кричащем человеке, раз не учел его интересов до этого.
Те, чья судьба на короткое время переплелась с моей, те, кто вошли в мою жизнь, уже остались в ней навсегда. Об остальных предстояло думать кому-нибудь еще.
И меня совсем не волновало, через сколько минут или часов малознакомые люди бросят мне в спину приказ остановиться и заставят «медленно и без глупостей» поднять руки!
Дарья Булатникова
ЗАПАХ УГЛЯ, ВКУС КРОВИ
Тормозящий поезд в последний раз содрогнулся, лязгнул сцепками и встал. Проводница Таня открыла дверь, и Шутова захлестнула прохлада, ворвавшаяся в тамбур из тьмы, разбавленной мутным светом вокзальных фонарей. Пробормотав Тане "До свидания!", он спрыгнул на перрон. Замер на секунду, словно проверяя готовность, и только тогда позволил себе выдохнуть тепло спального вагона, пахшее дезодорантом и кофе. А потом глубоко, во все легкие, вдохнул воздух родного города.
Славянка. Все то же — запах угля, вкус угля… Шутов дегустировал его, словно старое вино. Запах угля. И вкус угля — похожий на вкус крови.
За спиной неслышно двинулись вагоны, где-то вдали перекликались мужские голоса, ночной перрон был абсолютно пуст, если не считать уныло бредущей по нему собаки. Шутов потянулся и облизнул пересохшие губы.
Город ещё не знал, что он вернулся.
Он не стал брать такси, если можно так назвать пару потрепанных «жугулей» и совсем уж убитый «фолькс», сгрудившиеся на привокзальной площади. Как раньше, пошел пешком. По пешеходной улочке вдоль железнодорожных путей — к высокому мосту с прогибающимися под его весом досками. Впрочем, они точно так же прогибались и когда Шутов был юным студентом а не тридцатисемилетним заматеревшим мужиком.
Потом — вдоль бесконечного забора складов, мимо одинаковых двухквартирных коттеджей… И повернуть на Парковую улицу, которая вела к когда-то его дому. К дому, где он родился и вырос, где прошло детство и часть юности, где…
Он остановился и прислушался.
Ночь зудела стрекотанием то ли цикад, то ли мопеда — его заветной детской мечты. Где-то хрипел полублатной шансон и слышались вопли пьяной драки. Шутов улыбнулся. Тот, прошлый, он бы от греха обошел бессмысленную потасовку. Но сегодня ему было все равно — он стал другим. И дерущиеся, словно почуяв в темноте опасного зверя, стихли. Только сбивчивый топот в темноте — прочь, пока есть шанс спасти шкуру.
Теперь Славянка принюхивалась к нему, как раньше он — к запаху её угля.
* * *
Гуцко точно знал, что умирает. Необыкновенная ясность мысли была следствием того, что он уже третий день не пил. Водка закончилась, а встать и дойти до магазина, где всегда найдется компания, готовая налить полстакана, Гуцко не мог.
Что случилось и когда — он не помнил. Пока была водка, кашель и слабость не волновали. Ничто не волновало. Засыпал, просыпался, прокашливался, ощущая шершавую боль под ребрами, и глушил её парой стаканов. Боль уходила — растворялась в хмельной волне, как и весь остальной мир. Ещё маячили рядом какие-то мужики, булькали" родимой", тянули к себе газету с чайной колбасой и крошащимися ломтями ноздреватого хлеба. Потом куда-то делось все — мужики, колбаса, хлеб… И водка. Иссякла водка.
А вместе с ней иссякли и силы. Кое-как Гуцко сполз с продавленного дивана и доплелся до ванной с грязным унитазом и капающей из крана ржавой водой. Там пришло окончательное понимание того, что дело хреново. Перед глазами все плыло, ноги не держали. Обратно он добирался на карачках, запинаясь о валяющиеся повсюду пустые бутылки и почему-то валенки. Откуда у него столько валенок? Эта мысль была последней, Гуцко ткнулся лицом в дурно пахнущую наволочку и отключился.
Очнулся абсолютно трезвым и бессильным. Лежал, с ужасом понимая, что до ванной ему уже никогда не добраться, истекал липким потом и мочой, выкашливал легкие в пыльную тишину, уговаривал кого-то помочь. Ответом был лишь крысиный писк.
А когда смерть уже маячила на пороге рваной фигурой, появился Витька Шутов. Гуцко не удивился — кто же, как не Витька должен был явиться ему вместе с костлявой? Смерть и мёртвые — они же всегда рядом ходят…
Небритый, в мятом пиджаке, мёртвый Витька навис над Гуцко. Губы его шевелились, но понять, что он говорит, было невозможно. Гуцко попытался отмахнуться от него, не получилось — тело забилось в очередном приступе кашля и опало.
- Прости… меня… — просипело откуда-то изнутри него. — Прости…
- Ты что?! — заорал Шутов. — Ты что, Серега?! Ты, блин, не умирай, погоди! Я сейчас…
Он шарил по карманам в поисках телефона, потом уговаривал скорую приехать. Врач отказывался госпитализировать — Шутов совал ему деньги: доллары, рубли, евро. Наконец Гуцко перекинули на носилки и погрузили в раздолбанный уазик. Шутов в больницу не поехал, но пообещал попозже проведать и проверить. Врач хмыкнул и прямо сказал, что Гуцко не жилец.
- Ты уж постарайся, пилюлькин, — буркнул Шутов. — Вытащишь, гораздо больше дам. Запомни — гораздо.
Он проводил взглядом удаляющийся по дворовым колдобинам микроавтобус и выругался. Плохо. Со всех сторон плохо. И для дела, и вообще… Нужно было вернуться раньше. Не выжидать и рефлексировать, а просто купить билет на проходящий поезд, шугануть неотступно следующую по пятам команду и ехать. Чтобы разобраться, наконец, что же случилось тогда, пятнадцать лет назад.
Нужно запереть Серегину квартиру. Шутов поднялся по пяти знакомым ступеням и толкнул ободранную дверь. Неужели это — та самая квартира? Криво висящая на вылинявших обоях газетница, давным-давно вышитая Серегиной матерью, подтвердила: та самая. А вот и фотография в дешевой рамке — они с Гуцко и Митрофаном в нелепых спортивных костюмах стоят около забора. И довольно глупо улыбаются. Он тогда накопил денег на свою первую машину…
Шутов закрыл глаза и увидел объятый пламенем старый, но все ещё понтовый «мерс», несущийся в Ржавый яр. Услышал собственный раздирающий грудь крик. И — тишина, нарушаемая только отвратительным треском жрущего машину и человеческую плоть огня.
Где-то громко запищала крыса. Мягкий удар, еле слышный скрежет и снова писк. Шутов поморщился, сдернул с гвоздя ключ, пнул изъеденный молью валенок и вышел.
Крыса пищала ему вслед отчаянно и безнадежно.
* * *
Он давно забыл о том, что сделал когда-то. Как чертил, как исписывал формулами листы миллиметровки, как паял схемы. Забыл, откуда и зачем появился высокий рубчатый цилиндр из нержавейки — сердце прибора, название которому он так и не смог придумать.
И уж точно Гуцко, умиравшего на старой железной кровати в шестиместной палате, не волновала судьба серого зверька, свалившегося с полки в этот цилиндр.
Обезумевшая от голода и жажды крыса третий день металась в западне. Верхние резцы сломались накануне, когда она пыталась выгрызть торчащую из стенки цилиндра круглую кнопку. Кнопка провалилась внутрь, раздался тихий треск. Зубы дернувшейся крысы зацепились за оставшуюся круглую дыру и хрустнули. Она не скоро пришла в себя от боли и в очередной раз попыталась допрыгнуть до края цилиндра. Но он был слишком высоко, и крыса снова и снова, скрежеща коготками, безнадежно сползала по холодному металлу. Полежав и собрав силы, она вновь прыгала. Больше ей ничего не оставалось.
Темнота, сгустившаяся за крошечным пыльным оконцем кладовки, скрыла и странный, покрытый многолетней пылью агрегат, и его пленницу, и воткнутую в древнюю розетку электровилку, шнур от которой тянулся к прибору без названия. Названия не было, потому что сам его создатель не верил, что он может заработать. А когда все-таки заработал, сделал все, чтобы забыть об этом.
К измученному уколами и капельницами Гуцко подошел врач, подержал за запястье, оттянул веко на правом глазу и поморщился. Буркнул маячащей в дверях медсестре:
- В реанимацию. И скажи Пустовойтову, чтобы подсуетился. Передай, я просил. Вытащит этого ханурика, свое получит. Утром я к нему зайду.
Крыса, поводя впавшими боками, прицелилась и прыгнула. Упала и осталась лежать на дне цилиндра.
А в сгиб локтя Гуцко вонзилась очередная игла.
* * *
В ночной темноте ветер раскачивал за окном старый вяз. Ажурные тени метались по потолку — у ворот горел такой же старый, как вяз, фонарь. И тонко зудели комары…
Шутов лежал в пахнущей глаженым бельем и кислым тестом темноте и смотрел в светлые квадраты окна, боясь шевельнуться, чтобы не зазвенела металлическая сетка кровати. Или — чтобы не спугнуть того, кто стоит за окном? В переплете опять угадывалось его нечеловеческое лицо — огромное, внимательное и суровое. Шутов дунул вверх, на лоб, остужая его. Что же он взмок-то так? Что же…
А ведь он забыл, совсем забыл, сколько лет прошло.
Ну зачем ему это было нужно?!
Затем. Он должен был вернуться именно сюда. В комнату с вязом и фонарем за окном. С тишиной, в которой слышен только комариный писк. Раньше звуки были другими: собачий лай, пьяное пение и… Закрыв глаза, Шутов словно наяву услышал шаги — тяжелые и неспешные. Шаги многих ног. Каждую ночь они раздавались в одно и то же время. Сколько ночей маленький Витька Шутов просыпался, боясь встать и глянуть. Потом преодолевал страх и иногда шлепал босыми ногами к окну, чтобы посмотреть на черных людей, идущих в ночной темноте по улице.
Вздрогнув, он попытался отогнать звуки прошлого, но не получилось. Шаги приближались. Глюк? — криво усмехнулся Шутов в темноту. А потом резко поднялся, заставив пружины кровати взвизгнуть.
Спустя минуту он стоял, прижавшись лбом к пыльному стеклу, и смотрел на идущую мимо дома колонну. Черные лица, черные робы, на головах черные каски с волнистыми краями и слепыми фонарями. Как всегда, смена с работы шла устало, вразнобой…
Шутов отскочил от окна и потряс головой. Не может быть! Этого не может быть.
Потому что бытовки с душевыми на шахте появились ещё когда ему было лет двенадцать. После этого смены уже не шагали по улицам черными колоннами. Да и откуда им взяться, сменам, если шахта уже десять лет как стоит затопленная?
Нет больше шахты.
Постояв на холодном полу, Шутов вернулся к кровати и зачем-то достал из-под подушки «глок». Пистолет привычно лег в ладонь. Когда-то он выбрал его среди других моделей из чистого пижонства, но потом понял, что сделал правильный выбор. «Глок» был похож на него самого — такой же мощный и неторопливый. Но в любой момент готовый к беспощадной схватке.
Улегшись на скомканную простыню, Шутов положил пистолет на живот и почти мгновенно уснул, успев подумать, что когда-то для храбрости клал с собой в постель котенка Марсика. Чтобы тот уютно мурлыкал у него на животе. А теперь вот — «глок»…
* * *
Алексей Иванович Митрофанов озабоченно осмотрел кабинет. Все в порядке — герб города Славянка и портрет Президента на стене висят ровно, триколор в углу расправлен, на столе — ничего лишнего. Сразу видно — тут работает человек, пекущийся о вверенном ему городе.
Пройдя по скрипучему паркету, Митрофанов открыл дверцу шкафа и внимательно осмотрел в себя в прикрепленном к ней изнутри зеркале. Ради сегодняшней встречи он надел привезенные из Лондона костюм из чистой шерсти и стильный галстук за две сотни фунтов. Пусть не думает гость, что он тут прозябает.
Алексей Иванович вгляделся в отражение собственного лица, свел брови, сжал губы. Меньше всего ему хотелось, чтобы тот, кто назначил ему встречу, понял, как он его боится. Как ненавидит и как надеется на то, что ему ничего не известно. А вдруг? Вдруг проговорится Гуцко? Давно надо было разобраться с этим алкашом. И чего медлил, чего ждал? Что подохнет от водки, которую он ему засылал чуть не ящиками? Что выжжет она ему остатки памяти?
А может зря он волнуется? Серега давно потерял человеческий облик. И хотя его все ещё не было в списках умерших, которые Митрофанов с надеждой просматривал на аппаратном совещании каждый понедельник, но звонить и требовать выпивки он перестал уже месяца полтора назад. Скорее всего, сдох и валяется в своей вонючей норе. Эта мысль ему так понравилась, что твердо сжатые губы искривились в улыбке.
- Алексей Иванович, к вам посетитель, — раздался из аппарата голос секретарши.
Митрофанов отскочил от зеркала, словно нашкодивший первоклассник, суетливо прикрыл дверцу шкафа и хрипло буркнул:
- Пригласи войти.
А сам уверенно и размеренно пошел к двери. Таких людей принято встречать. Даже если за тобой — Президент и триколор. Дверь распахнулась.
- Ну здорово, Митрофан, — без улыбки произнес Шутов.
* * *
Крысу разбудил запах. Резкая вонь горелой изоляции проникала через нос куда-то внутрь, заставляя чихать и мотать головой. Раздирая коготками ноздри, крыса пыталась избавиться от противных ощущений. Ничего не помогало.
Ещё не открыв глаза, Ольга почувствовала знакомый запах кофе. На кухне бубнило радио и слышалось позвякивание ложечки о чашку. Отец всегда вставал на рассвете, тихо спускался со второго этажа и в электрическом кофейнике варил себе большую чашку крепкого кофе. Очень большую, почти полулитровую. А потом закуривал одну из своих трубок и по квартире распространялся запах медового табака.
Старый холодильник урчал, изредка произнося громкое «та-та-та» и замолкая, чтобы отдохнуть. Тикали часы с боем, где-то лаяла собачонка… Сегодня можно было не спешить, подремать под тяжелым ватным одеялом, наслаждаясь запахами и звуками. Но Ольга встала, чтобы успеть принять душ и привести волосы в порядок. Её немецкий фен явно чувствовал себя неуютно в компании старого холодильника и часов — как юная красотка в доме престарелых.
А потом она вышла в знакомый до каждого кустика и камешка двор, прошла мимо обложенных половинками кирпича клумб с отцветшими уже петушками. Немного постояла под старой акацией, на которую в детстве влезала за считанные секунды, и оказалась на родной улице. Едва не свернула налево — дорога к школе осталась привычной до автоматизма. Но сегодня ей направо. И дальше — за угол.
Тут дома стояли вплотную к тротуарам. Серый и красный полированный гранит и стекло. Заглубленные входы, глянцевые пилоны, клинками взмывающие к небу — царство современной офисной архитектуры. Ольга ещё помнила неказистые довоенные двухэтажки, которые стояли тут раньше. Но улица со старыми тополями и заросшими травой дворами осталась в прошлом. А новая поразительно напоминала застройку Чикаго или Нью-Йорка. Теперь тут деловой центр Славянки, а магазины, кинотеатры и рестораны дальше, там, где когда-то был заброшенный питомник. Как красиво цвел в нем вереск…
Вздохнув, Ольга подошла к двери из толстого, отливающего зеленью стекла, та медленно и бесшумно сдвинулась в сторону. Представился механизм, изнутри покрытый таким же слоем жирной пыли, что и гранит, тротуар и стекло. Уголь. Он оставляет свой след на всем. И вся эта жесткая и деловитая роскошь имеет запах угля, вкус угля… цену угля.
Вестибюль — все тот же гранит и бронза. Хотя она ожидала увидеть блестящий хром. Но полированный металл слишком быстро тускнеет от угольного налета и напичканного химией воздуха, с которым не справляются и самые лучшие кондиционеры, а бронзе это даже к лицу. Есть ли лицо у металла? Ольга не знала. Направляясь по пустому гулкому пространству к лифтам, она постаралась выбросить из головы подобные глупости. Каблуки четко печатали шаг по глянцевому камню, настраивая на предстоящую встречу.
В кабине бесшумно двигавшегося лифта Ольга поправила перед зеркалом волосы и осталась довольна — стройная, почти девичья фигура, незаметный макияж, элегантный костюм, дорогая кожаная сумочка, которой она втайне гордилась. И только глаза выдавали напряженность.
Шутова Ольга увидела сразу, как только открылись двери лифта. Он ждал её не в шикарном кабинете, как ей представлялось, а по-мальчишески сидел в холле на подоконнике и курил. На фоне окна олигарх Витька Шутов казался огромным. Впрочем, он всегда был таким — значительно плотней и выше большинства сверстников. Те же крупные черты лица, те же угадывающиеся под одеждой мускулы спортсмена. Только густые волосы слегка тронула ранняя седина. Модная небритость и такой же модный, словно измятый, пиджак. Мачо. А глаза у мачо прежние — карие, опушенные слишком длинными для мужчины ресницами.
Увидев её, Шутов поднялся, швырнул в бронзовую урну недокуренную сигарету и шагнул к ней.
- Ну, здравствуй, — сказал он.
Нужно было, наверное, обнять и чмокнуть его в щеку, но Ольга вдруг поняла, что не уверена, как Шутов к этому отнесется. Как вообще относятся люди, подобные Витьке, к таким вот встречам с прошлым? Горькая улыбка тронула губы. Выходит, она — прошлое? Прошлое — ехидно подтвердил внутренний голос.
- Здравствуй, Оля, — повторил Шутов, оказавшись рядом, очень близко. И поцеловал ей пальцы. Не руку, а именно пальцы. А потом заглянул ей в глаза и весело улыбнулся. — Ты совсем не изменилась.
Неправда, изменилась.
- Я рад, что ты приехала. Ну, куда пойдем? Она по-прежнему молчала, разглядывая его — человека, который создал весь окружающий гранит. И бронзу. И дома… немыслимый Чикаго в их ленивом солнечном краю. Создал и владел всем этим. Всемогущий и недоступный Шутов давным-давно управлял своей империей откуда-то издали. Мало кто знал, откуда.
- Ты приехала первой. — Он снова зачем-то поцеловал ей руку. — Остальные должны подтянуться. Ну что, может быть, сходим к школе? Или лучше посидим в ресторане? А помнишь?..
Она помнила.
Горько защемило сердце и захотелось уйти, вернуться домой и снова забыть, затолкать в самые пыльные уголки памяти и эту улыбку, и затененные ресницами глаза, и вихры, не желавшие лежать в модной прическе. Когда-то Шутов уже неловко пытался пригласить её в ресторан, а она почему-то испугалась и отказала — резко, почти обидно. И тут же пожалела об этом. Это было сразу после выпускного бала. На следующий день она уезжала сдавать вступительные экзамены в Академию. Раньше, чем Гуцко в Бауманку, а Митрофанов — в педагогический. А Шутов неожиданно для всех решил остаться учиться в местном горном техникуме.
- Я помню, — после глупой паузы пробормотала Ольга. — Пойдем… куда-нибудь.
Они вышли на затененную высокими домами улицу. Водитель огромного вишневого автомобиля включил зажигание, но Шутов покачал головой и взял Ольгу под руку.
- В школу?
- Она тоже… новая?
- Конечно. Перестроили все, что рушилось и обветшало. Ты давно тут не была?
- Почти двадцать лет.
Шутов присвистнул, изображая удивление. Хотя отлично всё знал.
- Значит, ты тогда сказала правду — уехала в новую жизнь навсегда.
- Не навсегда. Славянка не отпустила. Я знала, что когда-нибудь мы все вернемся сюда.
- Думаешь, я этого не знал? — он улыбнулся своей прежней безмятежной улыбкой. И Ольга вдруг поняла — Витька Шутов очень долго, все это время, готовился к тому, что они увидят, вернувшись.
- Твой дом не тронули.
- Спасибо.
- Да за что же?
Ольга хотела сказать — за запах отцовского кофе, бормотание радио на кухне, звяканье ложечки в чашке… И за петушки на узкой клумбе, и за старую акацию, и за…
- За то, что ты есть, — неожиданно ляпнула она.
Шутов громко засмеялся. Они оба отражались в стекле сумрачного офисного здания — женщина в строгом костюме и мужчина в модном, словно измятом пиджаке.
* * *
Горбатый, отощавший почти до состояния скелета зверек с трудом поднялся на ослабевшие лапы. Посмотрел вверх. И прыгнул. Все подернулось маревом. Вместо чудо-Чикаго вдоль покрытой выбоинами улицы стояли двухэтажные дома, на обшарпанных фасадах которых кое-где ещё оставалась серая, больше похожая на грязь краска. Ольга потрясла головой. Не нужно вспоминать сон. Ничего этого нет. Ни огромного холдинга, ни стеклянно-гранитных офисов, ни новой школы, ни-че-го. И самого Витьки Шутова уже пятнадцать лет — нет. Нигде и навсегда.
А есть все та же Славянка, старые тополя на улицах, трава мокрица во дворах, бывший хлебный магазин на перекрестке с жалостливо прикрытым фанерной рекламой окном. Поросшая бурьяном плешь на месте универмага и старательно побеленные ступени дышащей на ладан школы. Развалины шахт и обогатительного комбината…
И есть она, тридцатисемилетняя женщина, покупающая у старушки гладиолусы.
Он выбрала четыре роскошных пунцово-красных цветка и с ними вернулась в такси.
- На кладбище, — бросила она.
Когда машина тронулась, Ольга достала из своей кожаной сумочки черно-белую фотографию. С неё безмятежно улыбался Витька Шутов. Такой, каким она видела его в последний раз. Она навсегда уезжала в новую жизнь, он оставался. Его Славянка не отпустила. А потом и вовсе забрала навсегда.
Она прикрыла глаза, потому что сердце защемило вполне ощутимо. Впору искать нитроглицерин. Но нитроглицерина у неё никогда не было. Это у отца… которого тоже давно нет. Как нет его любимого электрического кофейника, полулитровой чашки… даже ложечки нет. Есть только дом, где живут чужие люди. Вчера она так и не осмелилась подойти и заглянуть во двор. Так что даже не знает, растут ли ещё там вдоль дорожки петушки. А вот старая акация жива, её верхушка выглядывает из-за дома. И от этой мысли вдруг отпустило сердце. Все осталось тут, никуда не делось. Просто видит это только она. Но вот откуда взялась та, новая Славянка из её гостиничного сна? Настолько реальная, что Ольга до сих пор помнила и бесшумное движение автоматических стеклянных дверей, и бронзовую урну, и запах. Неистребимый запах угля. Так похожий на запах свежей крови.
Она приоткрыла окно и глубоко вдохнула ворвавшийся в него ветер. Он пах углем и луговыми травами — полынью и клевером. Виляя, чтобы объехать глубокие ямы в старом асфальте, такси двигалось к заброшенной шахте, рядом с которой располагалось кладбище. Ольга была уверена, что безошибочно найдет могилу Витьки Шутова.
* * *
Каждый раз крысе казалось, что сил на следующий прыжок уже не будет. Но полежав и поплакав, она вставала и снова прыгала.
Ольга смахнула ладонью наваждение. Это все страхи, детские иррациональные страхи перед возвращением. Дома с брошенными квартирами, за выбитыми окнами которых навсегда обосновалось затхлое небытие. Крыши с почерневшим от времени шифером, унылая бедность и разруха. Как во многих шахтерских городах и поселках.
Но у Славянки был человек, который не хотел, не мог допустить этого. И единственным способом было — стать хозяином. Он и стал. Чего это ему стоило, знает только он, её бывший одноклассник, а ныне олигарх Витька Шутов. Ольга старалась об этом не думать. Ей достаточно было чувствовать рядом его широкое плечо, касаться его руки, слышать голос и смех. Он, как и раньше, смеялся много и с удовольствием.
- А Серега? Он же у тебя работает?
- Гуцко? Гуцко сейчас в Брюсселе, в командировке. Наш самоделкин какую-то новую штуку задумал, вот и шляется по миру, ищет подходящие технологии для комбината. Завтра обещал вернуться, так что как раз успеет.
Брюссель, технологии… Кто бы мог подумать тогда, что Серега будет шляться по миру. А Шутов станет олигархом.
- У тебя есть яхта? — неожиданно спросила она.
- Яхта? Зачем мне яхта? — Шутов даже остановился и озадаченно уставился на Ольгу.
- Ну, не знаю. У Абрамовича же есть.
- Нет у меня яхты. — Он почесал нос тем же жестом, которым в школе предварял решение на доске задачи или ответ по биологии. — Она мне не нужна, — твердо добавил Шутов, чтобы она не подумала, что он оправдывается. — У меня есть самолет. И пара вертолетов. Этого достаточно.
Она задумчиво кивнула, представив Шутова, летящим на вертолете над степью, над терриконами и копрами шахт. Над химкомбинатом, который превращал уголь в пластик и синтетическую резину. Над заводами, где из всего этого изготавливались тысячи наименований изделий. Над тем, что сейчас стоило миллиарды. И одну человеческую жизнь. Если Шутов отдал её за все это, значит, ему так было нужно.
- Я сегодня был у Митрофана, — сообщил Витька и поморщился.
- Как он?
- Как и раньше. Был жуком, и им же и остался. Мэр, ёлки-палки…
Они неспешно шли вниз по улице. Появились нарядные витрины, навесы летних кафе со столиками, промчалась стайка тинейджеров в нелепых штанах, с наушниками на лохматых головах.
Ольга смотрела на Шутова и думала, что Лешка Митрофанов всегда болезненно относился к его успехам. Была ли это пятерка по математике или лишняя кипа газет во время сбора макулатуры. А уж когда повзрослели, и Витька стал явно превосходить его по всем параметрам, Митрофан и вовсе начал комплексовать. Шутов же продолжал считать его если не другом, то хорошим приятелем. Хотя поправки на хитрость и завистливость делал. И вот она, ирония судьбы — оба стали хозяевами Славянки.
- Но ты же мог…
- А зачем? — Шутов отвернулся. — Так было нужно. И учти — этим занимался не я.
Ещё бы. Повелевать из поднебесных высей, не марая рук.
- Сколько вы не виделись?
- Не поверишь — пятнадцать лет.
* * *
На этот раз прыжок был совсем неуклюжим. Крыса ткнулась в металлическую стенку окровавленной мордочкой, упала и затихла.
Пятнадцать лет назад… Почти день в день она стоит у поросшего барвинком холмика и смотрит на Витькино имя, выбитое на дешевом бетонном памятнике. Когда ей позвонила одноклассница Ленка и сказала, что Шутов разбился и сгорел в своем «мерсе», она не поверила. Но Ленке нельзя было не верить, она работала медсестрой в городском морге Славянки. И она видела то, что осталось от Витьки. Плакала пьяными слезами и описывала в подробностях. Ольга старалась её не слушать.
Она положила гладиолусы у основания памятника и заметила, что бетон уже начал разрушаться, а плита слегка наклонилась. Пройдет ещё лет десять-двадцать, она упадет, и Витькино имя затянет вначале барвинком, а потом землей.
- Спасибо.
Насмешливый голос за спиной заставил её вздрогнуть. Не нужно оборачиваться. Не надо, нельзя! Но придется. Только собрать в кулак нервы и унять бешено колотящееся сердце.
Впрочем, черт с ним, с сердцем.
Ольга резко выпрямилась и оглянулась. За соседним памятником, солидным, из черного камня, стоял Шутов. Щурился, разглядывая её и покосившийся памятник, и гладиолусы. Потом отшвырнул сигарету, подошел и поцеловал ей пальцы.
- Ну здравствуй, Оля, — произнес он и улыбнулся. — Ты совсем не изменилась.
- Какого черта?! — разозлилась Ольга. — Зачем? Зачем тебе это было нужно, Шутов?!
- А лучше бы меня тогда убили? — Витька снова насмешливо прищурился и тени от длинных ресниц легли на небритые щеки. — Нет, даже тогда, пятнадцать лет назад, я психом не был.
- Так это…
Он кивнул и снова посмотрел на памятник. Нет, психом он не был. А вот дураком… В тот день он выпил, довольно много и явно из сомнительной бутылки. Ехал по трассе и чувствовал, что это может плохо кончиться — тошнота подкатывала к горлу, в глазах плыло. И тут какой-то парень на обочине. Голосует. Прав у парня не было, но водить он умел. По крайней мере, сказал, что умеет. Согласился сесть за руль. А когда Шутов отошел за кусты, чтобы избавиться хотя бы от части выворачивающей наизнанку тошноты, «мерс» рванул с места. И почти сразу загорелся и огненным факелом помчался по склону Ржавого яра.
Некоторое время Шутов, отчаянно крича, бежал за ним. А потом понял. Два раза он не внял предостережениям. Первый раз велосипедной цепи, оставившей на теле причудливую вязь кровоподтеков, второй — просвистевшей у плеча пуле. В третий раз слепой случай подарил ему жизнь и придется её спасать.
Тогда он и ушел, пешком. По степи, в нэзалэжну… Бросил все — родных, друзей, наметившихся уже партнеров, две коробки скупленных за копейки и бутылки акций шахт и комбината. Сколько с тех пор он сменил стран и имен, Шутов уже не помнил. Сколько смертельных схваток выдержал, собирая команду и обретая свою тайную, замешанную на крови власть. Сколько жизней забрал, сколько сохранил — ненужная арифметика темной стороны его жизни. Если кто-то и вел счет, то его команда да ещё неразлучный с ним «глок».
- Ты знаешь, кто?
Шутов кивнул. С утра он успел побывать в больнице. И Серега Гуцко, которого врачи на время привели в сознание, ему рассказал. Гуцко даже вспомнил о своем приборе без названия. Потому что эта штука была создана, чтобы убить его, Шутова. И Серега был уверен, что убила.






