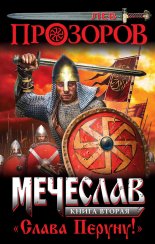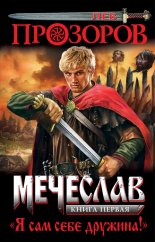Отягощенные злом (сборник) Стругацкие Аркадий и Борис
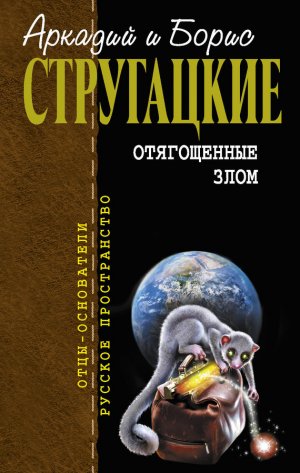
Отягощенные злом, или Сорок лет спустя
Из десяти девять не знают отличия тьмы от света, истины от лжи, чести от бесчестья, свободы от рабства. Такоже не знают и пользы своей.
Трифилий, раскольник{1}
Симон же Петр, имея меч, извлек его, и ударил первосвященнического раба, и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх.
Евангелие от Иоанна{2}
Необходимые пояснения
Две рукописи лежали передо мной, когда я принял окончательное решение писать эту книгу.
Решение мое само по себе никаких объяснений не требует. Сейчас, когда имя Георгия Анатольевича Носова всплыло из небытия, и даже не всплыло, а словно бы взорвалось вдруг, сделавшись в одночасье едва ли не первым в списке носителей идей нашего века; когда вокруг этого имени пошли наворачивать небылицы люди, никогда не говорившие с Учителем и даже никогда не видевшие его; когда некоторые из его учеников принялись суетливо и небескорыстно сооружать некий новейший миф вместо того, чтобы просто рассказать то, что было на самом деле, – сейчас полезность и своевременность моего решения представляются очевидными.
Иное дело – рукописи, составляющие книгу. Они, на мой взгляд, без всякого сомнения требуют определенных пояснений.
Происхождение первой рукописи вполне банально. Это мои заметки, черновики, наброски, кое-какие цитаты, записки, главным образом дневникового характера, для отчет-экзамена по теме «Учитель двадцать первого века». В связи с событиями того страшного лета отчет-экзамен мой так никогда и не был написан и сдан. Конечно, можно только поражаться самонадеянности того восторженного юнца, зеленого выпускника Ташлинского лицея, вообразившего себе, будто он способен вычленить и сформулировать основные принципы работы своего учителя, состыковать их с существующей теорией воспитания и создать таким образом совершенный портрет идеального педагога. Помнится, Георгий Анатольевич отнесся к моему замыслу с определенной долей скептицизма, однако отговаривать меня не стал и, более того, разрешил мне сопровождать его во всех его деловых хождениях, в том числе и за кулисы тогдашней ташлинской жизни.
И самонадеянный юнец ходил за своим учителем, иногда в компании с другими лицеистами (которых учитель отбирал по каким-то одному ему понятным соображениям), иногда же сопровождал учителя один. Он внимательно слушал, запоминал, записывал, делал для себя какие-то выводы, которых я теперь, к сожалению, уже не помню, пламенел какими-то чувствами, которые теперь тоже основательно подзабылись, а вечерами, вернувшись в лицей, с упорством и трудолюбием Нестора заносил на бумагу все, что наиболее поразило его и показалось наиболее важным для будущей работы.
Я основательно отредактировал эти записи. Кое-что мне пришлось расшифровать и переписать заново. Многое там было застенографировано, зашифровано кодом, который я теперь, конечно же, забыл. Некоторые места вообще оказалось невозможно прочесть. Разумеется, я полностью опустил целые страницы, носящие дневниково-интимный характер, страницы, касающиеся других людей и не касающиеся Георгия Анатольевича.
Теперь, когда я закончил книгу и не намерен более изменять в ней хоть слово, мне бывает грустно при мысли, что я, несомненно, засушил и обескровил забавного, трогательного, иногда жалкого юнца, явственно выглядывавшего ранее из-за строчек со своими мучительными возрастными проблемами, со своим гонором, удивительно сочетавшимся у него с робостью, со своими фантасмагорическими планами, великой жертвенностью и простодушным эгоизмом. В процессе работы я все это элиминировал беспощадно, ибо считал – и считал совершенно справедливо, – что незачем мне выпячивать себя в трагедии моего учителя. Все-таки книга эта прежде всего о нем и только потом уже – обо мне.
Это о первой рукописи.
Происхождение второй рукописи загадочно – столь же загадочно, как и ее содержание. Георгий Анатольевич вручил мне ее вскоре после того, как определилась тема моего отчет-экзамена. Он сказал, что эта рукопись может оказаться полезной для моей работы, во всяком случае, она способна вывести меня из плоскости обыденных размышлений. Этих слов его я тогда не понял, не понимаю я их и сейчас. Видимо, не так-то просто вывести меня из плоскости обыденных размышлений.
Помнится, Георгий Анатольевич рассказал мне, что рукопись эта была несколько лет назад обнаружена при сносе старого здания гостиницы-общежития Степной обсерватории, старейшего научного учреждения нашего региона. Рукопись содержалась в старинной картонной папке для бумаг, завернутой в старинный же полиэтиленовый мешок, схваченный наперекрест двумя тонкими черными резинками. Ни имени автора, ни названия на папке не значилось, были только две большие буквы синими чернилами: О и З.
Первое время я думал, что это цифры «ноль» и «три», и только много лет спустя сообразил сопоставить эти буквы с эпиграфом на внутренней стороне клапана папки: «…у гностиков ДЕМИУРГ – творческое начало, производящее материю, отягощенную злом»{4}. И тогда показалось мне, что «ОЗ» – это, скорее всего, аббревиатура: Отягощение Злом или Отягощенные Злом, – так свою рукопись назвал неведомый автор. (С тем же успехом, впрочем, можно допустить и то, что ОЗ – не буквы, а все-таки цифры. Тогда рукопись называется «ноль – три», а это телефон «Скорой помощи», – и странное название вдруг обретает особый и даже зловещий смысл.)
Формально автором следует считать Сергея Корнеевича Манохина, от имени которого и ведется повествование. С. К. Манохин – личность вполне историческая, астроном, доктор физмат-наук, он действительно в конце прошлого века был сотрудником Степной обсерватории, причем довольно долгое время. Более того, понятие «звездных кладбищ», упоминаемое в рукописи, было на самом деле введено им. Он предсказал это редкое и своеобразное явление природы, и, насколько я понял, еще при его жизни оно было обнаружено в наблюдениях. Больше никаких заметных следов в науке он не оставил, во всяком случае, никаких данных подобного рода мне найти не удалось. И уж совсем никаких данных не удалось мне обнаружить о том, что С. К. Манохин когда-либо баловался художественной литературой. Так что вопрос об авторстве «Отягощения Злом» и сейчас остается для меня открытым.
Читатель должен иметь в виду, что в рукописи «ОЗ» элементы гротесковой фантастики затейливо переплетены с совершенно реальными людьми и обстоятельствами. Ни у кого не вызовет сомнения, скажем, что Демиург – фигура совершенно фантастическая (наподобие булгаковского Воланда{5}), но при этом упоминаемый в рукописи Карл Гаврилович Росляков действительно был директором Степной обсерватории, самым первым и самым знаменитым. Что же касается удивительной фигуры Агасфера Лукича, то этого человека я просто видел собственными глазами, причем при обстоятельствах трагических и незабываемых.
Проще всего было бы предположить, что автором рукописи «ОЗ» является сам Георгий Анатольевич. Однако принять это предположение не позволяет мне целый ряд обстоятельств.
Бумага, папка, технология машинописи, орфографические особенности текста – все это совершенно однозначно заставляет датировать рукопись восьмидесятыми годами прошлого века. В крайнем случае – девяностыми годами. То есть получается, что Георгию Анатольевичу, если бы это сочинение писал он, было тогда меньше лет, нежели мне, когда я его читал. Дьявольски маловероятно.
Далее, такая мистификация противоречила бы всему, что я знаю о Георгии Анатольевиче, – никак не укладывается она ни в его характер, ни в его отношение к своим ученикам.
Наконец, само содержание рукописи, выбранный автором герой. Зачем Георгию Анатольевичу понадобилось бы делать своим лирическим героем астронома? Георгий Анатольевич никогда не интересовался естественными науками. Разумеется, он был в курсе новейших представлений физики и той же астрономии, но не более, чем просто культурный, образованный человек. И уж совсем непонятно, зачем ему, при его деликатности, было брать героем астронома, реально существовавшего, да еще работавшего здесь же, в двух шагах от Ташлинска.
Нет, гипотеза эта при всем ее кажущемся правдоподобии не может быть принята за окончательную. А ведь я еще ничего не сказал (и говорить сейчас не намерен) о тех элементах сочинения, которые не объясняются вообще никакими рациональными гипотезами.
Боюсь, все дело в том, что я так и не сумел понять, какую же связь Георгий Анатольевич усматривал между моим отчет-экзаменом и рукописью «ОЗ», на какие именно мысли должна была вывести меня эта рукопись. Вполне допускаю, что, если бы мне удалось нащупать эту связь, если бы удалось мне выйти из плоскости неких представлений, я бы понял больше и в самой рукописи, и в загадке ее происхождения.
Может быть, кто-нибудь из читателей окажется удачливее и, прямо скажем, сообразительнее автора этой книги. Я же в заключение замечу только, что рукопись «ОЗ» помещена мною в книге без каких-либо исправлений и пропусков. Я позволил себе лишь разбить ее на части в примерном соответствии с тем, как сам читал ее в то страшное лето (урывками, по ночам).
Игорь В. Мытарин
Дневник. 10 июля (ночь на 11-е)
Только что вернулся из патруля. Левое ухо распухло, как оладья. А было так.
Мы уже попрощались. Иван с Сережкой пошли своей дорогой, а я – своей. И тут у ворот в Парк космонавтов я вижу, как трое «дикобразов» прижали своими мотоциклами двух парнишек, явных фловеров, к запертым воротам и, очевидно, намереваются учинить над ними какое-то хулиганское действие. Я по всем правилам науки издал воинственный клич матмеха и выступил на защиту Флоры, как будто она уже занесена в Красную книгу. Я и глазом моргнуть не успел, как «дикобразы» накидали мне по ушам. Говоря серьезно, все могло бы кончиться вовсе не забавно, если бы не подоспели Ванька с Серегой, услышавшие беспорядок за два квартала. «Дикобразы» моментально оседлали свою технику и были таковы. Но что характерно! Фловеры, за которых я пролил свою благородную кровь, оказались таковы в тот же миг, когда «дикобразы» обратили свое внимание от них на меня. Дерьмо.
А во время патрулирования мы говорили главным образом о «неедяках». Не помню, кто начал этот разговор и почему. Я рассказал ребятам, откуда появилось это слово – они представления об этом не имели.
(ПОЗДНЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ. Слово «неедяка» придумал и использовал в одном из своих рассказов писатель середины прошлого века Илья Варшавский{6}. У него «неедяки» – всем довольные жители иной планеты, прогресс коей начался только после того, как пришельцы-земляне напустили на них блох.)
Ваня Дроздов относится к нашим «неедякам» чрезвычайно просто. Для него они делятся на два типа. Первый – люмпены, бродяги, тунеядцы вонючие, хламидомонады, Флора сорная, бесполезная. Второй – философы неумытые, доморощенные, блудословы, диогены бочкотарные, неумехи безрукие, безмозглые и бездарные. Один тип другого стоит, и хорошо было бы первых пропереть с глаз долой куда-нибудь на болота (пусть там хоть медицинских пиявок кормят, что ли), а вторым дать в руки лопаты, чтобы рыли судоходный канал от нашей Ташлицы до Арала. Иван, будучи мастером-брынзоделом, чрезвычайно суров к людям, не имеющим профессии и не желающим ее иметь.
Впрочем, бескомпромиссное отношение его к «неедякам» носит характер скорее теоретический. У Сережки невеста из семьи «неедяков», и Иван на весь город объявляет с упреком: «Танькин папан? Что ты мне про него болбочешь? Он же человек! А я про нищедухов тебе!» Тогда я рассказываю ему про дядю друга моего Мишеля. И снова: «Слушай, это же совсем другой обрат! Разве я тебе о таких толкую? У него же талант!»
Смех смехом, а в результате всего этого трепа у меня сформулировалась довольно любопытная классификация нынешних «неедяк».
Класс А. «Элита». Доморощенные философы, неудавшиеся художники, графоманы всех мастей, непризнанные изобретатели и так далее. Инвалиды творческого труда. Упорство, чтобы творить, есть. Таланта, чтобы творить, нет, и на этом они сломались. Между прочим, Мишкин дядя тоже, конечно, элита, но совсем в ином роде. Г. А. называет таких людей резонаторами и утверждает, что они – большая редкость. Некий странный взбрык развития цивилизации. Действительно, поскольку цивилизация порождает такое явление, как поэзия, должны, видимо, возникать индивидуумы, приспособленные ТОЛЬКО к тому, чтобы потреблять эту поэзию. Они не способны производить ни материальные, ни духовные блага, они способны только потреблять духовное и резонировать. И вот это их резонирование оказывается чрезвычайно важным для творца, важнейшим элементом обратной связи для того, кто порождает духовное. (Странно, что дегустаторы чая, вина, кофе, сыра – уважаемые профессионалы, а дегустатор, скажем, живописи – не критик, не искусствовед, не болтун по поводу, а именно природный, интуитивный дегустатор – считается у нас тунеядцем. Впрочем, ничего странного здесь нет.)
Класс Б. Назовем их «воспитатели». Всю свою жизнь и все свое время они посвящают воспитанию своих детей и совершенствованию своей семьи вообще. Они почти не участвуют в процессе общественного производства, они замкнуты на свою ячейку, они отдельны. Это раздражает. В том числе и меня. Однако я понимаю осторожность Г. А., когда он отказывается дать однозначную оценку этому явлению. Рискованный эксперимент, говорит он. Если бы это зависело только от меня, я бы, наверное, не разрешил его, говорит он. А теперь нам остается лишь ждать, что из этого получится, говорит он. Очевидно, что получиться может все, что угодно. Пока известны дети «неедяк-воспитателей» и вполне удачные, и не совсем чтобы очень.
Класс В. «Отшельники». Желающие слиться с природой. Руссо, Торо, все такое. «Жизнь в лесу»{7}. В этих людях нет ничего нового, они всегда были, просто сейчас их стало особенно много. Наверное потому, что туристическое оборудование сделалось дешево и общедоступно, в особенности списанное военно-походное снаряжение. Да и консервы для домашних животных распространились и стоят гроши.
И, наконец, класс Г. Г – оно и есть Г. (Зачеркнуто.) Люмпены. Флора. Полное отсутствие видимых талантов, полное равнодушие ко всему. Лень. Безволие. Максимум социальной энтропии. Дно.
Не знаю, куда отнести «дикобразов» с их мотоциклами и садизмом, а также «птеродактилей» с ихними дельтапланами и садизмом же. Какая-то разновидность технизированной Флоры. Полунеедяки, полууголовники.
Получившаяся классификация, я надеюсь, содержательна. Бурлящий энтузиазмом изобретатель вечного двигателя и полурастительный фловер, который от лени готов ходить под себя, – что общего между ними? Отвечаю: чрезвычайно низкие личные потребности. Уровень потребностей у всех «неедяк» настолько низок, что выводит их всех за пределы цивилизации, ибо они не участвуют во всеобщем процессе культивирования, удовлетворения и изобретения потребностей. Чеканная формулировка. Надо будет рассказать Г. А.
Кстати, нынче утром Г. А. вручил мне довольно солидную, музейного вида папку и сказал, что рекомендует ее мне как некую литературу к моему отчет-экзамену. Сто двадцать четыре нумерованные страницы. На обложке цифры: ноль-три. А может быть, буквы – О и З. Судя по всему, чей-то дневник. Какого-нибудь древлянина. Читать нет ни малейшего желания, но, вручая, Г. А. был настолько многозначителен и настойчив, что читать придется. Буду читать каждый вечер перед сном. Страниц по десять.
Ну какое отношение к моему отчет-экзамену могут иметь такие строки: «Дом этот был сдан строителями под ключ поздней осенью – дожди сделались уже ледяными, а время от времени сыпало и снежной крупкой…»?
Ухо болит. Возьми велосипедную цепь. Туго обмотай изолентой в десять-пятнадцать слоев. Образовавшийся предмет хватай за любой конец, а другим бей. По уху.
«We must find a way… to make indifferent and lazy young people sincerely eager and curious – even with chemical stimulants if there is no better way»{8}.
По сути, это вопль отчаяния. Но как тут не завопить? Ведь, по сути, мы обязаны чуть ли не любой ценой создать человека с заданными свойствами. У Шкловского почти об этом сказано: «…если бы некто захотел создать условия для появления на Руси Пушкина, ему вряд ли пришло бы в голову выписывать дедушку из Африки»{9}.
Рукопись «03» (1–3)
1. Дом этот был сдан строителями под ключ поздней осенью – дожди сделались уже ледяными, а время от времени сыпало и снежной крупкой. Странноват он был и, возможно, даже уникален вычурной своей и неудобоописуемой архитектурой. Был он целиком красного кирпича и тянулся вдоль Балканской улицы более чем на два квартала. Крыша была плоская, словно бы предназначенная для посадки воздушных кораблей будущего, фасад изукрашен провалами и изгибами сложной формы, прямоугольные тоннели висели над высоченными арками, – и для каких же, интересно, целей разрезали фасад узкие, до пятого этажа ниши? Неужто для неимоверно длинных и тощих статуй неких героев или страдальцев прошлого? И зачем понадобилось архитектору воздвигнуть на торцах удивительного дома совершенно крепостные башни, полукруглые и разной высоты?
Леса давно были уже разобраны и увезены, и стекла окон были вымыты и прозрачны, и новенькие двери в подъездах не вызывали никаких нареканий, и чисты были каменные ступени, ведущие к ним, – но все пространство от этих ступеней и до асфальта мостовой представляло собою сплошную грязь вперемешку со строительным мусором. Там можно было увидеть мокрые, частью измочаленные доски со страшными торчащими гвоздями и битые кирпичи, и треснувшие шлакоблоки со ржавой арматурой, и завитые неведомой силою в спирали водопроводные трубы, и забытые всеми секции батарей парового отопления, и какие-то расплющенные ведра, а между одиннадцатым и двенадцатым подъездами пребывал, накренившись, некий гусеничный механизм, и мокрый ветер хлопал его полуоткрытой дверцей.
Дом был сдан под ключ, но жильцов в доме не было и в помине. Пусто было на лестничных пролетах, пусто, темно и тихо, и пахло краской и нежильем, и мертво стыли коробки лифтов, поднятые к самой крыше. Все двери всех подъездов казались плотно и надежно запертыми, да так оно, наверное, и было на самом деле, однако в дом войти было можно. В него входили. И, наверное, выходили тоже. Во всяком случае, на каменных ступеньках тринадцатого подъезда, ведущего в южную торцовую башню, обнаруживались грязные следы. На длинной крашеной ручке парадной двери криминалист без труда обнаружил бы отпечатки пальцев. Пыль на цементном полу вестибюля кое-где свернулась во множественные шарики, как будто некто, войдя с улицы, энергично отряхнул здесь свою промокшую под дождем шляпу.
И кто-то забыл, или бросил за ненадобностью, или потерял в панике ветхий полураскрытый чемоданчик на лестничной площадке четвертого этажа, и высовывалось из чемоданчика вафельное полотенце сомнительной свежести. А на площадке восьмого этажа, в углу, у двери в квартиру номер пятьсот шестнадцать отсвечивали тускло две стреляные гильзы – то ли опять же потерянные здесь кем-то, а скорее всего лежащие там, куда выбросило их отсечкой-отражателем. При этом дверь квартиры пятьсот шестнадцать, как и всех почти квартир этого дома, была плотно заперта и не открывалась с тех пор, как покинул эти места бригадир бригады отделочников. Или, скажем, бригадир бригады сантехников.
Открыта же была в этом доме одна-единственная квартира – почему-то без номера, а если считать по логике расположения, то квартира номер пятьсот двадцать семь, – трехкомнатная, по замыслу, квартира на двенадцатом, последнем, этаже южной торцовой башни.
В одной из комнат этой квартиры окно выходило на проспект Труда. Сама комната была оклеена дешевенькими, без претензий, обоями, торчали из середины потолка скрученные электропровода, паркетный пол, хотя и довольно гладкий, все-таки нуждался в циклевке, а в дальнем от окна углу стоял забытый строителями деревянный топчан, густо заляпанный известкой и масляной краской.
В этой комнате разговаривали. Двое.
Один стоял у окна и смотрел вниз, на грязевые пространства под серым моросящим небом. Он был огромного роста, и была на нем черная хламида, совершенно скрывавшая его телосложение. Нижний край ее свободно располагался на полу, а в плечах она круто задиралась вверх и в стороны наподобие кавказской бурки, но так энергично и круто, с таким сумрачным вызовом, что уже не о бурке думалось, – не бывает на свете таких бурок! – а о мощных крыльях, скрытых под черной материей. Впрочем, никаких крыльев, конечно, там у него не могло быть, да, наверное, и не было, просто такая одежда необычайного и непривычного фасона. И не была эта одежда более странна и непривычна, чем сам ее материал с чудящимися на нем муаровыми тенями: ни единой складки не угадывалось на поразительной хламиде, ни единой морщины, так что казалось временами, будто и не одежда это никакая, а мрачное место в пространстве, где ничего нет, даже света.
А на голове стоящего у окна был, несомненно, парик, белый, может быть, даже пудреный, с короткой, едва до плеч косицей, туго заплетенной черным шнурком.
– Какая тоска! – произнес он словно бы сквозь стиснутые зубы. – Смотришь – и кажется, что все здесь переменилось, а ведь на самом деле – все осталось как и прежде…
Его собеседник отозвался не сразу. Видимо, совсем не боясь испачкаться, он сидел на топчане, скрестив короткие, не достающие до пола ножки, и быстро проглядывал пухлый растрепанный блокнот, то и дело подхватывая и водворяя на место выпадающие странички. Маленький, толстенький, грязноватый человечек неопределенного возраста, в сереньком обтерханном костюмчике: брюки дудочками, спустившиеся носки, тоже серые, и серые же от долгого употребления штиблеты, никогда не знавшие ни щетки, ни гуталина, ни суконки. И серенький скрученный галстук с узлом, как говорят англичане, под правым ухом.
Человечку этому было, наверное, жарко, пухлое лицо его было красно и покрыто мелкими бисеринками пота, влажные белесые волосенки прилипли к черепу, сквозь них просвечивало розовое. Шляпу свою и пальтишко человечек снял, и они неопрятной, насквозь мокрой кучей валялись в уголке вместе с разбухшим обшарпанным портфелем времен первого нэпа. Совершенно обыкновенный человечек, не чета тому, что черной глыбой возвышался перед окном.
– Зато как ВЫ изменились, Гончар! – откликнулся он, наконец. – Положительно, вас невозможно узнать! Да вас и не узнает никто…
Тот, что стоял у окна, хмыкнул. Дрогнула косичка. Колыхнулись крылья черной хламиды.
– Я говорю не об этом, – сказал он. – Вы не понимаете.
Серый человечек словно бы не слышал его. Он все листал да перелистывал свой блокнот. Необыкновенный был этот его блокнот: то один, то другой листочек вдруг озарялся изнутри ясным красным светом, а иногда даже схватывался по краям явственным огненным бордюрчиком, и даже дымок как будто взвивался, а потом фокусы эти мгновенно прекращались, и наступало облегчение, что и на этот раз толстые грязноватые пальцы серого человечка остались целы.
– Вы и не можете понять, – продолжал тот, что стоял у окна. – Все это время вы торчали здесь, и вам здесь все примелькалось… Я же смотрю свежим глазом. И я вижу: какие-то фундаментальные сущности остались неколебимы. Например, им по-прежнему неизвестно, для чего они существуют на свете. Как будто это тайна какая-то за семнадцатью замками!..
– За семью печатями, – поправил серый человечек рассеянно.
– Да. Конечно. За семью печатями… Вот, полюбуйтесь на них: прямиком, через грязь, цепляясь друг за друга, как больные… Да они же пьяны!
– О да, здесь это бывает, – произнес серый человечек, отвлекшись от своего занятия. Он заложил блокнот грязным пальцем и стал смотреть в спину стоявшего у окна, в гладкое черное пространство под косицей. – Последнее время меньше, но все-таки бывает. Вы привыкнете, Гефест, обещаю вам. Не капризничайте. Раньше вы не капризничали!
Тот, что стоял у окна, медленно повернул голову и глянул на серенького собеседника, и собеседник, как всегда, мгновенно вильнул глазами и, подавшись назад, набычился, словно в лицо ему пахнуло раскаленным жаром.
Ибо лик стоявшего у окна был таков, что привыкнуть к нему ни у кого не получалось. Он был аскетически худ, прорезан вдоль щек вертикальными морщинами, словно шрамами по сторонам узкого, как шрам, безгубого рта, искривленного то ли застарелым парезом, то ли жестоким страданием, а может быть, просто глубоким недовольством по поводу общего состояния дел. Еще хуже был цвет этого изможденного лика – зеленоватый, неживой, наводящий, впрочем, на мысль не о тлении, а скорее о яри-медянке, о неопрятных окислах на старой, давно не чищенной бронзе. И нос его, изуродованный какой-то кожной болезнью наподобие волчанки, походил на бракованную бронзовую отливку, кое-как приваренную к лику статуи.
Но всего страшнее были эти глаза под высоким безбровым лбом, огромные и выпуклые, как яблоки, блестящие, черные, испещренные по белкам кровавыми прожилками. Всегда, при всех обстоятельствах горели они одним и тем же выражением – яростного бешеного напора пополам с отвращением. Взгляд этих глаз действовал как жестокий удар, от которого наступает звенящая полуобморочная тишина.
– Это не каприз, – произнес тот, что стоял у окна. – Я и раньше ненавидел пьяных – всех этих пожирателей мухоморов, мака, конопли… Может быть, мне с этого и надо было все тогда начинать, но ведь не хватило бы никакого времени!.. А теперь, я вижу, уже поздно… Вы заметили: вчерашний клиент явился навеселе! Ко мне! Сюда!
– Да им же страшно! – сказал серенький человек с укоризной. – Попытайтесь же понять их, Ткач, они боятся вас!.. Даже я иногда боюсь вас…
– Хорошо, хорошо, мы уже говорили об этом… Все это я уже от вас слышал: человек разумный – это не всегда разумный человек… хомо сапиенс – это возможность думать, но не всегда способность думать… и так далее. Я не занимаюсь самоутешениями и вам не советую… Вот что: пусть у меня будет здесь помощник. Мне нужен помощник. Молодой, образованный, хорошо воспитанный человек. Мне нужен человек, который может встретить клиента, помочь ему одеть пальто…
– Надеть, – произнес серенький человек очень тихо, но стоявший у окна услышал его.
– Что?
– Надо говорить «надеть пальто».
– А я как сказал?
– Вы сказали «одеть».
– А надо?
– А надо – «надеть».
– Не ощущаю разницы, – высокомерно сказал тот, что стоял у окна.
– И тем не менее она существует.
– Хорошо. Тем более. Я же говорю: мне нужен образованный человек, в совершенстве знающий местный диалект.
– Нынешние молодые люди, Кузнец, плохо знают свой язык.
– И тем не менее мне нужен именно молодой человек. Мне будет неудобно командовать стариком, а я намерен именно командовать.
– Здесь никто ничего не делает даром, – намекнул серый человечек с цинической усмешкой. – Ни старики, ни молодые. Ни воспитанные, ни хамы. Ни образованные, ни игнорамусы… Разве что какой-нибудь восторженный пьяница, да и тот будет все время в ожидании, что ему вот-вот поднесут. Из уважения.
– Ну что ж. Никто не заставит его работать даром… Как вы болтливы, однако. Есть у вас кто-нибудь на примете?
– Вам повезло, Хнум. Есть у меня на примете подходящая особь. Сорок лет, кандидат физико-математических наук, воспитан в такой мере, что даже умеет пользоваться ножом и вилкой, почти не пьет. А что же касается жизненного существа его, воображаемого отдельно от тела…
– Увольте! Увольте меня от ваших гешефтов! Скажите лучше, что он просит. Цена!
– Я в этом плохо разбираюсь, Ильмаринен. Гарантирую, впрочем, что просьба его вас позабавит. Другое дело – сумеете ли вы ее выполнить!
– Даже так?
– Именно так.
– И вы полагаете, что это лежит за пределами моих возможностей?
– А вы по-прежнему полагаете, будто можете все на свете?
Черно-кровавое яблоко глянуло на серенького поверх левого крыла, и человечек вновь отпрянул и потупился.
– Укороти свой поганый язык, раб!
Наступила зловещая тишина, и только через несколько долгих секунд неукрощенный серенький человек пробормотал:
– Ну зачем же так высокопарно, мой Птах? Зовите меня просто: Агасфер Лукич.
– Что еще за вздор, – с отвращением произнес стоявший у окна. – При чем здесь Агасфер?..
2. Действительно, при чем здесь Агасфер? Я специально смотрел: того звали Эспера-Диос (что означает «надейся на бога») и еще его звали Ботадеус (что означает «ударивший бога»). Это был какой-то древний склочный еврей, прославившийся в веках тем, что не позволил несчастному Иисусу из Назарета присесть и отдохнуть у своего порога, – у Агасферова порога, я имею в виду. За это бог, весьма щепетильный в вопросах этики, проклял его проклятьем бессмертия, причем в сочетании с проклятьем безостановочного бродяжничества. «Встань и иди!»
Так вот, начнем с того, что Агасфер Лукич никакой не еврей и даже не похож. Внешне он больше всего напоминает артиста Леонова (Евгения) в роли закоренелого холостяка, полностью лишенного женского ухода и пригляда, – в жизни не видел я таких засаленных пиджаков и таких заношенных сорочек. Далее, Агасфер Лукич, конечно, дьявольски непоседлив и подвижен (на то он и страховой агент, волка ноги кормят), однако спит он как все нормальные люди (плюс еще часок после обеда), и никакие мистические голоса не командуют ему, едва он заведет глаза: «Встань и иди!»
Я познакомился с ним в конце лета, когда, вернувшись с того злосчастного симпозиума в Ленинграде, обнаружил, что в номер ко мне подселили за время моего отсутствия некоего деятеля, совершенно постороннего и к обсерватории отношения не имеющего. Негодование мое, наложившееся на все те неприятности, которые я услышал в Ленинграде, выбило меня из обычной колеи до такой степени, что я унизился до скандала. Я накричал на дежурную, ни в чем, разумеется, не повинную. Я сцепился по телефону с Суслопариным, обвинил его в коррупции и швырнул на полуслове трубку. Я бы и Карла моего Гаврилыча не пощадил, конечно, уж я бы объяснил ему, что быть директором обсерватории означает в первую очередь обеспечивать комфортные условия жизни для наблюдателей, – да, по счастью, оказался он в то время в Москве, в Академии наук. Я со стыдом вспоминаю сейчас тогдашнее свое поведение. Но уж очень это достало меня тогда: вхожу в номер – в свой, законный, раз и навсегда за мною закрепленный, – и вижу на столе своем чьи-то безобразного вида носки, небрежно брошенные поверх моей рукописи…
Впрочем, как это часто случается в жизни, все оказалось вовсе не так уж страшно и беспросветно.
Агасфер Лукич проявил себя как человек чрезвычайно легкий и приятный в общении. Он был абсолютно безобиден, он ни на что не претендовал и со всем был согласен. Он тут же постирал свои носки. Он тут же угостил меня красной икрой из баночки. Он знал неимоверное количество безукоризненно свежих и притом смешных анекдотов. Его истории из жизни никогда не оказывались скучными. И он умудрялся совсем не занимать места. Он был – и в то же время как будто и отсутствовал, он появлялся в поле моего внимания только тогда, когда я был не прочь его заметить. Он был на подхвате, так бы я выразился. Он всегда был на подхвате.
Но при всем при том было в нем кое-что, мягко выражаясь, загадочное. Он-то сам очень стремился не оставлять по себе впечатления загадочного, и, как правило, это ему превосходно удавалось: комический серенький человечек, отменно обходительный и совершенно безобидный. Но нет-нет, а мелькало вдруг в нем или рядом с ним что-то неуловимо странное, настораживающее что-то, загадочное и даже, черт побери, пугающее. Например, эта поразительная его записная книжка… или манера класть на ночь свое искусственное ухо в какой-то алхимический сосуд… или другая манера – бормотать что-то неразборчивое в отключенный телефон… но это ладно, это потом. И я уже не говорю про портфель его!
Первое, что удивляло, это – за какие такие невероятные заслуги ничтожного страхового агента подселяют ко мне, к без пяти минут доктору, к человеку, прославившему эту обсерваторию… Да разве в науке здесь дело, – что нашему Суслопарину до науки? Ко мне, к личному другу директора, – подселяют серенького страх-агента! Милостивые государи мои! Наш заместитель по общим вопросам товарищ Суслопарин К. И. никогда и ничего не делает зря и ничего и никому не делает даром. Видимо, какую-то огромную, мало кому известную пользу можно, оказывается, извлечь из системы государственного страхования, и мы с вами, простые смертные, чего-то здесь недопонимаем, и недополучаем мы чего-то весьма значительного, опрометчиво проходя мимо заглядывающего нам в глаза скромного человека, жаждущего всучить нам договор из трех рублей в год… Загадка эта была сформулирована мною в первый же день знакомства с Агасфером Лукичом, но при прочих моих заботах и неприятностях того времени оставила меня в общем и целом равнодушным. Какое, в конце концов, мне дело до хитрых махинаций товарища Суслопарина?
Удивляло, конечно, почему он Агасфер. Хотелось все время спросить: при чем тут Агасфер? Что это за Лука такой нашелся, что назвал родного сына Агасфером? (Или, может, не родного все-таки? Тогда не так жалко, но все равно непонятно…) Да ведь не станешь же спрашивать малознакомого человека, откуда у него такое имя, а на облический вопрос о родителях Агасфер Лукич ответил мне: «О, мои родители – они были так давно…» – и тут же перевел разговор на другую тему.
Удивляла популярность Агасфера Лукича в Ташлинске. Когда я уезжал в Ленинград, никто здесь о нем и слыхом не слыхивал, а теперь, спустя всего две недели, не было, казалось, ни одного человека ни в обсерватории, ни даже в городе, чтобы в Агасфере Лукиче не был заинтересован. Даже совсем незнакомые мне люди останавливали меня на улице (в магазине, на терренкуре, на автобусной остановке), чтобы справиться, как идут дела у Агасфера Лукича, и передать ему самые благие пожелания. Хуже того: после вороватых озираний по сторонам сообщалось что-нибудь вроде того, что договор-де можно бы и подписать, но только сумму страховки неплохо бы было удвоить. И странное дело! Когда я об этом Агасферу Лукичу сообщал, он всегда мгновенно понимал, о ком именно идет речь, словно заранее ждал эти приветы и эти предложения, и тут же из недр затерханного пиджачка появлялась знаменитая его записная книжка, и вываливающиеся страницы принимались порхать в его пальцах с такой скоростью, что казалось, будто они вот-вот загорятся от трения о воздух. И загорались ведь, я видел это собственными глазами, и не раз: загорались, горели и не сгорали…
Воистину, Агасфер Лукич, говорил я ему с опаской, воистину страховое дело в наши дни требует от своих адептов способностей вполне необычайных. На что он обычно отвечал мне со странным своим смешком: «А как же, батенька. Конкуренция! Нынешний страховой агент – это, знаете ли, человек высоко и широко образованный, это, батенька, дипломированный инженер или кандидат наук! Изощренность потребна, батенька, одной науки мало, надобно еще и искусство, а иначе того и гляди перехватят клиента, чихнуть со вкусом не успеешь!»
Наукой здесь и не пахло. Пахло мистикой. Преисподней здесь пахло, государи мои! Эта мысль приходила на ум всякому, кто хоть раз видел в действии портфель Агасфера Лукича. Портфель этот был таков, что с первого взгляда не производил какого-нибудь особенного впечатления: очень большой, очень старый портфель, битком набитый папками и какими-то бланками. Обычно он мирно стоял где-нибудь под рукой своего владельца и вел себя вполне добропорядочно, но только до тех пор, пока Агасферу Лукичу не подступала надобность что-нибудь в него поместить. То есть, когда Агасфер Лукич что-нибудь из этого портфеля доставал, портфель реагировал на это, как любой другой битком набитый портфель: он сыто изрыгал из недр своих лишние папки, рассыпал какие-то конверты, исписанные листы бумаги, какие-то диаграммы и графики, подсовывал в шарящую руку ненужное и прятал искомое. Однако же когда портфель открывали, чтобы втиснуть в него что-нибудь еще (будь то деловая бумага или целлофановый пакет с завтраком), вот тут можно было ожидать чего угодно: фонтанчика ледяной воды, клубов вонючего дыма, языка пламени какого-нибудь и даже небольшой молнии с громом. По моим наблюдениям, Агасфер Лукич и сам несколько остерегался своего портфеля в такие минуты.
Это о портфеле.
А теперь о телефоне. Агасферу Лукичу звонили довольно часто, и тогда он брал трубку, выслушивал и отвечал что-нибудь краткое, например, «Согласен» или, наоборот, «Не пойдет», а иногда даже просто «Угу», и сразу клал трубку, а если ловил при этом мой взгляд, то немедленно прижимал к груди короткопалую грязноватую лапку и безмолвно приносил извинения.
По своему же почину он прибегал к телефону редко, и выглядели такие его акции дешевым аттракциончиком. Извинительно улыбаясь, он выдергивал телефонную вилку из розетки, уносил освободившийся аппарат в свой угол и там, снявши трубку и отгораживаясь от меня плечом, принимался дудеть в нее что-то малоразборчивое, так что я схватывал только отдельные слова, иностранные какие-то слова, а может, и не просто слова, а имена собственные, очень меня в те времена интриговавшие. Откровенно говоря, все это было не столько даже странно, сколько смешно. Меня разбирало, я хохотал, несмотря на владевшее мною тогда дурное настроение. Я полагал, что он меня таким образом развлекает, этот серенький потешный клоун, но однажды я случайно проснулся в необычную для меня рань и стал свидетелем того, как он разыгрывает эту свою телефонную пантомиму, полагая меня спящим. И оказалось тогда, что ничего смешного во всем этом нет. Страшно это было, до обморока страшно, а вовсе не смешно…
Я сижу сейчас на заляпанном известкой топчане в пустой комнате, оклеенной дешевенькими обоями, совершенно один, жду и трусливо посматриваю на дверь в Кабинет, и дверь эта, как всегда, распахнута настежь, а за нею, как всегда, космический мрак, и, как всегда, неохотно разгораются там и сразу же гаснут белесые огни.
Я пишу все это, потому что не знаю иного способа передать свое знание еще хоть кому-нибудь, пишу плохо, «темно и вяло»{10}, пишу сумбурно, ибо многое спуталось в моей бедной памяти, пораженной увиденным. Я раздавлен, унижен, растерян и потерян.
У нас есть чувство глубокого удовлетворения, есть чувство законного негодования, а вот с чувством собственного достоинства у нас давно уже напряженка. Поэтому, когда наш немудрящий опыт и наша многоопытная мудрость, столь же глубокая, как глубокая тарелка для супа, сталкиваются даже не с жутковатым Агасфером Лукичом или с его вполне жутким партнером (хозяином? творцом?), а просто хотя бы и с отпетым хамом или образцово-показательным подлецом, – мы, как правило, теряемся. Нам бы опереться тут на чувство собственного достоинства, раз уж недостает мудрости или хотя бы жизненного опыта, но собственного достоинства у нас нет, и мы становимся циничными, небрежными и грубо-ироничными. Так что пусть никто не удивляется тому ерническому тону, в котором пишу я обо всех этих моих обстоятельствах. Ничего забавного и занимательного в них нет. На самом деле мне страшно. И всегда было страшно. Я уж не помню, с какого момента. По-моему, с самого начала…
3. Приемная наша более всего напоминает мебельный склад. Югославский гарнитур «Архитектор» из тридцати семи предметов чудом втиснут на площадь в 18,58 квадратных метров. Здесь есть два трельяжа, чудовищная, невообразимая, необозримая кровать, на которой лежат двенадцать полумягких стульев, а могло бы валяться двенадцать десантников со своими девками. Имеют место и какие-то застекленные шкафы неизвестного назначения, и микроскопическая книжная стенка, уставленная муляжами книг, выполненными весьма реалистично. (Помнится, увидевши впервые золотыми буквами на корешках: Р. Киплинг, Петроний Арбитр, Эдгар Райс Берроуз, – я среагировал мгновенно и непроизвольно: «Все! Это я сопру, и будь что будет!» И каково же было разочарование мое, когда, выдернув вожделенный томик, обнаружил я в руках своих пустую картонную обложку, и вынырнувший у меня из-под локтя Агасфер Лукич произнес сочувственно: «Декорация, Сережа. Всего лишь декорация». Впрочем, со временем обнаружились у нас в квартире и настоящие книги, множество книг. Однако все это были словари да энциклопедии, только словари, справочники, руководства и энциклопедии: «Словарь атеиста», «Техническая энциклопедия», «Медицинский справочник для фельдшеров», «Краткий словарь по эстетике», «Мифологический словарь», «Дипломатический церемониал и протокол», «Справочник по экспертизе филателистических материалов», «Словарь ветров»… Видимо, подразумевалось, что я должен стать эрудитом. И я попытался им стать. Без особого, впрочем, успеха.)
Есть в Приемной два кресла лоснящейся коричневой кожи, одно для посетителей, а другое – непонятно для кого, ибо из самой середины его сиденья совершенно открыто и нагло торчит длинный стальной шип сантиметров двадцати, да такой острый, что озноб пробирает по коже за того беднягу, которому предназначено устроиться на нем.
Кроме этого шипа, есть в Приемной и другие предметы, не входящие в югославский гарнитур. Очень большие и разношенные полосатые тапочки выглядывают из-под кровати. В самом дальнем углу, куда я так до сих пор и не сумел добраться, торчком стоят толстые рулоны – то ли географических карт, то ли линолеума, то ли ковров, а быть может, и просто бумаги. Рядом с рулонами, загораживая половину окна, висит картина на античный сюжет: Сусанна и сладострастные старцы{11}. Старцы там как старцы, и Сусанна, в общем-то, как Сусанна, но почему-то с большим пенисом, изображенным во всех анатомических подробностях. Рядом с этими подробностями морщинистые физиономии и масленые глазки старцев, и даже их рдеющие плеши приобретают совершенно особенное, не поддающееся описанию выражение.
И великое множество телевизоров. Число их и модели все время кем-то меняются, но никогда их не бывает меньше четырех. Включать и выключать их я не умею, они включаются и выключаются сами собой. И сами собой они наводятся на резкость, и сами собой устанавливают контрастность, и сами выбирают себе программу, и, надо сказать, странноватые, как правило, оказываются у них программы. Помню, однажды вдруг пошла передача из прозекторской. Точнее, художественный фильм из жизни патологоанатомов. Изумительное изображение, пиршество красок, показалось, даже запахами потянуло. Клиента, застигнутого этой передачей, мне пришлось спешно выволакивать в санузел, и все-таки он заблевал мне часть Приемной и весь коридор. (Помнится, он был начфином Н-ского стройбата и пришел выпрашивать для нашего советского рубля статуса свободно конвертируемой валюты.) Или, помнится, однажды «Джейвиси» битых полтора часа передавал в черно-белом варианте практические уроки, как восстанавливать и затачивать иголки для примуса. Это надо же, оказывается, и такие иголки еще существуют…
Телефоны. Их всегда три. Один стоит на моем столике – роскошный, с кнопочным управлением, с запоминающим устройством на двести пятьдесят шесть номеров, с маленьким встроенным экраном и с дисководом для гибких дисков. Он не работает. Второй телефон присобачен к филенке двери позади моего рабочего места. Это обыкновенный таксофон, можно бросить монетку и позвонить родным и близким, у кого они есть. Можно не звонить. Иногда он разражается отвратительными квакающими звуками. Я снимаю трубку, и Демиург говорит мне что-нибудь, не предназначенное для ушей клиента. Как правило, это распоряжения из ресторанно-отельного репертуара. «Такому-то на обед полпорции селянки, да погорячее». Или: «Постельное белье в номерах опять сырое. Проследите». Или даже: «Сергей Корнеевич, не в службу, а в дружбу. Башка трещит, сил нет. У вас там, кажется, был пенталгин…» Тогда я извиняюсь перед клиентом и бегу отрабатывать свой хлеб. Смысла или хотя бы простой логики во всем этом я уже давно не ищу… Что же касается третьего телефона, то это золотой предмет в стиле ретро, в сумраке он светится, и толку от него никакого, потому что стоит он на шкафу, перед которым расположено трюмо, перед которым, в свою очередь, стоят друг на друге две полированные тумбочки для постельного белья. Иногда этот золоченый мегатерий{12} звонит. Звон у него нежный, мелодичный, он радует слух. Так что толку от него все же больше, чем от Сусанны.
Каждое утро я ползаю, карабкаюсь, протискиваюсь среди всего этого добра с пылесосом. Пылесос у нас замечательный. Собранную пыль он прессует в брикеты. Брикеты я сдаю под расписку Агасферу Лукичу, он составляет акт о списании и бросает эти брикеты в свой портфель. Расписку и акт я обязан вручать лично Демиургу. Совершенно не могу понять, откуда в Приемной набирается столько пыли. Ей-богу, каждые сутки граммов на двести брикетов…
Особенная пылища собирается почему-то в платяном шкафу. Есть в Приемной такой, вполне доступный, и в нем полно одежды. На все возрасты и на все вкусы. Там можно найти мужской костюм-тройку, совершенно новый, ни разу не надеванный. А рядом будет висеть мятый плащ-болонья с рукавом, испачканным уличной засохшей грязью, и в кармане плаща найдется смятая пачка «Примы» с единственной, да и то лопнувшей сигаретой. В шкафу можно обнаружить и школьную форменную курточку с заштопанными локтями, и великолепное мохнатое пальто с плеча какого-то современного барина, и полный кожаный женский костюм с отпечатками решетчатой садовой скамейки на заду и на спине, и целый кочан разноцветных мужских сорочек, нацепленных на одну распялку… А внизу, в слое старой и новой разрозненной обуви, я нашел вчера табель ученика пятого «А» класса 328-й школы Манохина Сергея с оценками за первую четверть 1958 года, с двойкой по истории и с двумя тройками – по рисованию и по физкультуре…
4. Вечером первого, как сейчас помню, августа (дело было еще в Ташлинске) меня остановил на терренкуре наш шофер Гриня. Отведя меня в сторонку, он…
Дневник. 12 июля
…Это примерно в пятнадцати километрах от города.
На десятом километре северо-восточного шоссе надо свернуть налево на грунтовую дорогу. Дорога петляет между холмами и все время идет почти параллельно Ташлице, которая протекает здесь между высокими обрывистыми берегами белой и красной глины. Холмы округлые, выгоревшие, покрыты короткой жесткой колючей травкой. Пыль за машиной поднимается до самого неба. Километра через два после поворота слева от дороги открывается вид на древний скотомогильник. Огромная страшная гора лошадиных, бараньих, коровьих черепов, хребтов, лопаток, ребер, кости эти белые, как пыль, глазницы черные. Впечатляет. Г. А. говорит, что этому скотомогильнику лет сто, а может быть, и двести.
От скотомогильника по спидометру ровно три километра – и попадаешь в райский уголок. Это распадок между холмами, большие деревья, тень, прохлада, мягкая зеленая трава, кое-где выше пояса. Ташлица делает здесь излучину и разливается, образуя заводь. Гладкая черная вода, листья кувшинок, заросли камыша, синие стрекозы. Парадиз. Потерянный и возвращенный рай{13}.
Впрочем, вид стойбища Флоры основательно портит это впечатление. Похоже, они раздобыли где-то оболочку старого аэростата и набросили ее на верхушки молодых деревьев и высокого кустарника, так что получилось нечто вроде огромного неряшливого шатра неопределенного грязного цвета с потеками. Видимо, под этим шатром они всей толпой спасаются от дождей. Трава вокруг вытоптана и стала желтая. Неописуемое количество мятых бумажек, оберток, рваных полиэтиленовых пакетов, окурков и пустых консервных банок и бутылок. Запахи. Мухи. Множество черных выгорелых пятен – кострища. Тошнит на это глядеть, честное слово.
Между кустами натянуты веревки. На веревках сушится тряпье: майки, юбки, пятнистые комбинезоны, подозрительные какие-то подштанники… На других веревках вялится рыба. Оказывается, в Ташлице довольно много рыбы, кто бы мог подумать! Несколько костров дымится, булькают закопченные котелки над огнем. Сорок тысяч лет до новой эры. А в отдалении, сцепившись рогами, теснится целое стадо мотоциклов.
Фловеры нашим прибытием заинтересовались, но пассивно. Кто сидел – остался сидеть, кто лежал – остался лежать, а прямостоящих или прямоходящих я не заметил там ни одного. Множество лиц повернулось в нашу сторону, множество рук поднялось, но не для приветствия, а чтобы прикрыть глаза от низкого солнца. Судя по движениям губ, последовал множественный обмен неслышными репликами. И только.
Павианий вольер, вот на что это было похоже больше всего. Было их там сотни две особей. Г. А. рассказывал, что они собираются сюда каждое лето со всего Союза, живут недели по две и перебредают в другие регионы, а на их место прибредают новые. Однако процентов десять составляют наши, местные, ташлинские. Главным образом школьники. Я искал знакомые лица, но не обнаружил ни одного.
Г. А. достал из багажника кошелку и направился наискосок через стойбище к самому населенному костру, расположенному в десятке метров от берега. Вокруг костра этого сидело человек пятнадцать, и, когда мы приблизились, народ раздвинулся и освободил нам место, всем троим. Г. А., усевшись, пробормотал: «Принимайте в компанию», – и принялся извлекать из кошелки продукты. Он неторопливо вынимал пакет за пакетом – крупу, консервные банки, леденцы, макароны, твердую колбасу – и, не глядя, передавал девице, сидевшей справа от него. Она брала, говорила: «Спасибо…» – и передавала дальше по кругу. Фловеры оживились, зашевелились. Огромный парень, сплошь заросший (от макушки до пупка) черным курчавым волосом, в десантном комбинезоне, спущенном до пояса, принявши очередной пакет, надорвал его, заглянул внутрь и высыпал содержимое – мелкую вермишель – в кипящий котелок. Фловеры шевелились, усаживались поудобнее, я ловил на себе одобрительные взгляды. Вокруг произносились слова, которые я большей частью не понимал. Это был какой-то совершенно незнакомый жаргон, ужасная смесь исковерканных русских, английских, немецких, японских слов, произносимых со странной интонацией, напомнившей мне китайскую речь, – какое-то слабое взвизгивание в конце каждой фразы. Я несколько раз повторил про себя: «Каждый человек – человек, пока он поступками своими не доказал обратного», – и посмотрел на Микаэля. У Микаэля моего был такой вид, будто его вот-вот вытошнит – прямо на спину Г. А. Я понял, почему Г. А. взял с собой именно его. Он брезглив, наш Майкл, а ведь он не имеет права быть брезгливым. Любовь и брезгливость несовместны.
Г. А. посоветовал покрошить в котелок колбасы. Наголо стриженная девица (с грязноватым лицом и гигантским боа из кувшинок на голых плечах) послушно принялась крошить колбасу. Г. А. не посоветовал сыпать в котелок консервированные креветки, и банка креветок была отставлена. Поварская ложка была уже в руке у Г. А., он ворочал ею в котелке, зачерпывал, пробовал, подувши через губу, и все смотрели теперь на него и ждали его решений. Он сказал: «Соль», – и за солью сейчас же побежали. Он сказал: «Перец», – но перца во Флоре не оказалось.
Я честно наблюдал их, стараясь сформулировать для себя: что они такое? (Я не чувствовал себя учителем, я чувствовал себя этнографом, в крайнем случае, врачом.) Парни были как парни, девчонки – как девчонки. Да, некоторые из них были неумыты. Некоторые были грязны до неприятности. Но таких было немного. А в большинстве своем я видел молодые славные лица – никакой патологии, никаких чирьев, трахом и прочей парши, о которых столько толкуют флороненавистники, и, конечно же, все они разные, как и должно быть. И все-таки что-то общее есть у них. То ли в выражении лиц (очень бедная мимика, если приглядеться), то ли в выражении всего тела, если можно так говорить. Расслабленность движений почти нарочитая. Никто не положит предмет на землю – обязательно уронит, вяло разжавши пальцы. И не на то место, с которого взял, а на то место, которое поближе, словно сил уже не осталось протянуть руку…
И еще – непредсказуемость поступков. Я не взялся бы предсказывать их поступки, даже простейшие. Вот сидел-сидел, перекосившись набок, пришла пора хлебать из котелка, а он вдруг встал и лениво удалился – на другой конец стойбища – и там сел у другого костра. А на его место явился новый – длинный и тощий, как шест, в десантном комбинезоне, на широком ремне – фляга, на ногах – эти их знаменитые «корневища», огромные пуховые лапти, выкрашенные в зеленое. Пришел, уселся, отцепил флягу, полил свои корневища водицей и объявил, ни к кому не обращаясь: «Здесь врастаю». И стал, прищурясь, смотреть на Г. А.
Было ему лет двадцать пять, был он гладко выбрит и подстрижен вполне обыкновенно, в расстегнутом вороте комбинезона висела на безволосой груди какая-то эмблемка на цепочке. Живые ореховые глаза, большой рот уголками вверх и отличные белые зубы. Сразу было видно – это ихний предводитель. Нуси. И ни в одном ухе не было у него этих чертовых музыкальных заглушек, функов, из-за которых они выглядят такими сонными и как бы не от мира сего. Этот был вполне от мира сего, невзирая на свой комбинезон, корневища и прочие вытребеньки. И он явно знал Г. А. (Есть у меня подозрение, что и Г. А. его знает. Где-то они уже встречались и не слишком любят друг друга. Однако это все чистая интуиция. Мойша считает, что я все это выдумал.)
Тут почти голая девица, сидевшая слева от меня, тоненько рыгнула, отдулась, облизала ложку и произнесла с удовлетворением:
– Побеги – дасьта.
(Мишель объяснил мне потом, что это значит. Это – по-русско-японски – «дать побеги». В прежние времена она сказала бы «словила кайф», а теперь вот – «дала побеги». Флора!)
Наевшись, они завозились, устраиваясь на переваривание. Кто-то закурил. Кто-то принялся шумно жевать бетель, пуская оранжевые слюни. Кто-то захрустел леденцами. Начался зеленый шум{14}. Конечно, я не понимал и половины того, что говорилось, но, по-моему, там и понимать особенно было нечего. Один вдруг заявляет: «Щекотно. Червяки по корням ползают». Другой тут же откликается: «Личинки совсем заели. Дятлов на них нет. И ведь не почешешься». Третий вступает: «Влаги мало. Сухо мне, кусты. Влаги бы мне побольше». И так далее без конца. И видно, что им это очень нравится. Всем без исключения. На лицах блаженные улыбки, и даже глаза блестят.
Потом вдруг поднялся один парень в пестрых плавках и в полосатой распашоночке, отошел на несколько шагов в сторону, выбрал площадку поровнее и принялся выламываться в медленном, почти ритуальном танце. Надо понимать, он плясал под свой функен, так что музыку слышал он один, а мы видели только ритм этой музыки. И нам это нравилось, и пока он танцевал, зеленый шум притих, все смотрели на танцора, а когда он устал, остановился, сел и лег, все как бы перевели дух, и моя соседка слева снова произнесла: «Побеги – дасьта».
Тем временем начало смеркаться, и луна объявилась над деревьями. Объявились комары. Над заводью возник туман и стал распространяться на прибрежные кусты. Вдруг взревели двигатели, вспыхнули фары, грянула в полную мощь огромная музыка, и дюжина всадников на мотоциклах умчалась прочь – перевалила через вершину ближнего холма, и снова стало тихо.
Какой-то парнишка по ту сторону костра (видимо, новичок, почти не знающий жаргона) принялся рассказывать про суд, который прошел вчера в городе. Трое гомозяг из спецтеха, которые целый год спокойно курочили автомашины и приторговывали запчастями, получили по году принудработ, поскольку руки у них золотые и все сверху донизу характеризуют их положительно. А фловера – Костик из Хабаровска, рыженький такой, без переднего зуба – засадили на месяц клозеты мыть задаром на «тридцатке», на мясокомбинате, за то, что да батона стяжал в булочной, когда фургон разгружал.
Флора помолчала, усваивая информацию. Кто-то пробормотал: «Круто здесь у них». Пошли вопросы. Как фамилия судьи, сколько заседателей? Почему не шесть? Как зовут? Кто возбудил дело? Парнишка почти ничего не знал. Он не знал даже, что в суде бывает адвокат. «Тихий ты, куст», – упрекнули его и оставили в покое.
Кто-то стал рассказывать про суд в Челябинске, но это уже был сплошной жаргон, я не понял даже, хороший там в Челябинске был суд или плохой. За что и кого судили, я тоже не понял. «Не суди, и не судим будешь», – почти пропел в сумраке женский голос. Слова эти прозвучали пронзительной, отчетливой, высшей правдой после шумовой неубедительности жаргона.
И тут заговорил нуси.
Это была проповедь. На прекрасном литературном языке. Если он и переходил на жаргон, то лишь для того, чтобы особо подчеркнуть, растолковать самым непонятливым какую-нибудь важную для него формулировку.
Он говорил о Флоре. Он говорил об особенном мире, где никто никому не мешает, где мир, в смысле Вселенная, сливается с миром, в смысле покоя и дружбы. Где нет принуждения, и никто ничем никому не обязан. Где никто никогда ни в чем не обвиняет. И поэтому счастлив, счастлив счастьем покоя.
Ты приходишь в этот мир, и мир обнимает тебя. Он обнимает тебя и принимает тебя таким, какой ты есть. Если у тебя болит, Флора отберет у тебя эту боль. Если ты счастлив, Флора с благодарностью примет от тебя твое счастье. Что бы ни случилось с тобой, что бы ты ни натворил, Флора верит и знает, что ты прав. Флора никому не навязывает свое мнение, а ты свободен высказаться о чем угодно и когда угодно, и Флора выслушает тебя со вниманием. За пределами Флоры ты дичь среди охотников, здесь же ты ветвь дерева, лист куста, лепесток цветка, часть целого.
Он говорил о законах Флоры. Флора знает только один закон: не мешай. Однако, если ты хочешь быть счастливым по-настоящему, тебе надлежит следовать некоторым советам, добрым и мудрым. Никогда не желай многого. Все, что тебе на самом деле надо, подарит тебе Флора, остальное – лишнее. Чем большего ты хочешь, тем больше ты мешаешь другим, а значит, Флоре, а значит, себе. Говори только то, что думаешь. Делай только то, что хочешь делать. Единственное ограничение: не мешай. Если тебе не хочется говорить, молчи. Если не хочется делать, не делай ничего.
Пила сильнее, но прав всегда ствол.
Ты нашел бумажник? Берегись! Ты в большой опасности.
Хотеть можно только то, что тебе хотят дать.
Ты можешь взять. Но только то, что не нужно другим.
Всегда помни: мир прекрасен. Мир был прекрасен и будет прекрасен. Только не надо мешать ему.
(Г. А. сказал потом по этому поводу: «Стань тенью для зла, бедный сын Тумы, и страшный Ча не поймает тебя»{15}. – И спросил: «Откуда?»)
В самый разгар проповеди странные звуки привлекли мое внимание. Я вгляделся сквозь дым и обмер. Тот самый бородатый-волосатый (обволошенный) принялся овладевать своей бритой соседкой.
Мне сделалось невыносимо стыдно. Я опустил глаза и не мог больше поднять их. Особенно мучительно было сознавать, что все это видят и Мишка, и Г. А. За фловеров мне тоже было стыдно, но их-то как раз все это совсем не шокировало. Я видел, как некоторые поглядывали на совокупляющуюся пару с любопытством и даже с одобрением.
«Внезапно из-за кустов раздалось странное стаккато, звук, который я до сих пор не слышал, ряд громких, отрывистых О-О-О; первый звук О был подчеркнутый, с ударением и отделен от последующих отчетливой паузой. Звук повторялся вновь и вновь, и через две или три минуты я понял, что было его причиной. Ди Джи спаривался с самкой»{16}.
Вопрос: откуда? Ответ: Джордж Б. Шаллер «Год под знаком гориллы».
Рукопись «03» (4)
4. Вечером первого, как сейчас помню, августа (дело было еще в Ташлинске) меня остановил на терренкуре наш шофер Гриня. Отведя меня в сторонку, он с небрежностью, показавшейся мне несколько нарочитой, спросил:
– Как там у вас сейчас насчет субстанции?
– Где это – у нас? – осведомился я, пребывая в настроении злобно-ироническом.
– Ну, в Ленинграде, в Москве…
– Да как везде, – сказал я, продолжая оставаться в том же настроении. – Семнадцать тридцать пять. А повезет – так десять с маленьким.
– Ну да, ну да… – промямлил Гриня неопределенно. – Ну, а если, скажем, она особая?
– «Особая»?.. Да ее, по-моему, давно уж не выпускают.
– Да нет, я не про эту «Особую» тебя… – сказал Гриня нетерпеливо. – Я тебя спрашиваю: особая субстанция – как? Нематериальная, независимая от моего тела!
Я пригляделся к нему, но ничего такого не заметил. Вообще-то, Гриня, по моим наблюдениям, был человек непьющий и вполне положительный. Хозяин. Лучший садовый участок при обсерватории. С домиком. Все своими руками. Старый «Москвич» собрал себе своими руками… Он правильно оценил мой взгляд и несколько смутился.
– Да нет, это я так… – проговорил он уклончиво и вдруг принялся рассказывать, как заезжие гастролеры в прошлом году обманули мать его, старуху, выклянчивши у нее за пятерку дедовскую икону, коей цены нет и за которую любой музей отдал бы, не глядя, два стольника, самое малое.
Я слушал его с недоумением, а он вдруг, оборвав свой рассказ, предложил мне зайти к нему в «домишко» через два часа, чтобы «посвидетельствовать». Он, оказывается, хочет некую сделку совершить, и нужно ему, чтобы при том присутствовал надежный человек.
Не могу сказать, чтобы предложение это пришлось мне по вкусу, однако и отказаться я тоже не мог. Нас с Гриней связывают давние приятельские отношения, еще с начала шестидесятых, когда я был начальником, а он шофером экспедиции, занимавшейся в Туркестане поисками места для установки Большого Телескопа. Гриня мне многим был обязан, да и я ему кое-чем обязан был, ибо оба мы были грешны в молодости, Гриня – побольше, я – поменьше, но оба.
И вот спустя два часа, то есть поздним уже вечером, оказался я в Гринином «домишке», что прятался в зарослях каких-то экзотических кустов на его садовом участке. Снаружи стояла глубокая южная тьма, кричали цикады, пахло пряностями и цветами, а внутри под лампой с розовым абажуром за столом, покрытым старенькой, но чисто выстиранной скатертью, некогда роскошной, сидели мы втроем: Гриня (Григорий Григорьевич Быкин, водитель первого класса), я (Сергей Корнеевич Манохин, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник) и Агасфер Лукич (Агасфер Лукич Прудков, агент Госстраха).
ГРИНЯ: осведомляется у Агасфера Лукича, не возражает ли тот против присутствия здесь вот этого вот свидетеля.
АГАСФЕР ЛУКИЧ: не только не возражает, но всячески приветствует, ибо знает, ценит и полностью доверяет.
ГРИНЯ: предлагает прямо приступить к делу, потому что мало ли что.
АГАСФЕР ЛУКИЧ: суетливо и хлопотливо извлекает из переполненного портфеля своего розовые бланки страховых свидетельств и принимается за работу.
ГРИНЯ (с некоторой тревогой): А это на кой хрен понадобилось?
АГАСФЕР ЛУКИЧ (не переставая бегать пером): А как же иначе, батенька? Без этого никак нельзя. Это, можно сказать, всему голова.
ГРИНЯ: с хмурым недоумением смотрит на Агасфера Лукича, затем лицо его вдруг проясняется, словно он что-то понял.
Я: не понимаю ничего, начинаю раздражаться, но пока молчу.
АГАСФЕР ЛУКИЧ: профессионально сияя, вручает Грине «Страховое свидетельство по страхованию от несчастных случаев».
ГРИНЯ (просматривает свидетельство и ухмыляется): Как раз трешник. Вот потом и вычтешь…
АГАСФЕР ЛУКИЧ: Само собой, само собой. Тут у меня все учтено. (Достает из портфеля и кладет перед Гриней большой лист плотной белой бумаги, исписанный от руки чрезвычайно красивым, каллиграфически красивым почерком с наклоном влево.)
ГРИНЯ: изнуряюще долго читает текст, шевеля губами, зверски наморщив при этом лоб.
АГАСФЕР ЛУКИЧ: приятно улыбается.
Я: не знаю, что и думать, испытываю самые неприятные, но решительно неясные подозрения.
ГРИНЯ: дочитав документ по второму разу, с большим сомнением мотает щеками.
АГАСФЕР ЛУКИЧ: Замечания? Дополнения?
ГРИНЯ: Не пойдет так. Не нравится. Тут у вас, например, сказано прямо… (читает вслух) «Передаю мою особую нематериальную субстанцию, независимую от моего тела…» Не пойдет. Насчет субстанции я справки навел, много неясного… Тем более – «особая».
АГАСФЕР ЛУКИЧ: Понял вас. Разумно.
ГРИНЯ: Во-вторых. Не передаю, а, скажем, отдаю в аренду…
АГАСФЕР ЛУКИЧ: На девяносто девять лет.
ГРИНЯ: Н-н-н… Ладно. Это еще туда-сюда… Тоже, между прочим, могли бы навстречу пойти… Ну, ладно. И главное! (Строго стучит ногтем по бумаге.) Прямо здесь должно быть сказано: трешками! Других не приму!
АГАСФЕР ЛУКИЧ: Момент! (Жестом фокусника выхватывает из портфеля и кладет перед Гриней новый роскошный лист, исписанный тем же каллиграфическим почерком.)
ГРИНЯ: подозрительно поглядев на Агасфера Лукича, вновь погружается в чтение.
Я: только диву даюсь, на какие ухищрения приходится идти нынешнему страхагенту ради трех рублей: я заметил уже, что первый каллиграфический лист словно растворился в воздухе, на скатерти его больше нет, и неприятные подозрения во мне укрепляются.
ГРИНЯ (прочитав, передает лист мне): «Ознакомься, Корнеич», – говорит он озабоченно.
Я: ознакамливаюсь, и волосы мои встают дыбом.
ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ
Я, нижеподписавшийся Григорий Григорьевич Быкин, в присутствии свидетеля, названного мною Сергеем Корнеевичем Манохиным, отдаю предъявителю сего в аренду на 99 (девяносто девять) лет, считая с сего 1 августа 19.. года, свое религиозно-мифологическое представление, возникающее на основе олицетворения жизненных процессов моего организма, в обмен на 2999 (две тысячи девятьсот девяносто девять) казначейских билетов трехрублевого достоинства образца 1961 года. Каковая сумма должна оказаться в моем распоряжении в течение двадцати четырех часов с момента подписания мною данного акта.