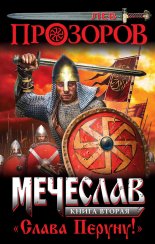Прогулки по Серебряному веку: Санкт-Петербург Недошивин Вячеслав
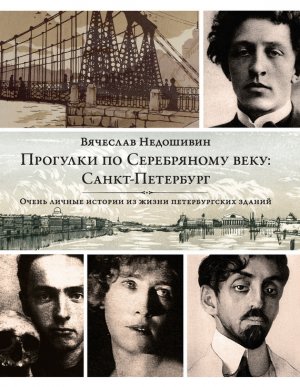
За этот месяц Ахматова выехала из Мраморного дворца, поступила на службу в библиотеку и получила от Агрономического института казенную квартиру в двух шагах от места службы.
Адрес нового жилья ее – улица Чайковского, 7. Здесь жила с осени 1920-го по осень 1921 года. Ныне в этом здании запущенная, да простят меня нянечки и сестры заведения, убогая муниципальная больница. А тогда это был дворец – дворец князей Волконских. Но вот странность: Ахматова, кажется, нигде не сообщает, что этот дом принадлежал Волконским. Может, не знала? Ибо с тем, кто жил здесь до нее, она просто не могла не быть знакомой. Сергей Волконский, внук декабриста, в недавнем прошлом директор Императорских театров (ушедший в отставку после того, как объявил выговор «в приказе» бывшей пассии Николая II балерине Матильде Кшесинской), был давним сотрудником журнала «Аполлон»[30]. Журнала, который в числе других создавал Гумилев и в котором Ахматова и печаталась, и бывала (наб. Мойки, 24). Наверняка были знакомы, но, видимо, в слишком уж прошлой жизни! В той, где у Волконского – потомка Рюриковичей – были царские приемы в Зимнем, балы, театральные премьеры, имение в Тамбовской губернии, квартира во Флоренции, римское палаццо Боргезе. А в 1919 году он, Волконский, буквально бежал из дома на Сергиевской и под чужим именем неделю скрывался в Петрограде. Потом вспоминал, что однажды ему захотелось посмотреть на это свое здание в последний раз. «Подошел к дому, позвонил, – рассказывал он уже в эмиграции поэту Сергею Маковскому. -Двери отворил тот же мой лакей… Ахнул, когда узнал меня в моем изодранном пальтишке и панталонах с бахромой. Повел наверх, в “свои” апартаменты, т.е. бывший мой кабинет и столовую… У бывшего лакея нашлись и хлеб, и вино (я узнал бутылку из моего погреба)… На прощание… попросил взять от него “подарочек”. “Ну, что ж? Дари!” – сказал я. Тогда он открыл шкаф, вынул один из костюмов бывшего моего гардероба и поднес мне со словами: “Вот, ваше сиятельство, от меня на память. А то уж очень вы того, обтрепаны!..”»
Сегодня парадный подъезд дворца Волконских наглухо забит. Уж не с 1919-го ли года забит? Я невольно подумал об этом, когда прочел, что Ахматова, ее подруги, Осип Мандельштам, который был здесь дважды и даже привез ей весть о смерти Николая Недоброво в Ялте, – все ходили в две ее комнатки не через этот парадный подъезд – через двор, с Моховой улицы.
Жила Ахматова здесь трудно, голодно, но весело. Весело, потому что «вырвалась» от Шилейко. Вспоминала: «Когда Шилейко выпустили из больницы, он плакался: “Неужели бросишь? Я бедный, больной…” Ответила: “Нет, милый Володя, ни за что не брошу: переезжай ко мне!” Володе это очень не понравилось, -говорила она, – но переехал. Но тут уж совсем другое дело было: дрова мои, комната моя, все мое… Совсем другое положение. Всю зиму прожил. Унылым, мрачным был». Кстати, на Сергиевской и рядом – на Моховой их не раз видела Миклашевская, жена театрального режиссера. «Странная была пара, – пишет она. – Я часто сталкивалась с ними, они тоже получали паек в Доме ученых. Шилейко был страшен, чем-то похож на паука. Он шел понурый, сутулый, мрачный, неся на спине рюкзак с нашим унылым пайком. Космы длинных волос, буйная борода, огромные блуждающие глаза. Анна Андреевна шла следом, худая, бледная до восковой прозрачности, в старомодном шелковом платье, когда-то нарядном, но теперь жалком… Шла она стройной, слегка колеблющейся походкой и чем-то напоминала цыганку, случайно оказавшуюся в голодном городе и нашедшую приют у фантаста-ученого»…
Короче, «весело» жила. То есть трудно. Трудно, потому что «надорвалась от поездок» в Царское Село, к своей подруге Наталье Рыковой, той самой Рыковой, которой посвятит знаменитое свое стихотворение «Все расхищено, предано, продано…» Кстати, один критик в «Известиях» напишет тогда же, что стихотворение это архиреволюционно, поскольку посвящено жене комиссара Рыкова. Ахматова «хохотала очень», запишет Чуковский. На самом деле отец Натальи, профессор-агроном Виктор Иванович Рыков, заведовал в Царском Селе сельскохозяйственной фермой, где несколько раз гостила в голодные годы Ахматова. Возможно, именно он и устроил ее на работу в библиотеку Агрономического института. И именно от поездок к Рыковым Ахматова и валилась с ног. «Пешком на вокзал, в поезде все время – стоя… Уезжала с мешками – овощи, продукты – раз даже уголь для самовара возила… С вокзала… домой – пешком, и мешок на себе тащила…»
Однажды, 16 августа 1921 года, возвращаясь в город, вышла в тамбур покурить. Потом рассказывала: в тамбуре «стояли мальчишки-красноармейцы и зверски ругались. У них тоже не было спичек, но крупные красные, еще как бы живые, жирные искры с паровоза садились на перила площадки. Я стала прикладывать к ним мою папиросу. На третьей (примерно) искре папироса загорелась. Парни, жадно следившие за моими ухищрениями, были в восторге. “Эта не пропадет”, – сказал один из них…»
Да, она – «королева-бродяга», как звали ее друзья, – не пропала ни в голод, ни в холод. Но пропал, был расстрелян недавний муж ее – Гумилев. Именно в этот день в вагоне третьего класса именно этого поезда она, обеспокоенная судьбой арестованного к тому времени Гумилева и пропавшего без вести брата, и написала свое полное пророческих предчувствий стихотворение «Не бывать тебе в живых…» Неизвестно только, когда это стихотворение сложилось – до того, как вышла в тамбур покурить, или после? А ведь как раз в доме на Сергиевской, где ныне больничные палаты, кровати, пилюли и горшки, Ахматова в последний раз принимала у себя Гумилева.
До этого было несколько встреч. В январе 1920-го Ахматова, например, пришла в Дом искусств (Невский, 15) получать какие-то деньги. Гумилев был на очередном заседании. Пока ждала, подошел литературовед Эйхенбаум. Ему Ахматова сказала: «Должна признаться в своем позоре – пришла за деньгами». Тот пошутил в ответ: «А я – в моем: пришел читать лекцию, и – вы видите – нет ни одного слушателя». Потом вышел Гумилев, и Ахматова, сама не понимая почему, обратилась к нему на «вы». Это так поразило Гумилева, что он прошипел: «Отойдем». Они отошли, и он начал ей выговаривать: «Почему ты так враждебно ко мне относишься? Зачем ты назвала меня на “вы”, да еще при Эйхенбауме! Может быть, тебе что-нибудь плохое передавали обо мне? Даю тебе слово, что на лекциях я если говорю о тебе, то только хорошо…»
В другой раз – уже весной 1921 года – она пришла к Гумилеву в издательство «Всемирная литература», которое располагалось тогда на Моховой (Моховая, 36), пришла, чтобы получить членский билет Союза поэтов. Опять долго ждала, чтобы он подписал билет, он был к тому времени председателем Союза поэтов. Когда же он закончил разговаривать с Блоком и стал просить у Ахматовой прощения, что заставил ее ждать, она ответила: «Ничего… Я привыкла ждать!» «Меня?» – обиделся Гумилев. «Нет, в очередях!..»
Потом виделись мимолетно еще дважды: на вечере, посвященном пушкинской годовщине, и в доме Мурузи (Литейный, 24), куда Ахматова забежала спросить адрес Немировича-Данченко… Но сам он пришел к ней в последний раз именно сюда, на Сергиевскую, ныне улицу Чайковского. Пришел по ее просьбе – она узнала, что он видел на юге, откуда вернулся, ее мать. 8 июля 1921 года попросила одну общую знакомую передать ему, что хочет видеть его, а уже 9 июля он немедля явился.
В тот день Ахматова сидела у окна во двор, когда услышала вдруг громкий крик: «Аня!» Гумилева еще не ждала, Шилейко был в санатории – больше звать было вроде бы некому. Кстати, кричать надо было обязательно – требовалось встречать гостей, ибо вход к ней на второй этаж был через этаж третий. Рассказывала: «Взглянула в окно, увидела Николая Степановича и Георгия Иванова». Рассердилась про себя, что он с Ивановым, которого давно не любила, но потом сообразила: Гумилев не мог же знать, что ее мужа, Шилейко, в это время не будет, а одному прийти к бывшей жене считалось, по их старомодным правилам, неудобным…
«Взглянула в окно…» – пишет она. В какое? Я обошел все палаты второго этажа больницы, те, что окнами во двор, – ни угадать теперь, ни найти, как не найти и той комнаты, где в последний раз говорили два поэта, чья совместная жизнь, по выражению подруги Ахматовой, Срезневской, хорошо знавшей их обоих, была «сплошным единоборством». Единоборством в любви, единоборством в творчестве.
«Каждый талантливый человек должен быть эгоистом, – сказала как-то Ахматова и добавила: – Исключения я не знаю. Талант должен как-то ограждать себя». И конечно, главным соперничеством их всю жизнь – и рискну сказать: после смерти! – было соперничество в поэзии. О, какие тонкие, но ядовитые, иногда под маской невинной шутки, иногда скрытые за какой-нибудь аналогией, а порой вообще не понятные никому, кроме них, «стрелы» выпускались ими друг в друга! Для них даже любовь, чувства были зачастую «полем битвы» за первенство в стихах. Она, например, еще будучи замужем за Гумилевым, нашла однажды в его пиджаке записку от женщины. Как вы думаете, что сказала при этом? «А все же, – сказала, – я пишу стихи лучше тебя!» И как бы с сожалением досказала потом Чуковскому: «Боже, как он изменился, ужаснулся! Зачем я это сказала! Бедный, бедный!..» Впрочем, и Гумилев не щадил ее самолюбия и частенько, когда бывал сердит, говаривал: «Ты, Аничка, поэт местного царскосельского значения…» Говорил, но как-то осторожно, остерегаясь ее. Да-да, он, храбрый кавалерист, охотник на львов, дуэлянт, на самом деле, по словам биографа, «всегда как-то боялся ее». А что касается любви их, то была ли вообще эта любовь? Надежда Мандельштам, например, в своей злой «Второй книге» напишет про Ахматову: «На старости ей почему-то понадобилось, чтобы Гумилев нес в душе неостывающую любовь к ней и только потому менял женщин, что ни одна не могла ее заменить… Его она, кажется, не любила никогда. Так, по крайней мере, считали все современники, и она этого совсем не скрывала. Зачем же ей понадобилось утверждать посмертно любовь к себе Гумилева? Она говорила, что в этом спасение Гумилева как поэта…»
И вот – эта последняя встреча. Встреча двух самолюбцев, эгоистов, двух удивительных талантов. О чем же говорили они, не зная, разумеется, что встреча -последняя? Она, например, сказала ему, вернувшемуся с Черного моря, где он мотался на миноносце по приглашению одного адмирала, что надо быть Гумилевым, чтоб в такое время, когда все как в клетках сидят, путешествовать. Похвалила, упрекнула? Гумилев даже не понял – и Георгий Иванов принялся объяснять ему мысль Ахматовой… Потом пожаловалась на Гржебина, издателя, который обманул ее, с которым хотела даже судиться. И Гумилев опять не понял ее – брякнул, что Гржебин прав, и тот же Иванов вновь стал объяснять ему, в чем тут дело, и даже пошутил: «Гржебин не прав уже по одному тому, что он Гржебин»[31].
Гумилев, повторю, видел в Крыму мать Анны Андреевны и привез бывшей жене горькую весть – сообщение о смерти одного из братьев Ахматовой. Правда, к концу разговора, забыв об этом, позвал ее на вечер поэтов в дом Мурузи. Она, разумеется, отказалась. Он обиделся слегка. Потом Ахматова сетовала: как он не понимал, что после известия о смерти брата она не могла идти веселиться? Еще Гумилев попенял ей, что она мало выступает, мало читает стихов. Ахматова отмахнулась: Шилейко запрещает… Гумилев изумился и, как вспоминала она, не поверил: Ахматовой, считал он, никто и ничего запретить не может…
Вот, собственно, и вся встреча. Последняя встреча. Если бы не одна роковая фраза Ахматовой. Вывести гостей из дома она решила не через третий этаж, как все ходили, а потайной винтовой лестницей, которая выводила прямо на улицу. Ни я, ни помогавшие мне медсестры больницы этой потайной лестницы в доме на Чайковского так и не нашли. Выяснилось, что никто и не помнил о такой. Скорей всего Ахматова имела в виду как раз парадную лестницу, выходящую к главному подъезду – тому, который «забит» ныне, – она единственная из лестниц, которую, хоть и с натяжкой, можно назвать винтовой: она спускается к выходу как бы по кругу. Впрочем, в полной темноте, да со свечой в руках, любая лестница покажется винтовой. «Лестница была совсем темная, -вспоминала Ахматова, – и когда Николай Степанович стал спускаться по ней, я сказала: “По такой лестнице только на казнь ходить…”» Словно напророчила. До ареста Николая Гумилева оставалось двадцать пять дней, до расстрела -пятьдесят…
Об аресте его Ахматова узнает на Смоленском кладбище, на похоронах Блока. А о расстреле догадается – почти по губам все того же Рыкова, профессора-агронома, в Царском Селе.
В тот день вместе с Маней Рыковой, сестрой своей подруги Натальи, она сидела на балконе санатория в Царском Селе, где лечила легкие. Оттуда сверху обе и увидели возвращающегося из города профессора. Тот, заметив дочь, позвал ее. Ахматова видела, как он что-то сказал ей и Маня, всплеснув руками, закрыла ладонями лицо. Ахматова подумала, что несчастье случилось в семье Рыковых. Но взбежавшая на второй этаж Маня произнесла: «Николай Степанович…» – и Ахматова поняла все. А уже утром, на вокзале, сама прочла в первой же газете на стене приговор…
В 1958 году Ахматова напишет: «От меня, как от той графини, // Шел по лестнице винтовой, // Чтоб увидеть рассветный, синий, // Страшный час над страшной Невой…» В 1963 году скажет молодому поэту Дмитрию Бобышеву, что Гумилев «не дожил до своей славы двух дней»… А в 1921-м отсюда, из дома на Сергиевской, пошла на тайную панихиду по Гумилеву – в Казанский собор. О панихиде не объявляли, но народу собралось много: новая жена Гумилева -«Анна вторая», Лозинский, Георгий Иванов, Оцуп, Адамович, жена Блока, Одоевцева. Последняя вспоминала: «Ахматова стоит у стены. Одна. Молча. Но мне кажется, что вдова Гумилева не эта хорошенькая, всхлипывающая, закутанная во вдовий креп девочка, а она – Ахматова…»
От Гумилева у Анны Андреевны останется подарок – новгородская иконка, которая будет храниться в «маленьком ящике вместе с четками, другими иконами, старой сумочкой». А месяц спустя Ахматова и сама покинет свое жилье на Сергиевской – переберется в другой дом почти по соседству, в знаменитый четвертый двор.
6. Четвертый двор… (Адрес шестой: наб. Фонтанки, 18, кв. 28)
Дома на Фонтанке, наискосок от Летнего сада, напоминают мне иногда гордый строй знаменитых и даровитых предков наших: Олсуфьева, Кочубея, Голицына, Пашкова. Их впору, как людей, награждать – вешать ордена на фасады. За что? Да хотя бы за то, что они привечали, а порой и давали кров русским поэтам: Жуковскому, Пушкину, Батюшкову, Вяземскому. И – Ахматовой.
Она жила на Фонтанке, 18, в доме Пашковых. Жила два года. И здесь, заскочив на минутку в 1922 году, Чуковский скажет ей: «У вас теперь трудная должность: вы и Горький, и Толстой, и Леонид Андреев, и Игорь Северянин – все в одном лице – даже страшно». Красиво, конечно, сказал. А ведь она была еще и молодой, хорошенькой женщиной – «ведьмушкой», как называла себя…
Да, из изысканной и поныне подворотни этого дома когда-то выпархивали две стройные женские фигурки в сопровождении темного и уже лысеющего спутника. Одна, как напишет художник Милашевский, «с челкой, другая с волосами цвета вина цинандали». Все трое жили здесь в четвертом дворе. Про этот дом Ахматова и напишет свое известное стихотворение: «А в глубине четвертого двора // Под деревом плясала детвора, // В восторге от шарманки одноногой, // И била жизнь во все колокола… // А бешеная кровь меня к тебе вела // Сужденной всем, единственной дорогой…» Двор действительно четвертый, но если считать дворы от улицы Пестеля – идти проходными дворами. А с набережной Фонтанки, от великолепной арки, этот двор – первый. Теперь в нем играют правнуки той детворы – они и шарманки-то настоящей не видели. И нет того дерева, черного тополя, – говорят, его срубили лет тридцать назад. Как вывозили распиленный ствол его, видел тогда литературовед Михаил Кралин.
Впрочем, с четвертым двором все не сразу стало ясно для меня. Еще недавно, как и многие любознательные читатели, я считал четвертый двор от Фонтанки и – терялся в догадках. Ибо не сходилось ничего. В четвертом дворе от набережной и в первом – от улицы Пестеля не было садика и деревьев, там и в 20-х годах прошлого века негде было играть детям – двор узок, как колодец. Наконец, там, как ни ищи, не было ни одного брандмауэра, в который, как известно, упирались окна 28-й, ахматовской квартиры. И – напротив, если это первый, а не четвертый двор от Фонтанки, все сразу же сходилось. Даже подъезд «в глубине» – в углу, где и ныне на верхнем этаже находится 28-я квартира. Даже, представьте, глухая кирпичная стена, тот брандмауэр, на котором расползалась когда-то зеленая плесень, рисунком своим так напоминавшая обитателям квартиры бегущую фигурку человека.
«В большом старинном доме на Фонтанке вблизи Летнего сада из окна, выходившего во двор, – вспоминал Артур Лурье, – на соседней глухой стене в сажень толщиной проступала леонардовская плесень; вглядевшись в нее, можно было отчетливо видеть силуэт в цилиндре и плаще, куда-то бегущий». Олечка Судейкина, глядя на эту тень, говорила: «Вот опять маленький Нерваль бежит по Парижу». Все… бывавшие в доме на Фонтанке, «знали и любили призрачного поэта в призрачном Петербурге…»
Да, обитатели 28-й квартиры были начитанными людьми и «тень» на стене прозвали Нервалем[32] – по имени сумасшедшего французского поэта. И «бежал» он по стене, разумеется, не куда-нибудь, а от постылой реальности – в мир потусторонних видений и галлюцинаций, которыми полон был сборник его сонетов «Химеры». А еще он так напоминал жильцам этой огромной старой, умирающей квартиры одновременно и Мандельштама, и Хлебникова – поэтов, которые, пишут, бывали здесь.
Впрочем, я, карабкаясь по черным лестницам дома в поисках этой квартиры, твердил про себя не Нерваля, а стихи Ахматовой, чудную строфу ее, которую уже вспоминал в этой книге: «Сердце бьется ровно, мерно. // Что мне долгие года! // Ведь под аркой на Галерной // Наши тени навсегда…» Стихи 1913 года были обращены к знаменитому художнику Сергею Судейкину. Она вообще написала ему несколько стихов, и что-то такое, как я уже говорил, между ними было: роман -не роман, флирт – не флирт. Но вспоминал я это стихотворение потому, что Ахматова поселилась здесь вместе с Олечкой Глебовой-Судейкиной, успевшей уже побывать замужем за Сергеем Судейкиным и Артуром Лурье – гражданским мужем Ольги. Вернее, сначала, пока Ольга была на гастролях в Вологде, поселилась временно, всего на месяц, а потом, в 1921-м, переехала сюда совсем и прожила здесь с Ольгой и Артуром до осени 1923 года. Жили в это свободное и, добавим от себя, грешное время как бы втроем. Впрочем, о Сергее Судейкине я вспомнил не только из-за Ольги.
Дело в том, что квартира, где поселилась теперь Ахматова, кажется, была изначально значительно больше, чуть ли не восемь комнат. Потом ее, видимо, разделили на две половины, одна из которых, богатая и шикарная (про чудный интерьер ее Ахматова скажет, что он был, может быть, «один из лучших», какие она видела), стала принадлежать неким Миклашевским, а вторая – «черная половина» – Олечке Судейкиной и Артуру Лурье. О том, что половина была и впрямь «черная», яснее всего «говорит» расположение кухни – через нее, как вспоминали, и проходили в комнаты. Кстати, долгое время исследователи считали, что эта «половина квартиры» была лишь служебным жильем Артура Лурье, который, если помните, после революции стал довольно большим начальником – заведующим музотделом Наркомпроса. Но Элиан Мок-Бикер, написавшая книгу о Судейкиной, утверждает, что хоромы здесь целиком, а не по «половинкам» когда-то принадлежали семье полковника Судейкина, печально известного жандармского офицера и отца первого мужа Олечки, художника Сергея Судейкина[33]. Так что Лурье даже к «черной половине» этой квартиры отношения не имел. Скорей уж права на нее были у Ольги, которая еще недавно была женой Судейкина. И даже в какой-то степени – у Ахматовой, у которой, как я уже сказал, были некие романтические отношения с Сергеем Судейкиным. Кстати, отец Ахматовой был знаком с отцом Сергея. Мало кто знает, что отец Ахматовой обращался к нему когда-то за помощью. Она сама расскажет Лукницкому, что за молодым отцом ее когда-то следила охранка. Отец пошел в жандармское отделение, нашел полковника Судейкина и прямо сказал ему: «Если за мной следят, то – пусть, но делайте это так, чтобы я этого не видел». Ахматова рассказывала, что Судейкин-старший приказал привести филера. Когда сыщик явился, спросил, ему ли поручено следить за этим человеком. А когда филер дал утвердительный ответ, Судейкин якобы поднес устрашающе к носу его могучий кулак свой… Такая вот история!
И еще одна деталь: в «расстрельном деле» Гумилева я обнаружил вдруг, что в 1919 году в этом доме, только в 15-й квартире, жил старший брат Гумилева со своей женой – тоже Анной Андреевной. Так что в изысканную арку этого дома, возможно, не раз входил и Николай Гумилев – Петербург, может, и не маленький город, но – тесный…
Что же известно ныне о четвертом дворе? Известно, что жила Ахматова на верхнем этаже, куда вела темная и пыльная черная лестница (она и сейчас такая), что в квартире, где у нее была узкая комната, несмотря на ампирную мебель и картины, зияли щели в полах, разваливалась печь и протекал потолок. Не думаю, что жить ей здесь было комфортней, чем в двух комнатках на Сергиевской. Но здесь обитал ее «спаситель» от ревнивого Шилейко, человек, который еще семь лет назад влюбился в нее и только ей играл «Орфея» Монтеверди и «Чакону» Баха. Композитор, который писал музыку на ее стихи, наконец, любовник, к которому, уже в 1921-м, ее и бросит вновь «бешеная кровь», Артур Лурье.
Настоящее имя его – Наум Лурья. Артуром, как писал поэт Бенедикт Лившиц, он сам назвался в честь Шопенгауэра. А еще любил кокетливо именовать себя Артур Винсент, в честь Ван Гога, или Артур Перси Биши, в честь Шелли. С ним у Ахматовой уже был «бурный роман» в 1914 году, после которого Лурье жаловался, что она, «как коршун», разорила его семейное гнездо… и называл ее – как и товарищ Жданов назовет многие годы спустя – «блудницей». Тогда он только-только окончил консерваторию и считал, как пишет все тот же Лившиц, что «он, Артур Винцент Лурье, призван открыть… новую эру в музыке… Эта новая музыка требовала как изменений в нотной системе… так и изготовления нового типа рояля – с двумя этажами струн и с двойной (трехцветной, что ли) клавиатурой».
Заносчив был невероятно. Когда, скажем, играл свои сочинения композитору Глазунову, тот возьми и скажи ему: «Я не понимаю их, очевидно, я не дорос». На что «юный гений» нагло ответил: «Да, очевидно, вы не доросли». А вообще, увлекался «картинками» скандального Бердслея, «дендизмом», т. е. стригся на прямой пробор, причем волосы были зеркально напомажены и «разутюжены», носил визитку – костюм этот был в моде у щеголей, а для «гала-событий» надевал отцовскую шубу с бобрами и бобровую же шапку.
«Было несколько свиданий, потом расстались», – отмахивалась позднее Ахматова, говоря про первую встречу с Лурье в 1914-м. Но так ли? Некая Ирина Грэм, одна из последних любовниц Лурье, рассказывала, что познакомились Артур и Анна – «важная молодая дама» (ей было двадцать пять) – на каком-то литературном собрании. Ныне известно, на диспуте в Тенишевском училище (Моховая, 33), который назывался «О новом слове» и случился 8 февраля 1914 года.
«Сидели рядом, за столом, покрытым зеленым сукном… Окинув своего соседа высокомерным взглядом, она (Ахматова. – В.Н.) спросила: “А сколько вам лет?” – “Двадцать один”, – так же важно ответствовал Артур… После заседания поехали в “Бродячую собаку”» (Михайловская пл., 5). И там Лурье вновь очутился за одним столом с ней. Проговорили всю ночь. Это отсюда и «стаканы ледяные» из ее стихов, и «пар над кофеем», и «друга первый взгляд, беспомощный и жуткий». Несколько раз в ту ночь к их столику подходил Гумилев: «Анна, пора домой», но она не обращала на него внимания, и Гумилев уехал один. А они с Артуром под утро отправились на острова. «Было… как у Блока, – рассказывал потом Лурье. – “И хруст песка, и храп коня”…» Это зимнее утро на Финском заливе, как пишет Ирина Грэм, определило всю дальнейшую жизнь его.
Он был женат тогда на молоденькой пианистке Ядвиге Цыбульской, снимал квартиру у неких Франк-Каменецких (Гороховая, 29), куда после первой встречи стала приходить и Ахматова. Засиживались за роялем до ночи (Артур работал тогда над романсами на ее стихи), гуляли в Летнем саду (Ахматова говорила потом, что там случались «великие события ее жизни»), ездили в Царское Село (однажды в вагон вошли два драгуна, и один из них, сняв каску, хлопнув себя по абсолютно бритой голове, сказал: «Кокос болит» – выражение это вошло потом в их обиход). Но кончилось все тем, что Ревекка Абрамовна, хозяйка квартиры на Гороховой, в отличие от жены Лурье (которая, говорят, даже дочь их назвала в честь Ахматовой – Анной), сочла затягивающиеся визиты дамы не совсем приличными для нравственного воспитания уже своей подрастающей дочери и Артуру от квартиры отказала…
Впрочем, нет, не так кончилось! Скажу странную вещь, которую и сам себе объяснить не могу, но кончилось все не так – иначе! Ровно через полвека после тех дней, 21 ноября 1964 года, Анна Ахматова чудом не погибла в автомобильной аварии как раз на Гороховой, на мосту через Мойку, рядом с тем домом. Такси, на котором она куда-то опаздывала, летело, обгоняя машины и троллейбусы на узкой Гороховой, и на крутом мостике через Мойку едва не столкнулось лоб в лоб со встречной полуторкой. Таксист, молоденький парнишка, рванул руль влево, машина выскочила на тротуар, к счастью, пустой в ту минуту… Случайность? Может быть. Но почему на Гороховой, у дома Артура
Лурье? Почему ровно через полвека? Наконец, почему в тот год, когда она, через десятилетия после расставания, получила вдруг от Лурье из-за границы первое письмо? «Все твои фотографии глядят на меня весь день», – написал он. О нет, с Ахматовой я в такие случайности не верю, да и сама она никогда не верила в них: слишком часто с ней происходили подобные, почти мистические события…
А в начале 1920-х она, «ведьмушка», сама как ни в чем не бывало вернулась к Лурье и стала «сладчайшей рабой» его. Так написала в стихах. Начали жить здесь втроем с Ольгой Судейкиной – напомню, с 1910 года близкой подругой Ахматовой. Потом Ахматова скажет Нине Ольшевской, московской актрисе: «Мы не могли разобраться, в кого из нас он влюблен», – но имя Лурье не назовет. А через много лет признается: «Мы обе любили одного человека». Но кого -опять не скажет. Может, и первого мужа Ольги – художника Судейкина, может, самоубийцу Князева, а может, все-таки Лурье. Впрочем, в ее фразах стоит обратить внимание на слово «любила» – его, если не в стихах, Ахматова произносила нечасто…
Как жили тут, в четвертом дворе, известно мало. По крупицам можно собрать кое-какие сведения о тех днях из различных воспоминаний. «Немного обветшавшая, эта квартира еще хранила следы роскоши предыдущей эпохи. Особую атмосферу в ней создавали ампирная мебель и картины Сергея Судейкина». Действительно, большое полотно Судейкина «Прогулка на мельницу» видел здесь на стене художник Милашевский. Он же заметил тут стол красного дерева 1830-х годов и диван того же стиля. Ольга Арбенина-Гильдебрандт пишет, что «была очарована обстановкой комнаты». Но чьей – не сообщает. «Синие обои и желтая скатерть, – пишет она. – Картина Судейкина на стене, в золотой раме! Этажерка у дверей – на ней две чудесные куклы: сиамец и сиамка, перекинутая через плечо кавалера. Все куклы O.A. (Судейкиной. – В.Н.) были хороши, но мне эта пара казалась лучше всех. Рядом была другая комната – и там стояло псише, т.е. тройное зеркало, чашки были (вероятно, со времен Судейкина) самые трактирные, с толстыми синими ободками с золотом, и на чашках – намалеванные розовые розы… Ахматова была с царственностью, со стилем обреченности. Как будто в темном. Но говорила весьма просто… Отношения с Судейкиной дружественные… Мне казалось, в манере говорить у O.A. была легкая – очень легкая -слащавость и – как бы выразиться – субреточность – вероятно, любившей господствовать Ахматовой эта милая “подчиненность” подруги была самой приятной пищей для поддержания ее слабеющих сил…» Господствовать над подругой Ахматова, судя по всему, любила. «Я к ней хорошо относилась, – говорила потом о Судейкиной. – Хорошо… Очень…» Но мимоходом добавляла довольно ехидно, что та была необычайно остра в разговоре и этой остротой поразительно умела скрывать недостаток культурности. «Она не была культурной – нет, совсем… Но с поразительным уменьем скрывала это…»
Что еще? Например, все получали здесь академический паек, который развозился по домам на лошади. Пайки устроил Горький, и Ахматова, увидев однажды из окна въезжающую во двор лошадь с продуктами, грустно пошутила: «Вот едет горькая лошадь…» Что было в пайке? Конина, крупа, соль, табак, суррогаты жира и плитка шоколада. Когда кто-то, кажется Юрий Анненков, в разговоре с Горьким посмеялся над этой плиткой, тот задумчиво произнес: «Все люди немного дети… Революция их сильно обидела. Нужно им дать по шоколадке, это многих примирит с действительностью…» Известно еще, что домоуправление требовало с жильцов денег на ремонт крыши, причем управдом обещал, что те, кто даст их, будут на несколько месяцев освобождены от квартплаты. Ахматова, получив в это время гонорар за изданную «Белую стаю», говорила, что деньги на крышу дала, но управдома скоро сместили и обещания его, что называется, прокисли…
Наконец, известно, что жила с ними здесь некая старуха Макушина, кухарка, которая, впуская гостя, приговаривала: «Дверь у нас карактерная». Она – вот вам и «карактер»! – держала под подушкой топор, а под матрасом – единственное «сокровище» свое, юбилейную книгу «Трехсотлетие дома Романовых». Толку от нее как от кухарки было, кажется, немного. Ахматова утверждала, что и готовила, и посуду мыла, и в лавку бегала сама. «Скоро встану на четвереньки, – говорила про себя, – или с ног свалюсь». Говорила, пока кухарка, сидя на плите, штопала для нее черный чулок белыми, вообразите, нитками… К слову, у кухарки этой была племянница, которой Ахматова как-то сказала: «Знаете, не очень удобно, что вы каждый раз возвращаетесь в два часа ночи». – «Ну, Анна Андреевна, -развязно ответила девица, – вы в своем роде, и я в своем…» Наконец именно от старухи Макушиной, и, кажется, здесь, получила Ахматова прозвище “Олень”, которым потом, смеясь, даже подписывала домашние записки. И знаете, почему Олень? Кухарка считала, что две молодые женщины, Анечка да Олечка, бездельничают, – упрекнула в этом Судейкину и добавила про Ахматову: «И та тоже! Раньше хоть жужжала, а теперь распустит волосы и ходит, как олень!» Обе «оскорбленные» чуть не умерли от смеха. «Жужжанием» старуха называла вечное бормотание поэта, проговаривавшего возникавшие строчки стихов…
Кто бывал в этой квартире? Одним из первых забежал Чуковский. Комнатка маленькая, вспоминал он, большая кровать не застлана. На шкафу – на левой дверке – прибита икона Божией Матери в серебряной ризе. Возле кровати столик, на столике масло, черный хлеб. У Ахматовой на ногах плед: «Я простудилась, кашляю…» Сказала, что скоро выходят «Четки». «Ах, как я не люблю этой книги. Книжка для девочек». Потом спросила Чуковского: «Вы читали журнал “Начала”? – Нет, – сказал я, – но видел, что там есть рецензия о вас. – Ах, да! -сказала она равнодушно», но потом столько раз возвращалась к этой рецензии, что Чуковскому стало понятно – ни о чем другом она не могла и думать. Чтобы проверить свои ощущения, он сказал, что у него в студии раскол: одни за ее поэзию, другие – против, что одной слушательнице кажется позерством ее поэзия и т.д. «Это так взволновало Ахматову, – пишет Чуковский, – что она почувствовала потребность аффектировать равнодушие, стала смотреть в зеркало, поправлять челку и великосветски сказала: “Очень, очень интересно! Принесите мне, пожалуйста, почитать этот реферат…” Мне, – заканчивает Чуковский, – стало страшно жаль эту трудноживущую женщину. Она как-то вся сосредоточилась на себе, на своей славе – и еле живет другим…» Ахматова сварила ему кофе в кастрюле, быстро поставила столик, чудесно справилась с вьюшками печки и, наконец, сказала, что ее зовут в Москву, но Щеголев отговаривает, говорит, что там ее ненавидят и что имажинисты устроят ей скандал, а она в скандалах участвовать не умеет… «Потом, – записывает в дневник Чуковский, – старуха затопила у нее в комнате буржуйку и сказала, что дров к завтрему нет. “Ничего, – сказала Ахматова. – Я завтра принесу пилу, и мы вместе с вами напилим”»… Кстати, через месяц Чуковский вновь придет сюда уже занимать деньги: ему надо было три миллиона. Ахматова даст миллион. «Больше нет у самой. Через три-четыре дня получает в Агрономическом институте 4 миллиона. Дав мне миллион, – пишет Чуковский, – она порывисто схватила со шкафа жестянку с молоком и дала. “Это для маленькой!”» Для дочки Чуковского…
Приходил Хлебников, безнадежно влюбленный в Судейкину чуть ли не с 1915 года, но сюда ли приходил? Об этом пишет Элиан Мок-Бикер, ссылаясь на воспоминания Артура Лурье. Это он рассказывал, что тут, «во всем величии… святой бедности», нахохлившийся, как сова, пил чай с вареньем «великий Велимир». Его длинные руки – так запомнилось Лурье – торчали из коротких рукавов сюртука. Приходили Мандельштам, Сологуб (он иногда обедал здесь), Петров-Водкин, Татлин, Михаил Кузмин. «Пили чай, – писал в дневнике Кузмин. -У Ольги Афанасьевны ноты, книги, пирог с кашей, но Артур все-таки какой-то поросятка…»
Да, Артура Лурье мало кто любил. Он, например, придумал назвать свой музыкальный отдел «Народной трибуной гражданской музыки», а себя из комиссара хотел переименовать в «народного трибуна». Луначарский якобы сказал ему: «Нет, Артур Сергеевич, нам это не подходит». На Лурье, подмявшего под себя, как утверждают, все музыкальные издательства, жаловались самому Ленину Гольденвейзер и Ипполитов-Иванов[34]. Композитор Асафьев говорил, что как музыкант он все-таки даровит, но подл. И еще: «Это хамелеон-эстет». Маяковский отзовется грубее: «Всякое Лурье лезет в комиссары, от этого Лурья жизни нет». А подруга Ахматовой, одна из немногих, с кем она была на «ты», Вера Знаменская, назовет его «сальным пошляком-циником» и напишет: «До чего же мне был противен и гадок этот Артур Сергеевич!.. Не могу забыть, как… он, вытащив из кармана брюк маленькую книжку с французским текстом и гравюрками порнографического содержания, всячески старался заставить меня рассматривать с ним эти гравюры, я отворачивалась, а он ко мне приставал. Тут же была то ли Анна Андреевна, то ли Ольга Афанасьевна»… Что говорить, брат Артура и тот стыдился его поступков; того, например, что он гордился своими мужскими достоинствами и кичился близостью к Ахматовой, а сын брата – племянник композитора – звал «дядю Арта» не иначе как «врун, болтун и блядун». Ахматова же, будто не слыша осуждений, говорила Лурье: «Я – кукла ваша», звала его «Арик», иногда «горюшко», а когда сердилась -«супостат». Случалось, правда, топала на него ногами: «Тебе нужна тигрица, а не женщина!..» Артур смеялся в ответ: «Эх ты, горбоносик-глазенап…»
Однажды возмутился ее холодным отношением к Цветаевой: «Вы относитесь к Марине Цветаевой так, как Шопен относился к Шуману». Шуман, как известно, боготворил Шопена, а тот отделывался вежливыми, уклончивыми замечаниями[35]. Но именно Лурье – это тоже правда, – жалея, заставил Ахматову бросить ее единственную службу Говорил, что если не бросит – поскольку Ахматова была больна, – «будет приходить на службу и скандалы устраивать».
«У него любовь ко мне – как богослужение была», – признавалась позднее Ахматова. Лурье даже «ревновал ее почерк», просил, чтобы стихи в редакции она посылала написанные не от руки, а на машинке. А однажды легко «подарил» ей название пятой книги. Ахматова мучилась: как назвать, ну как? «Очень просто, -сказал Лурье и показал рукой на надпись, выбитую на фронтоне дома, мимо которого шли: “Anno Domini”». Так и назвала: «Anno Domini MCMXXI», что в переводе с латинского означало: «В Лето Господне 1921». Кстати, про сборник этот журнал «Новый мир» напишет в 1922-м: «Все написанное ею в эти годы нелепо и ничтожно. Революция пролетариата разбила цепь, а индивидуалистическую скорлупу Анны Ахматовой не одолела. “О жизнь без завтрашнего дня!” И это правда. У Ахматовой завтрашнего дня нет, не будет. Она смертник, и книга ее “Anno Domini” – “отходная”». Таких рецензий было много: Н.Алексеева, Ф.Левина, Г.Лелевича, последний будет громить и шельмовать потом М.Булгакова. Но самое ужасное, уж раз мы завели речь об этом, что и друзья ее – Эйхенбаум и даже Тынянов с их «испуганными книгами», как напишет потом Ахматова, – «губили нас и погубили политически». Более того, эйхенбаумовской формулой, сказанной насчет героини стихов Ахматовой («не то “блудницы” с бурными страстями, не то нищей монахини»), через четверть века воспользуется секретарь ЦК партии А.Жданов в своем докладе о Зощенко и Ахматовой… Да, «завтрашнего дня» у нее, кажется, действительно не было…
А что касается Лурье, то Ахматова, как бы в благодарность и за подаренное название книги, и за «богослужение ей», взялась писать для него либретто балета «Снежная маска» – по Блоку. Чуковский вспоминал: она лежала на кровати в пальто, сунула руку под плед и вытащила оттуда свернутые в трубочку большие листы бумаги. «Слушайте и не придирайтесь к стилю… Этот балет я пишу для Артура Сергеевича. Он попросил. Может быть, Дягилев поставит в Париже…» Потом станет читать Чуковскому стихи, и, когда прочтет о Блоке, он, как сам пишет, «разревется»…
Все у Артура и Анны оборвется в 1922-м, когда комиссар Лурье сбежит за границу. «Я очень спокойно отнеслась к этому, – вспоминала Ахматова. – Его пугало мое спокойствие… Когда уехал – стало так легко!.. Я как песня ходила… 17 писем написал, я ни на одно не ответила…» Правда, написала стихи: «Кое-как удалось разлучиться // И постылый огонь потушить. // Враг мой вечный, пора научиться // Вам кого-нибудь вправду любить…»
Вот так – постылый огонь! Чему же верить – стихам или жизни? Поэту или «ведьмушке»? Не знаю. Знаю только, что тогда же и тому же Чуковскому бросит вдруг невзначай: «Мужчина нужен только, чтобы родить ребенка». Это в точности ее слова.
Лурье уезжал со слезами. Умолял Ахматову приехать к нему. «Приеду, приеду, – ответила, – следующим пароходом». 17 августа провожала его. Пароход отплывал от пристани рядом с Горным институтом. И там, на пристани, она встретила неожиданно Бориса Пастернака: на том же пароходе «Гакен» он отплывал в Германию вместе с молодой женой, художницей Евгенией Лурье (однофамилицей Артура). Пастернак тоже вспомнит потом силуэт Ахматовой, который долго маячил на питерском причале…
Год прожила Ахматова в четвертом дворе с Лурье. И еще год – после. Кстати, живя здесь, встретила однажды Мариэтту Шагинян. «Уезжаю в Армению, -сказала ей та. – Навсегда. Слишком изолгалось перо». «Представляешь, – издевательски смеялась Ахматова уже в 1950-х годах в разговоре с Михаилом Ардовым, – что с этим пером сейчас?..» Все понимала. Но сама бывала зачастую совершенно беззащитна. Когда после долгого молчания ее в Доме литераторов (ул. Некрасова, 11) был объявлен вечер Ахматовой, то публика, разумеется, мгновенно раскупила билеты. И вдруг, вспоминал Георгий Иванов, в день вечера в билетную кассу является дама в пестром платке и с бельевой корзинкой в руках: «Мне два билета». – «Вы видели аншлаг, – огрызается билетерша, -все продано…» – «Но мне обещали…» – «Ничего не знаю – билетов нет…» Дама с корзинкой взрывается: «Если нет для меня билетов – я сама не приду на вечер». Кассирша язвительно улыбается: «Пожалуйста, никто не заставляет…» Дама вспыхивает и, хлопнув дверью, уходит. Надо ли говорить, что этой дамой была именно Ахматова. На счастье, заканчивает Иванов, сцену эту видел кто-то из заправил дома. Он и догнал на улице негодующего поэта, чтобы с поклонами и извинениями вручить ей ее законные авторские билеты!..
Наконец, в этом доме начался ее роман с Николаем Луниным. Они и поцелуются впервые здесь, на черной лестнице, «в дверях милого дома на Фонтанке». Еще недавно он, похожий, по общему признанию, на молодого Тютчева, увидев ее в каком-то парке вместе с Шилейко, записывал в дневнике: «У меня к ней отношение как к настоящей; робею ее видеть». И вот уже он заносит в дневник про дом в четвертом дворе: «Сегодня пришел к Ан., холодно… совсем больна – сердце. Починил печку, потом гуляли в Летнем саду. Повеселела, стала улыбаться… Она чудесная… удивляется часто тому, к чему мы уже привыкли; как я любил эти радостные ее удивления: чашке, снегу, небу…»
Впрочем, насчет «коршуна», разорявшего чужие семьи, Лурье против правды не погрешил – Ахматова действительно это умела. Пунин был женат, у него была дочь, но Ахматову это не остановит. Нет, нет, Пунин тоже не был ангелом, тоже заглядывал, как писал в дневнике, «под каждые ресницы» и «ненасытно» искал любви. Но когда неожиданно первым получил записку от Ахматовой с приглашением в «Звучащую раковину», то, по его словам, «был совершенно потрясен». «Чтобы звать меня?..»
Впрочем, о том, где находилась «Звучащая раковина», что она из себя представляла и как произошло их первое свидание, – об этом я вновь расскажу у следующего дома Анны Андреевны.
«Как это ни странно, – сказала однажды Ахматова, – но культурность и образование женщины измеряется количеством ее любовников». Занятная мысль, хотя я замечал, что особенно нравится она самим женщинам и уже потому, думается, является верной. Не знаю, впрочем, много ли дал Ахматовой Лурье, а вот она ему, как выяснится в конце жизни, дала действительно много. Это ведь она больше десяти лет будет навещать осиротевших родителей Лурье (Владимирский пр., 5), которых сын, впрочем, как и первую жену с ребенком, в одночасье бросил (родители его замерзнут в блокаду, а брат погибнет в ополчении). Это ведь он будет писать музыку к ее стихам, забрасывать ее письмами на старости лет, и сожалеть, и плакать на чужбине до самой смерти… В жизни они не увидятся уже никогда.
Ирина Грэм напишет потом, что Пусикат – так она звала Артура – умел давать женщинам истинное «блаженство» – «мороз по коже». Напишет, что у него было множество любовниц, в том числе с челками и носами с горбинками, но в спальне его всегда стояла фотография Ахматовой[36]. И наконец, что перед смертью -а умрут Артур и Анна в один год – Лурье сказал фразу, многое объясняющую в их отношениях. Он сказал, что всю жизнь искал вторую Ахматову, пока не понял, что «двух Ахматовых не бывает»…
7. Новогодняя тайна (Адрес седьмой: Казанская ул., 3, кв. 4)
Помните, самый первый адрес Ахматовой – Казанскую улицу, дом 4? Помните, я говорил, что она дважды жила на этой улице – в домах, стоящих напротив друг друга? Так вот, в ноябре 1923 года она вместе с верной Ольгой Судейкиной снимет на Казанской две комнаты у друзей, только в доме №3, в 4-й квартире, на третьем этаже. И проживет здесь пять месяцев. Даже не догадываясь, что жила когда-то, тридцать два года назад, в доме напротив. Но поразительно: вспоминая время и место написания некоторых своих стихов, она иногда странным образом ошибалась и метила их не домом №3, а той, четной стороной улицы, домом ее детства: «Казанская, 4».
Дом №3 по Казанской не только мрачен внешне, он и внутренне был полон чем-то необъяснимым. Тут Ахматова написала, например, как к ней приходила муза: «Когда я ночью жду ее прихода, // Жизнь, кажется, висит на волоске. // Что почести, что юность, что свобода // Пред милой гостьей с дудочкой в руке. // И вот вошла. Откинув покрывало, // Внимательно взглянула на меня. //Ей говорю: “Ты ль Данту диктовала // Страницы Ада?” Отвечает: “Я”». Здесь, кажется, дописала самую странную свою балладу – как праздновала в одиночестве Новый год, с шестью приборами на столе для тех, кто уже не придет… Здесь три раза подряд видела во сне расстрелянного Гумилева, который являлся ей и о чем-то просил ее. Наконец, здесь вроде бы бывал Пунин. Я не упомню прямых свидетельств тому, хотя «безумие» их, по словам Пунина, длилось уже больше года…
Вообще если перебирать жизнь молодой Ахматовой по дням, то нельзя не заметить: едва ли не все большие романы ее отличали по крайней мере три ошеломляющие черты. Во-первых, она почти всегда была инициатором любовных отношений, почти всегда сама приходила к мужчине. Во-вторых, как бы ни был серьезен роман с кем-либо, у нее почти всегда возникал рядом кто-то, с кем она, как сказали бы сегодня, встречалась параллельно. И наконец, в-третьих, ее чувства к избранникам обладали каким-то странным возвратным свойством, способностью, как по спирали, возвращаться вновь к уже встреченным и отмеченным, к уже пережитым когда-то влюбленностям. Так было, рискну сказать, с Гумилевым, Шилейко, Лурье – сначала возникали какие-то неуловимо-мимолетные романтические отношения, больше похожие с ее стороны на ускользающее кокетство, а потом, иногда через несколько лет, вспыхивала любовь, но уже надолго. Так было и с Николаем Пуниным, с которым, помните, она впервые встретилась в поезде еще в 1913 году.
На самом деле, не замечая друг друга, виделись и раньше. Пунин, сын морского офицера, врача, вырос, как и Гумилев, в Царском Селе, учился в той же, что и Гумилев, гимназии, женился на Анне Аренс[37], в сестер которой был когда-то влюблен все тот же Гумилев. Сколько совпадений! Потом Ахматова и Пунин сталкивались в «Цехе поэтов», куда в 1913 году кооптировался Пунин, в журнале «Аполлон» и в «Бродячей собаке». К администрации «Собаки» Ахматова в 1914-м даже обратилась с запиской: «Рекомендую на вторник 18 февраля Николая Николаевича Пунина (литератор, сотрудник “Аполлона” и др.). Действительный) ч(лен) Анна Ахматова»… Теперь же Пунин, искусствовед, водившийся с футуристами от поэзии и модернистами от живописи, кандидат в члены компартии и даже член Петросовета, в июле 1922 года вновь встречает Ахматову, чтобы не расстаться с ней фактически уже никогда.
Встретились, по не очень внятным свидетельствам, когда в ресторане гостиницы «Европейская» (Михайловская, 1/7) отмечали успех авторского концерта Артура Лурье. Втроем. Пир не пир, но что-то в этом роде состоялось. Потом, в конце августа, Лурье уехал за границу, якобы в командировку. А в сентябре Ахматова, неожиданно для Пунина, шлет ему ту записку, о которой я говорил: «Я сегодня буду в “Звучащей раковине”. Приходите. Ахматова». Несколько слов всего, но слов – перевернувших его жизнь. Рядом сохранилась приписка Пунина: «Я… был совершенно потрясен… не ожидал, что Ан. может снизойти, чтобы звать меня…»
«Звучащая раковина» – это поэтическая студия, которая располагалась на Невском (Невский, 72), в доме напротив улицы Рубинштейна, тогда еще Троицкой. «Раковину» основал незадолго до гибели Николай Гумилев. Окно же комнаты, куда сходились студийцы, и сегодня легко увидеть с Невского – последний этаж, под самой крышей, широкое, куполообразное в центре. Там, в квартире знаменитого фотографа Моисея Наппельбаума (он в 1918 году сделал лучший фотопортрет Ленина, и его забрали в Москву), дочери его, стихотворки Ида и Фрида, собирали по понедельникам цвет русской литературы[38]. В это трудно поверить, но их порог переступали Гумилев, Сологуб, Кузмин, Ахматова, Ходасевич, Клюев, Замятин, Зощенко, Чуковский, Георгий Иванов, Лившиц, Волынский, Тихонов, Лозинский, Адамович, Пяст, Радлова, Каверин, Соллертинский. Из Москвы наезжали порой, правда порознь, Пастернак, Маяковский и Есенин. Это если не считать пропадавших на заседаниях молодых тогда поэтов: Оцупа, Берберову, Вагинова, Юркуна, Андроникова, Одоевцеву, Хармса, Аду Оношкевич-Яцына. А вообще, если смотреть на объединение литераторов шире, тут, в студии, не просто читались стихи «по кругу». «Здесь, – вспоминала потом Ида Наппельбаум, – разрушались браки, устанавливались новые связи, зарождались и рассеивались личные тайны…» Короче, здесь – «вершились судьбы»! Близость неба обязывала. Близость в прямом смысле – ведь если не было дождя, поэты, разгоряченные спорами, мнениями и амбициями, «вываливались» всей компанией на балкон, который фактически был крышей, и их взгляду представал весь Невский – от Адмиралтейства до Московского вокзала.
Ида и Фрида вместе с матерью готовили студийцам скромные бутерброды. В центре большой комнаты, где ныне свечи, картины, статуэтки и полные ветра паруса легких занавесок, стояла когда-то грубая буржуйка с трубой, выведенной в форточку. «В комнате лежал ковер, стоял рояль и большой низкий диван, – вспоминал юный тогда Николай Чуковский. – Еще один ковер, китайский, с изображением большого дракона, висел на стене. Этому ковру придавалось особое значение, так как дракон был символом “Цеха поэтов”… Ни стола, ни стульев не было. На диване собравшиеся, разумеется, не помещались и рассаживались на многочисленных подушках вдоль стен или на полу, на ковре». Только Ахматова, «туго-туго натянув шаль на острые плечи», как вспоминают, всегда сидела на стуле, и всегда -с прямой спиной. И никогда не приходила сюда одна: сначала с Лозинским, потом с Лурье или Судейкиной, и наконец, уже в 1922-м, с Николаем Пуниным…
Пунину, думаю, не обрадовались тут. Он был здесь белой вороной. Комиссар Русского музея и Эрмитажа, вчерашний заместитель самого Луначарского[39], Пунин, по словам последнего, плодотворно работал с Советами, «навлекая ненависть… буржуазных художественных кругов». Ведь это Пунин в 1918-м в газете «Искусство Коммуны», назвал Гумилева – кумира, мэтра этих самых «кругов» -«гидрой реакции», вновь подымающей свою «битую голову». «С каким усилием, и то только благодаря могучему коммунистическому движению, мы вышли год тому назад из-под многолетнего гнета тусклой, изнеженно-развратной буржуазной эстетики, – писал он в этой статье. – Признаюсь, я лично чувствовал себя бодрым и светлым в течение всего этого года отчасти потому, что перестали писать или, по крайней мере, печататься некоторые “критики” и читаться некоторые поэты (Гумилев, напр.). И вдруг я встречаюсь с ними снова в “советских кругах”… Для меня это одно из бесчисленных проявлений неусыпной реакции, которая то там, то здесь нет-нет да и подымет свою битую голову…»
Каково?! Разве такое забывается? А если учесть, что 5 сентября 1918 года Советом народных комиссаров было принято постановление, разрешающее расстреливать всех «прикосновенных к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам», то статейка эта выглядела не просто доносом – призывом подавить «эстетическую реакцию». Но потом – вот уж курбеты истории! – 3 августа 1921 года тот же Пунин вместе с ненавистным им Гумилевым был арестован по «Таганцевскому делу» – доставлен на Гороховую[40]. Правда, через месяц стараниями все того же Луначарского его выпустят. Нарком по его поводу даст телеграмму прямо Уншлихту. «Во время своей деятельности, – сообщал в ней Луначарский, – Николай Николаевич (Пунин. – В.Н.) все более сближался с коммунистами и сделался одним из главных проводников коммунизма в художественную петроградскую среду. Ни о каком предательстве с его стороны не может быть и речи. Здесь явное и весьма прискорбное недоразумение. Со своей стороны, я прошу ВЧК как можно скорее разобраться в этом деле и лично предлагаю всякое поручительство как от имени Наркомпроса, так и от моего имени по отношению к тов. Лунину…» В той же телеграмме, представьте себе, нарком подчеркивал, что поручиться за Пунина может Осип Брик – «очень ценный сотрудник ЧК». Поручились. Все поручились. Пунина выпустили, и он, осмелев, попытался даже «выцарапать» у тюремщиков свои подтяжки, которые пропали на Шпалерной. Сохранилось его заявление комиссару Особого яруса товарищу Богданову: «На подтяжках имеется надпись: “Пунин (камера 32)”». Подтяжки не нашли, сказали, что они, видимо, были переданы другому лицу, а «других на замену нет».
Вот так. У Гумилева, первого мужа Ахматовой, отберут жизнь, а Пунину, последнему мужу ее, всего лишь не вернут подтяжки…
А если серьезно, если о «подменах» более важных, то нельзя не сказать: Пунин не только знал Осипа Брика, с которым выпускал газету «Искусство Коммуны», но и стал, пусть ненадолго, любовником жены Брика, вернее уже – Брика и Маяковского, любовником Лили Брик.
В дневнике своем запишет: «Зрачки ее переходят в ресницы и темнеют от волнения; у нее торжественные глаза; есть наглое и сладкое в ее лице с накрашенными губами и темными веками, она молчит и никогда не кончает… Эта “самая обаятельная женщина” много знает о человеческой любви и любви чувственной… Не представляю себе женщины, которой я бы мог обладать с большей полнотой. Физически она создана для меня, но она разговаривает об искусстве – я не мог… Если бы мы встретились лет десять назад – это был бы напряженный, долгий и тяжелый роман, но как будто полюбить я уже не могу так нежно, так до конца, так человечески, по-родному, как люблю жену…»
Пунин расстался с Лилей, ибо не мог вынести ее доморощенных суждений об искусстве. Виделись они в «Астории» (Б. Морская, 39), где Лиля жила с Маяковским по соседству со всем «красным начальством» Петрограда (отель был режимным). А иногда – в его «холостяцкой» комнате на Инженерной (Инженерная, 4). Кстати, в «Асторию» он и позвонил для решительного объяснения с Лилей: «Я сказал ей, что для меня она интересна только физически и что, если она согласна так понимать меня, будем видеться, другого я не хочу и не могу; если же не согласна, прошу ее сделать так, чтобы не видеться. “Не будем видеться”, -она попрощалась и повесила трубку…»[41] Все, казалось, знал про Лилю, не знал лишь, что и она, как Осип, тоже была сотрудницей ВЧК, и тоже, видимо, ценной (ныне известен даже номер ее чекистского удостоверения)… Тоже, кстати, курбеты истории! И пока поэты голодали, ходили оборванными, пока Ахматова, в единственном своем синем платье, конфузясь, просила Чуковского раздобыть крепкие штаны для Шилейко (ученого с мировым именем!), с которым сама и не жила уже, Брики в Москве подумывали о собственном автомобильчике, который им привезет-таки из-за границы Маяковский…
Ну да хватит об этом. Ведь через два месяца после последнего звонка Пунина в «Асторию», после последнего разговора с Лилей он и столкнется вдруг с Ахматовой. «Сегодня… видел Анну Ахматову с Шилейко, – запишет в дневнике. -Хорошо себя держит. У меня к ней отношение как к настоящей; робею ее видеть. Чувствую благодарность за то, что ушла от богемы и Гумилева и что не читает и не печатает сейчас стихов…» Потом – новая встреча, как я говорил уже, в ресторане «Европейской». И только уже в сентябре 1922-го Ахматова и пошлет ему ту записку с приглашением в «Раковину». Когда случилась любовь – неизвестно. Точно известно одно – 14 сентября станет их тайной датой, от которой будут отмечать свои «годовщины». Это число стоит под ее стихотворением к Лунину: «Я – голос ваш, жар вашего дыханья, //Я – отраженье вашего лица. // Напрасных крыл напрасны трепетанья, – // Ведь все равно я с вами до конца…» Тогда, видимо, она и была у него на Инженерной, где, по его словам, сидела на полу, «как девушка с кувшином в Царскосельском парке»… Удивительно, но через два года, когда в жизни Ахматовой появится юный Лукницкий, она станет бывать в доме ровно напротив – на Инженерной, 2, где Лукницкий жил с родителями. Все те же «совпадения» ее! Встречаясь с Лукницким, будет обманывать Пунина, а с Пуниным – Лукницкого. Поначалу Пунин окажется менее удачливым в любви, ибо даже в августе 1925 года запишет: «Уже скоро три года, как я с отчаянием в сердце и страхом узнал сладкие твои губы, а они все так же священны, далеки, недостижимы, как тогда в дверях милого дома 18…» Имел в виду дом на Фонтанке, где мы с вами уже побывали…
Теперь Пунин часто видит ее: то идет с ней менять карточки на паек; то приглашает к себе завтракать, и когда она спрашивает: «Рад, что я пришла?» – «довольно глупо» отвечает: «Еще бы»; то, проходя мимо лихачей на углах, мечтает: «Взять бы ее, закутать в мех… и везти в снежную пыль». Он, вчера еще правоверный коммунист, бросался защищать ее даже от самого Троцкого. Когда тот в 1922 году в статье «Внеоктябрьская литература» назвал Ахматову «приблизительной поэтессой», Пунин в ответ написал свою статью «Революция без литературы», где едко прошелся по вчерашнему своему кумиру. Правда, статью его, в отличие от статьи Троцкого, так и не опубликуют. Впрочем, это и неважно: «качели любви» Пунина и Ахматовой только взлетали еще. И скрывать отношения свои от близких, от посторонних им становилось все сложней.
«Наша любовь была трудной, – писал он, после того как в очередной раз решил, что все кончилось, – ни я, ни она не смели ее обнаружить… Ей казалось, что ей не простили бы близости со мной, мне тоже. Вероятно, простили бы. Но нас действительно все разделяло: положение, ее и мое, взгляды, быт, поколения, понимание искусства, темп самой жизни, потребности ума, я еще умел ее веселить, но она никогда не могла меня утешить. Мне часто было горько и душно с ней, как будто меня обнимала, целовала смерть…»
Ах, какие письма писал он ей поначалу! Ахматова изумлялась: «Вы пишете, как нежнейший ангел». «Милая любовь моя, моя кроткая, ведь кроткая? – писал он. – Как я люблю в тебе эту склонность к бродяжничеству, к беспечной безответственности, как у православной Кармен, когда ты крестишься на встречную церковь… а такая грешница…» Или: «Смотрел, как ты ешь яблоко, на твои пальцы, и по ним мне казалось, что тебе больно; какое невозможное желание сейчас во мне: их поцеловать, их целовать; это уже не любовь, Анна, не счастье, а… страдание… Чувствуешь ли ты то же самое?» Заносил в дневник в это время: «Ты ли это, наконец, моя темная тревожная радость?.. Как я люблю тебя… Как стебель ты. Гибкая; раскрывающая губы, злые и уничтожающие, говоря слова. Гибкая гибель, правда ли?.. Ты вся такая, из которой пить любовь. И пью, все позабыв…» Или: «Ты такая, как будто, проходя, говоришь: “Пойдем со мною”, – и идешь мимо. Зачем это тебе надо?.. Куда с тобою, ну, куда с тобою, бездомная нищенка?» А на другой день, словно спохватившись, добавлял: «Нежная моя радость, долгой любви не жди. Хрупка наша близость, как ледок…»
Любил. Любил ее «зубы со скважинками… большой лоб и особенно – ее мягкие черно-коричневые волосы», но понимал: это счастье всегда будет ускользающим. Еще и потому, что она не только изменяла ему, но – признавалась в этом. Плакала, называла «мальчишка мой» и… признавалась: «Думаешь, я верная тебе?..» После этих слов той же ночью он торопливо записывал в дневнике: «Мне ли прощать ее… Эта ее измена упала куда-то на самое дно и любви не тронула… Не скажу – я простил, но – не мне прощать ангела…» Ему тридцать четыре, у него, судя по дневнику, кроме жены Ани-Гали да романа с Лилей Брик, не было никого. А ей, «ангелу», – тридцать три года, и Пунин у нее – пятнадцатая любовь, если не считать влюбленностей детских и тех, о которых никто уже так и не узнает…
Однажды Ахматова мудро заметит: верной спутницей истины обязательно является какая-нибудь страшная неожиданность. И такая неожиданность, как бы проявившая истину, случится. Более того, случится именно на Казанской, еще до переезда сюда Ахматовой и Судейкиной. Однажды, в морозный февральский вечер, Ахматова и Пунин будут спешить на извозчике в Мариинский театр, и как раз на Казанской их пролетка налетит на человека. Извозчик остановится, а человек, оказавшийся под колесами, не сразу, но приподнимется, посмотрит на них и скажет: «Ничего, ничего, поезжайте, друзья мои…»
Происшествие, несчастье – но ведь и символ. И именно в этот день, после многодневных скандалов и рыданий, жена Пунина, Аня-Галя, про которую и Ахматова скажет потом, что она «человек, который обладает очень большой добротой и милосердием», обвинит мужа в подлости и скажет, что уходит от него. Пунин почти радостно сообщит об этом Ахматовой – и почти сразу догадается, что вспыхнувшее вдруг ни с того ни с сего пристрастие ее к опере и балету объясняется всего лишь ее романтической связью с заведующим режиссерским управлением Мариинского театра Михаилом Циммерманом – к нему ездила, с ним изменяла Пунину. А скоро будет изменять уже обоим с возникшим в ее жизни Павлом Лукницким. Изменяла, как напишет в «интимном» дневнике Лукницкий, даже когда Пунин минут на двадцать выходил «прогулять» ее собаку – сенбернара Тапа…
В любовном угаре, в подозрениях, как в путах, Пунин, совсем уж как юнец, даже выследит ее. В один из дней попросит взять его с собой на «Хованщину», достать второй билет. Ахматова легко согласится. Но когда через день он, напомнив ей об этом, твердо скажет: «Хочу идти с тобой в театр», сделает, как пишет Пунин, «нервную гримасу ртом, означавшую – не приставайте, пожалуйста». «Закусив удила», Пунин помчится в «контору» театра, достанет-таки место в директорской ложе и к увертюре войдет в нее.
В первом антракте увидит Ахматову с белой косынкой на плечах, потом потеряет из виду – она не вернется на свое место в восьмом ряду. «Сердце мое стучало, тело дрожало мелкой нервной дрожью», – вспоминал позже. Гаснут огни, начинается второе действие. И вдруг, когда опустил бинокль, он увидал ее – в своей же ложе, но отделенную от него выступом стены. «В страшном волнении, – пишет Пунин, – дрожа, я спрятался за угол в складки портьеры… Затем вошел певец Левик… затем – Циммерман и встал за нею…» Ахматова скажет потом, что у Лунина было страшное лицо, а он, устав бороться, через несколько дней признается себе в дневнике: «Не любит. Нет, не любит. Как жить, чем жить?..»
Жалея Пунина, Аня, жена его, передумает уходить от него. И Ахматова не отпустит, хотя и впредь будет ездить в театр «не для театра»… На прямой вопрос Пунина – почему она не хочет расстаться с ним? – ответит, что запуталась и в качестве объяснения приведет строчку из Мандельштама: ее фразу Пунин дословно занесет в дневник: «Эта (показала на себя) ночь непоправима, а у вас (показала на меня) еще светло». После чего он и станет называть ее иногда «Ноченька»…
А вообще, жила она здесь, на Казанской, как и раньше, как и дальше будет жить, бедно, растрепанно, безбытно. Перед Новым годом к ней забежит Чуковский. «Теплого пальто у нее нет: она надевает какую-то фуфайку “под низ”, а сверху легонькую кофточку, – вспоминал он. – Я пришел… сверить корректуру письма Блока к ней… Она долго искала письмо в ящиках комода, где в великом беспорядке – карточки Гумилева, книжки, бумажки… Много фотографий балерины Спесивцевой – очевидно, для О.А.Судейкиной, которая чрезвычайно мило вылепила из глины для фарфорового завода статуэтку танцовщицы…» Потом ехали в пятом трамвае. Чуковский купил яблок и предложил одно Ахматовой. Она сказала: «На улице я есть не буду… вы дайте, я съем на заседании». В трамвае оказалось, что у нее не хватает денег на билет (он стоил 50 миллионов, а у Ахматовой было лишь пятнадцать). Чуковский улыбнулся: «Я в трамвае широкая натура, согласен купить вам билет»…
Зайдет сюда, на Казанскую, и москвичка поэтесса Софья Парнок. «Очень ее удивило, – писал Горнунг, – что свою рукописную тетрадь со стихами Анна Андреевна достала из-под матраца. Стихи были написаны карандашом, и оказалось, что при поправках строки или одного слова Анна Андреевна стирала резинкой старый текст и вписывала новый…» В Москве, видать, так стихов не писали -там священнодействовали! Наконец, здесь, на Казанской улице, Мандельштам познакомит Ахматову со своей женой, которую впервые привезет из Москвы.
«В первый раз мы шли к Ахматовой пешком, – вспоминала Надежда Мандельштам. – Мандельштам топорщился…» – шел неохотно. Во-первых, помнил твердую просьбу Ахматовой, когда не так давно он стал слишком назойлив, пореже бывать у нее – он называл это «ахматовские штучки». Во-вторых, боялся встречи из-за двух выступлений своих в печати, где Ахматову обидел, сказав о ее якобы «столпничестве на паркетине». А в-третьих, в-третьих, опасался, как встретит она его Надю[42].
«Опасения оказались напрасными, – пишет Н.Мандельштам, – Ахматова выбежала в переднюю, искренно обрадованная гостям. Я запомнила слова: “Покажите мне свою Надю. Я давно про нее слышала…” Мы пили чай, и Мандельштам окончательно оттаял. Они говорили о Гумилеве, и она рассказала, будто нашли место, где его похоронили… Оба называли Гумилева Колей… Потом Ахматова спросила Мандельштама про стихи и сказала: “Читайте вы первый – я люблю ваши стихи больше, чем вы мои”. Вот они – “ахматовские уколы”: чуть-чуть кольнуть, чтобы все стало на место. Это был, – заканчивает Надежда Яковлевна, -единственный намек на статьи Мандельштама»…
Ахматова, как напишет потом Надежда Мандельштам, вообще-то ненавидела писательских жен. Надежда Яковлевна удивлялась еще – почему она сделала исключение для нее? Обе они действительно подружатся на всю жизнь. Но произойдет это через год и уже в другом доме Ахматовой – последнем ее доме из тех, о которых я хотел бы рассказать в этой книге.
…Дом на Казанской, как узнал я недавно, и через двадцать лет спасет Ахматову. Когда в 1946 году ее после убийственного доклада Жданова и постановления ЦК лишат продуктовых карточек, а потом также неожиданно вернут их, она с ними нигде не сможет «прикрепиться». На старом месте, в гастрономе на Михайловской, Ахматову не примут. И тогда, перебрав все варианты, она наконец сможет это сделать в единственном месте – в магазине на Казанской, к тому времени ставшей улицей Плеханова. Больше того – в доме №3, где жила когда-то.
Только там сможет купить вместо хлеба, не отоваренного в течение месяца, несколько килограммов муки…
По тем временам большая удача!..
8. Шестое окно (Адрес восьмой: наб. Фонтанки, 2)
Это окно на Неву – шестое от угла, где Фонтанка сливается с Невой, -уже навсегда останется «окном Ахматовой». Там сейчас какая-то фирма, завтра, возможно, будет другая, но, пока этот дом не взорвут или пока он не рухнет, мы будем помнить – на этом подоконнике первого этажа часами любовалась закатами и Невой Ахматова.
Здесь, в доме Бауэра[43], вставшего когда-то на месте царских прачечных, с марта по ноябрь 1924 года и жила она с неизменной Судейкиной. Жила, точней, Ольга Судейкина с неизменной «Анкой»: квартиру от фарфорового завода дали Судейкиной – она делала там фарфоровые статуэтки. Она ведь не только была «петербургской куклой, актеркой», но и не менее знаменитой «кукольницей», великолепной художницей и скульпторшей. В анкете, которую Ольге придется заполнять во Франции, куда она скоро уедет, напишет про себя: «артистка-художница». А на фарфоровый завод ее, кажется, устроит скульптором именно Пунин, ставший там не то главным художником, не то художественным директором. Может, потому «Анке» досталась здесь маленькая и узкая комната, а Ольге – большая и светлая. Зато у Ахматовой было окно на Неву а у Ольги – во двор, на грядки, которые в тот год разбивали здесь их соседи по дому.
Шестое окно… Что бы Ахматова увидела из него сегодня? «Аврору» на приколе. Тогда она «Аврору» не видела, но, думаю, помнила о ней. Ведь на «Авроре» в самую революцию был, по слухам, ее брат – гардемарин Виктор Горенко. Она знала, что офицеров корабля восставшие матросы топили. К счастью, это оказалось всего лишь слухами[44]. Брату Ахматовой удалось избежать смерти, она узнала потом, что он вместе якобы с внуком Льва Толстого Ильей пробрался в Сибирь к Колчаку, потом жил на Сахалине, а затем уехал в эмиграцию. Может, потому Ахматова чуть ли не до старости с некоторым испугом говорила, что брата у нее нет…
Не могла она видеть раньше из шестого окна и телебашни на горизонте. Ахматова, кстати, и в молодости с подозрением относилась к технике: опасалась машин, боялась лифтов. А в 1924-м, как пишет Лукницкий, смеялась над идеей постройки метро в Петрограде и радовалась, что в городе на болоте метро невозможно: здесь «разве что подводные лодки могут ходить». С метрополитеном ошиблась, но интуитивно понимала, куда могут привести все эти технические новшества. Например, один писатель вспомнил недавно ее слова: «Чем скорее летают самолеты, тем более будут оскудевать человеческие отношения, а заодно и поэзия. Исчезнет понятие разлуки, радость встреч и разная другая необходимая человеческая канитель…» Что ж, все это подтверждается ныне – милая «канитель» действительно исчезает.
В 1920-х годах метро даже не планировалось еще и уж тем более не было какофонии вольного телеэфира. Зато было пение марширующих где-то неподалеку красноармейцев, которое, лежа на подоконнике, Ахматова любила слушать. Считала – это единственное пение, где «нет и не может быть фальшивых нот». Через много лет, в Ташкенте, в эвакуации, гуляя с Фаиной Раневской, она, увидев поющих в строю солдат, скажет неожиданно: «Как я была бы счастлива, если бы солдаты пели мою песню». Именно это считала знаком настоящей славы и известности. Но сама, если говорить о стихах, как раз в угловом доме Бауэра и перестала «петь». На долгих шестнадцать лет замолчала…
Вход в квартиру был со двора – тринадцать разрушенных временем ступенек, ныне почти заросших травой. Эти ступеньки да несколько старых деревьев в просторном дворе, думаю, помнят еще женщину в черном шелковом платье, с белым платком на одном плече, в белых чулках и черных туфлях – все «единственное у нее тогда», как писал Лукницкий.
Поперек низких ворот этого дома в наводнение 1924 года лежала выброшенная на берег лодка. «Вода была выше колен, но совсем теплая… так что стало даже приятно, когда промокли ноги… – писал о наводнении Пунин. – Ахматова -очень возбужденная… В газетах сказано, что наводнение – наследие царизма…» Пунин уже не был тем «левым» комиссаром, каким встретился когда-то Ахматовой. О том же наводнении, к примеру, он с видимым удовольствием записывал гулявшие антисоветские шуточки. «Что вы так радуетесь наводнению, – сказал при нем кто-то, – все равно большевиков не смоет…» Идеологические перемены в нем заметил наблюдательный Чуковский, который прямо спросил Ахматову: «Как вы думаете, чем кончится внезапное поправение Пунина?» Ахматова невесело усмехнулась: «Соловками…» И напророчила – он ведь и умрет в лагере…
А другого гостя этого дома – тоже влюбленного в Ахматову – довольно скоро расстреляют. Я говорю чуть ли не о самом знаменитом тогда писателе – Борисе Пильняке. Пишут, он таскал ей сюда дивные корзины цветов, приводя Ахматову в немалое смущение. Женихался, так сказать. Для полной славы ему не хватало Ахматовой в женах. «Пильняк семь лет делал мне предложение, – говорила потом Ахматова, – а я была скорее против». Впрочем, определенные знаки внимания ему оказывала. Скажем, Ахматова не однажды встречалась как раз с Пильняком, наезжавшим из Москвы, у Замятина, с женой которого, Людмилой Николаевной, дружила (Моховая, 36). Сохранилась записка Евгения Замятина к Ахматовой, в которой он просит ее зайти к нему вечером: «Я хоть на час хочу видеть счастливых. Я хочу видеть рядом Вас и его (он только вчера приехал из Москвы)… Он ждет Вас в 5 часов у меня». «Он» в этой записке – именно Пильняк, удачливый и тогда еще баснословно знаменитый прозаик. А когда он приобретет в Америке автомобиль, то машину, доставленную морем, позовет перегнать с ним в Москву как раз Ахматову. И она, представьте, согласится. Через четыре года, когда в печати начнется травля Пильняка и Замятина (первый звоночек для обоих!), слабая, казалась бы, Ахматова принципиально подаст заявление о выходе из Союза писателей – в знак протеста. В.Е.Ардов вспоминал с ее слов, что тогда к ней немедленно приехал какой-то молодой человек – «может, из союза, а может, из других мест… уговаривать ее взять обратно заявление, поскольку эта демонстрация чрезмерно, так сказать, активна». Она призналась, что уже склонялась было взять заявление обратно, но тут молодой человек брякнул: «И потом, вам же будет хуже… Вы не получите продовольственные карточки, не сможете пользоваться там какими-то благами». Вот тогда она и выдала ему про заявление: «Теперь я не могу взять обратно, раз вы так сказали…» И не взяла!
В бывшую квартиру поэта, к тому шестому окну, меня не пустили. Набычившийся охранник в черной форме с иголочки тупо повторял: «Ахматова – не знаю таких. Нет! Не положено, без разрешения не могу». Но и без отсутствующих новых хозяев этого дома я знал, что не найду той узкой комнаты, увешанной иконами; камина, на котором она держала горящей свечу, чтобы было от чего затопить печь; полов, вздувшихся в наводнение и навсегда испорченных. Даже той Невы в окне не увижу, тех волн, которые в то лето унесут навсегда изломанный, изорванный в клочья Пуниным букет левкоев…
Лучше всех сам воздух этого дома описал художник Анненков, давний знакомый Ахматовой. Еще четыре года назад она в квартире какого-то «свитского» генерала, бежавшего на юг, позировала Анненкову для знаменитого портрета – того, где она «с гребнем» (Кирочная, 11). «Это происходило в яркий, солнечный июльский день», – вспоминал он, и Ахматова была одета «в очень красивое синее шелковое платье», которое ей, кажется, тогда прислали из-за границы[45]. А сюда, в дом Бауэра, осенней ночью под проливным дождем Анненков провожал однажды Олечку Судейкину – после вечера в издательстве «Всемирная литература». «Подойдя к подъезду, Оленька предложила мне зайти к ней, посидеть, – вспоминал Анненков, – так как у меня не было ни зонтика, ни непромокаемого пальто. Было около часа ночи, но я согласился. Оленька провела меня в свою комнату. В другой комнате Ахматова была уже в постели, и я ее не увидел… Ливень за окном не унимался. “Ложись на диван, – сказала Оленька, – уйдешь завтра утром, авось подсохнет”. В комнате Судейкиной, кроме ее постели, была еще небольшая оттоманка с подушками. Я снова согласился… Не сняв пиджака, прилег на диван. Оленька подняла с полу небольшой коврик и прикрыла им меня. “Немножко грязненький, но все же согреет”, – сказала она, погасила свет и стала раздеваться, чтобы лечь. Через несколько минут я заснул…»
Утром их разбудила Ахматова. В темном платье и полосатом переднике, она вошла с подносом, на котором были чашки с липовым чаем, сахарин и ломтики черного хлеба. «Принесла ребятишкам покушать, – улыбнулась, – потчуйтесь на здоровье!» И Анненков, и Судейкина засмеялись. Откинув коврик, Анненков встал. Судейкина присела на постели, прикрытая одеялом. Ливень кончился, сквозь оконные шторки светило солнце. Ахматова поставила поднос на одеяло и ела на край кровати. «Я придвинул стул, – пишет Анненков, – и – втроем -мы весело позавтракали…» Через полвека, в Париже, Анненков хлебосольно «отплатит» Ахматовой уже обедом, мешая его, впрочем, с горькими слезами воспоминаний…
Да, двое из этих троих уже осенью окажутся в эмиграции: сначала Анненков, потом Ольга. Этот дом на углу Фонтанки и Невы я вообще называю «домом расставаний». Единственным, вероятно, исключением была завязавшаяся здесь на всю жизнь дружба Ахматовой и Надежды Мандельштам. Последняя не без ехидства опишет позднее и секреты обольщения, по Ольге Судейкиной, и ее приемчики: «Тряпка должна быть из марли – вытереть пыль и сполоснуть… Чашки тонкие, а чай крепкий… Темные волосы должны быть гладкими, а светлые следует взбивать и завивать. И – тайна женского успеха по Кшесинской – не сводить “с них” (с мужчин. – В.Н.) глаз, глядеть “им” в рот – “они” это любят…» Надежда Яковлевна не раз наблюдала здесь эти «маневры». «Оленька… стучала каблучками, танцующей походкой бегала по комнате, накрывая стол к чаю, смахнула батистовой или марлевой тряпочкой несуществующую пыль, потом помахала тряпкой, как платочком, и сунула его за поясок микроскопического фартушка… Подав чай, Ольга исчезала, чтобы не мешать разговору, – пишет Надежда Мандельштам. – Характер своей подруги она изучила: Ахматова, когда приходили гости, всегда выставляла своих сожительниц из комнаты, чуть не хлопая перед их носом дверью…» Кстати, именно Н.Мандельштам утверждала, что Ахматова, «равнодушная к выступлениям, публике, овациям… почестям, обожала аудиторию за чайным столом… Я говорю: “Ануш, там идут к нам”, – и она спросит: “Что, уже пора хорошеть?” И тут же – по заказу – хорошеет»…
Сюда, к Ахматовой и Судейкиной, приходили в тот год Сологуб, Замятин, Петров-Водкин («их наказание», поскольку он часами не уходил, молчал и «делал улыбку», по едкому замечанию искусствоведа Голлербаха, в стиле «добро пожаловать»). Только с Есениным, думаю, Ахматова вряд ли хорошела при встрече.
Она встретила его однажды с компанией, когда гуляла с собакой у Лебяжьей канавки. «От него – рассказывала, – пахло вином. Одет был по тем временам отлично – лакированные ботинки и прекрасный костюм, видимо, заграничный… Внешний блеск, а вот лицо… болезненно, с каким-то землистым оттенком. Здороваясь, он поцеловал руку, что раньше никогда не делал…»
Они напросятся в дом – Есенин, Клюев и Приблудный, и пьяный Клюев немедленно заснет поперек ее кровати. Тогда только Есенин притихнет, станет говорить по-человечески: ругать власть, всех и вся. Пошлет приятеля за своей книгой, чтобы надписать ее, а когда книгу принесут, окажется не в состоянии даже держать перо… Пишут, что читал ей здесь стихотворение «Отговорила роща золотая…» Но на другой день, встретив ее в Летнем саду, скажет что-то нелестное про нее своим друзьям и пройдет, вызывающе приложив к цилиндру два пальца. Ну, разве не «расставание» с тем, кто в 1910-х годах почтительно ловил каждое ее слово? Именно после этой встречи она и назовет его «гостинодворским», то есть мещанским[46]. Страшное оскорбление в те годы…
Точно так же, живя в этом доме, случайно встретит (как выяснится, в последний раз) и Маяковского. Через много лет расскажет Лидии Чуковской: «Это было в 24-м году. Мы с Николаем Николаевичем (Луниным) шли по Фонтанке. Я подумала: сейчас мы встретим Маяковского. И только что мы приблизились к Невскому, из-за угла – Маяковский! Поздоровался. “А я только что подумал: «Сейчас встречу Ахматову»”. Я не сказала, что подумала то же. Мы постояли минуту. Маяковский язвил: “Я говорю Асееву – какой же ты футурист, если Ахматовой стихи сочиняешь”?..» Этот шутливый упрек в сторону Асеева, кстати, не просто вырвавшаяся фразочка. Ведь через пару лет Маяковский будет не только презрительно звать ее за глаза «Ахматкина», но и, не брезгуя душком политического доноса, объявлять ее и Мандельштама «внутренними эмигрантами». А ведь недавно, каких-нибудь пять-десять лет назад, он не только умилялся ее руке («Пальчики-то, пальчики-то, Боже ты мой!»), но и искренне восхищался ее стихами.
Здесь Ахматова расстанется и с последним, относительно независимым, жильем – дальше, до самой дачи в Комарове («Будки», как она ее назовет), будут чужие комнаты, чужие квартиры. Здесь расстанется с жизнью «как песня», с женской свободой. Ведь именно сюда не вернется однажды, впервые оставшись ночевать у Пунина, в его семейной квартире в Фонтанном доме (Фонтанка, 34). 8 июля 1925 года Пунин запишет в дневнике: «Сегодня осталась у меня ночевать, я уложил ее в кабинете и всю ночь сквозь сон чувствовал присутствие ее в доме; утром я вошел к ней, она еще спала; я не знал, что она так красива спящая. Вместе пили чай, потом я вымыл ей волосы, и она весь день переводила мне одну французскую книгу: это такой покой – быть постоянно с нею». Покой? Увы, покоя у него не будет уже никогда, сколько бы он ни уговаривал себя «работать над своей любовью» к ней, сколько бы ни пытался оправдывать ее. «Она не виновата и больше не виновата, чем я и кто-либо, – записывал в дневнике. – Ангел она, ангел, ангел. Виновато именно то, что моя любовь для нее недостаточна. Смотри же, не сделай ей больно из-за своего эгоизма; работай над своей любовью, очищай и очищай… Не попрекай ее и в мыслях грешным телом…»
А ведь еще два года назад Пунин сделал, казалось, для себя горький вывод, написал ей в письме: «Никогда еще я в такой малой степени не занимал кого-либо собою, как тебя; да ты и не любишь, когда я говорю о себе, любишь только, когда говорю о тебе или о себе в связи с тобою… разве не правда?» В дневнике тогда же признался: «Она не любит и никогда не любила: она не может любить, не умеет», и что он ей, с его точки зрения, нужен «как еще одно зрелище, притом зрелище особого порядка». Потом скажет: «Анна, честно говоря, никогда не любила. Все какие-то штучки, грусти, тоски, обиды, зловредство, изредка демонизм. Она даже не подозревает, что такое любовь». Он, представьте, станет жалеть даже своего соперника Циммермана, ибо тот тоже упрекнул Ахматову, что она «обращается с ним, как с собакой». Не поможет Пунину и «конституция», которую они выработают с Ахматовой: по каким дням встречаться, когда принадлежать друг другу, когда – себе[47]. «Все, кто ее любил, – подчеркнет позднее Лукницкий, – любили жутко, старались спрятать ее, увезти, скрыть от других, ревновали, делали из дома тюрьму…» Теперь такую жизнь решился устроить ей и Пунин. Другое дело, что из этого ничего не получилось. Но это ведь он хватал ее на Троицком мосту окровавленными руками…
В тот день она пошла на именины к Щеголеву, пушкинисту, мужу своей подруги, на Большую Дворянскую (ул. Куйбышева, 10). «С Замятиным и другими ходили куда-то», – рассказывала она. Пунин пришел и, не застав ее дома, ревнуя, побежал встречать. На Троицком мосту увидел всех. И Ахматову – под руку с Замятиным. «А Замятин был ни при чем, – говорила потом Ахматова, -решительно ни при чем!» Пунин подошел: «Анна Андреевна, мне нужно с вами поговорить!..» Замятин ретировался. В руках у Ахматовой был букет. Пунин выхватил его. Цветы полетели в воду… Когда они обогнали компанию, Ахматову спросили: «А где же ваш букет?» «Я, – вспоминала она, – приняла неприступный вид!..»
Это, впрочем, пересказ истории ее глазами. Пунин же пишет, что всегда не любил, когда она ходила к Щеголевым, – «там много пьют и люди развязны». Пишет, что просил ее не ходить… «И вдруг вечером, когда я уговорился прийти к ней, ее не было дома – за ней зашла Замятина, и они ушли к Щеголевым – на час, как сказала мне Судейкина. Я стал ждать; я долго ждал, выходил, снова вернулся – был первый час – Ани не было. Все закипало во мне дикою ревностью. Около часа я снова вышел и пошел к дому, где живет Щеголев, через Троицкий… Она шла под руку с Замятиным, в руках у нее были цветы. Замятин был пьян, я в каких-то нелепых, но, вероятно, внушительных выражениях попросил Замятина оставить Анну… Замятин явно струсил и “ретировался” назад, к отставшим Федину и Замятиной».
Вот тогда Пунин выхватил у нее букет и, изорвав цветы в куски, выбросил их в Неву. «Я помню то острое, по всей спине полоснувшее, как молния, чувство наслаждения, когда рвал и бросал цветы, когда слышал хруст ломающихся стеблей левкоев; на пальцах моих была кровь, вероятно, от розы; кровь липла, и ею я запачкал руки Ан.» Потом, уже в ее комнате на Фонтанке, Пунин плакал и все просил отдать ему крестильный крестик, подаренный им еще года полтора назад. И она плакала, «щеки ее были мокры, она сердилась и плакала»…
Впрочем, тогда же примерно Пунин напишет жене об Ахматовой: «Неповторимое и неслыханное обаяние ее в том, что все обычное – с ней необычно, и необычно в самую неожиданную сторону; так что и так называемые “пороки” ее исполнены такой прелести, что естественно человеку задохнуться». А через год признается Ахматовой, что «не может без нее», что она «самая страшная из звезд», и это станет фактически предложением.
…Ахматова обладала какой-то небывалой интуицией, чтобы не сказать – мистической силой. Лидия Чуковская, например, не раз писала, что Ахматова, не зная, что она к ней зайдет, открывала гостье дверь за мгновение до того, как та нажимала на кнопку звонка. Что-то такое, не поддающееся объяснению, чуяла, умела, знала Ахматова. Но самую страшную беду, вошедшую в этот дом без предупреждения, самое тяжелое расставание из случившихся здесь – расставание с читателями, запрет властей на ее стихи – этого не предугадала. Именно тогда, в 1924-м, когда она жила в доме Бауэра, два ее стихотворения – «Новогодняя баллада» и «Лотова жена» появились в «Русском современнике» и стали… последней ее публикацией – вплоть до 1940 года.
В те дни Ахматова встретит на Невском Мариэтту Шагинян, которая ей скажет: «Вот вы какая важная особа. О вас было постановление ЦК: не арестовывать, но и не печатать». Постановление это не нашли и поныне. Правда, готовилось уже постановление ЦК РКП(б) 1925 года «О политике партии в области художественной литературы»[48]. Впрочем, с Ахматовой все, думаю, было проще. Решение партии могло быть и устным: власть еще только училась бороться с поэтами, разные пробовала способы…
А вообще, дом у Прачечного моста станет для русской литературы, может, самым страшным из «совпадений» Ахматовой. Отсюда она уедет в Фонтанный дом, бывший дворец Шереметевых, где, выйдя замуж за Пунина, проживет почти тридцать лет. Когда-нибудь я расскажу о том доме, где теперь музей ее. Но Серебряный век поэзии закончится все-таки не там – скорее, в доме Бауэра, в комнатке за шестым окном. Ведь если помнить, что в этом доме с появлением на свет Мережковского родился когда-то Серебряный век, то с отъездом отсюда Ахматовой, которую как поэта запретят на долгие годы, этот век, кажется, и закончится.
Петербург Александра Блока
- Как тяжело ходить среди людей
- И притворяться непогибшим,
- И об игре трагической страстей
- Повествовать еще не жившим.
- И, вглядываясь в свой ночной кошмар,
- Строй находить в нестройном вихре чувства,
- Чтобы по бледным заревам искусства
- Узнали жизни гибельной пожар!
1. Александра Андреевна Блок, мать поэта, 1880.
2. Александр Львович Блок, отец, 1990-е.
3. Саша Блок пяти лет.
4. Александр Блок, 1907.
5. Любовь Менделеева-Блок, 1907.
6. Андрей Белый. Портрет работы Л.Бакста, 1906.
7. Наталья Волохова, 1907
9. Букет младенца… (Адрес первый: Университетская наб., 9)
Вот факт поразительный: Александр Блок впервые встретил свою будущую и единственную жену когда ему было три года. Его Прекрасной Даме в то время было и того меньше – два года. И случилось это в университетском дворе.
Блок родился в ректорском доме Петербургского университета, а его будущая жена – в главном учебном здании, в Петровском доме «Двенадцати коллегий», где аудитории, классы, библиотеки. Блок и будет для нее всю жизнь как бы «ректором», а она при нем – вечной, ничего, кажется, толком не понявшей, «студенткой».
Ректорский дом на Университетской набережной выходит фасадом прямо на Неву. Но поэт родился в комнате окнами во двор, это известно, на втором этаже. Окон тех сегодня нет. Литературовед Вл. Орлов утверждает, что в то время дом был «тоньше» нынешнего и со двора кончался там, где ныне расположен подъезд, ведущий на второй этаж. А главный вход был с набережной – его убрали при перестройке дома. Ныне вход как раз со двора. Теперь в этом здании профком университета, какие-то унылые конторы, пыльные стекла, забранные в решетки, временные перегородки, столы, шкафы впритык, расшатанные стулья.
О том, что Блок родился именно здесь, свидетельствует мемориальная доска на боковой стене дома, обращенной во двор. Доску эту устанавливал когда-то прямо с кузова грузовика друг моей газетной юности, тогда аспирант, а ныне профессор Петербургского университета Михаил Отрадин. Но вот подробность, ныне уже историческая: на фасад, выходящий к Неве и, следовательно, «к широкой общественности», повесить доску запретил тогда Ленинградский обком партии. Поэт, по мнению тогдашних «отцов» города, не достоин был такой чести. В начале 1920-х годов коммунистические вожди определяли: жить Блоку или умирать. Через полвека после смерти поэта их идейные наследники тужились определять, где висеть памятной доске в честь общенационального гения. Такие были времена.
А сто с лишним лет назад весь этот дом был казенной квартирой деда поэта, профессора-ботаника и в то время ректора университета Андрея Николаевича Бекетова, «бея среброгривого», как прозвала его за седую шевелюру и осанистость одна художница, которая рисовала профессору ботанические таблицы[49].
Если говорить о символах, предназначении, судьбе, столь важных для Блока, то следует сказать, что когда-то в здании, где он родился, был питейный дом купца Пушилова, и только в 1842 году, после того как архитектор А.Ф.Щедрин реконструировал здание, дом стал ректорским. До Бекетова здесь более двадцати лет жил поэт и словесник и тоже ректор университета П.А.Плетнев. Проснувшись, он мог, не вставая с постели, видеть по утрам в окне Исаакиевский собор на той стороне Невы, молодые деревья Сенатской площади и Медного всадника, как бы готового перемахнуть через Неву. И представьте, принимал в этом доме, за сорок лет до рождения Блока, самого Гоголя.
Впрочем, и сам Бекетов был весьма знаменит. Достаточно сказать, что прославленные женские Бестужевские курсы должны были по праву называться Бекетовскими: именно Бекетов организовал их в университетских городах России и десять лет был бессменным председателем педагогического совета. Но историк Бестужев-Рюмин, чье имя осталось навсегда связанным с курсами, более отвечал тогда «понятиям о благонамеренности» – дед Блока считался все-таки для властей, как писала его дочь, «человеком опасным и беспокойным».
Другое дело – научный авторитет Бекетова. Он как раз в глазах тех же правящих кругов был непререкаем. Лично Александр II приглашал профессора преподавать ботанику своим сыновьям. Платил по-царски – десять рублей за час плюс ежегодные подарки на именины вроде серебряного сервиза или золотой табакерки.
Да и жена «бея среброгривого» – бабка поэта – тоже была если и не знаменита, то известна. Она не только свободно говорила на французском, английском, немецком, итальянском, но и сумела стать блестящей переводчицей?[50]. Переводила
Флобера, Вальтера Скотта, Диккенса, Теккерея. Впрочем, все это меркнет, конечно, рядом уж с совсем удивительным фактом – ныне доказывают, что Блок, по отцу, был в свойстве с Пушкиным: племянник прадеда поэта, Александра Ивановича Блока, Иван женился на Надежде Веймарн – праправнучке Абрама Ганнибала.
Вообще связь с Пушкиным исследователи долго усматривали в другом – в том, что младенца Блока принимала при родах прабабка его, Александра Николаевна Карелина. Та, которая в молодости принадлежала к кругу Пушкина, была ближайшей подругой жены Дельвига, ученицей уже знакомого нам Плетнева, дружила с Анной Керн, общалась с будущими декабристами – Рылеевым, Александром Бестужевым, Кюхельбекером и Якушкиным. «Очень может быть и даже вероятно, – пишет все тот же Орлов, – что она лично знала и самого Пушкина».
Блок родился в разгар очередной вечеринки молодежи, которые часто устраивались либо в Белом зале ректорского дома, либо в гостиной. Гостей к четырем дочерям Бекетова собиралась тьма, а Александра, мать поэта, третья дочь ботаника, которую по-домашнему звали и Ася, и Аля, была не просто самой оригинальной, но, по словам младшей сестры, «всеобщей любимицей» и настоящим «сорванцом». Танцы, шарады, игра на рояле… Подруги сестер оставались ночевать после таких вечеров, а молодые люди являлись к завтраку и часто проводили в ректорском доме едва ли не весь день. «Вот в один из таких шумно-беспечных субботних вечеров Александра Андреевна… в январе 1879-го выданная замуж, – пишет Орлов, – почувствовала приближение родов. Веселившаяся молодежь и не подозревала о том, что происходило рядом, за стеной. К утру родился мальчик…»
Потом про дом этот Блок будет вспоминать: «Священен кабинет деда, где вечером и ночью совещаются общественные деятели, конспирируют, разрешают самые общие политические вопросы… а утром маленький внук, будущий индивидуалист, пачкает и рвет “Жизнь животных” Брэма, и няня читает с ним долго-долго: “Гроб качается хрустальный… Спит царевна мертвым сном”…»
Вещи, увы, живут дольше людей. В кабинете деда стоял письменный стол с колонками, большой диван, крытый шерстяной материей, на котором сиживали и Бутлеров, и Мечников, и Менделеев, кресло с высокой спинкой – все из светлого ореха. И диван с двумя откидными полочками по бокам, и упомянутое кресло, и, кажется, дедовский письменный стол, перейдя позже к Блоку, будут стоять сначала в его рабочем кабинете, а потом и в музее поэта, там, где была последняя квартира его (Офицерская, 57).
Был, кстати, в кабинете деда и огромный текинский ковер. Ковер, что называется, «с историей». Его прислали Бекетову из Средней Азии. Дело в том, что «среброгривый» не раз горой вставал за студентов, «карманы которых были набиты прокламациями “Народной Воли”» и которые из-за этого часто попадали в Дом предварительного заключения. В таких случаях ректор надевал виц-мундир со звездой и отправлялся хлопотать к градоначальнику. Одного студента, по выражению все той же тетки поэта, «неисправимого шумилку» Штанге, в течение года несколько раз сажали в тюрьму. Градоначальник, а им в тот год был небезызвестный Трепов, выслушав аргументы Бекетова, велел привести «студиозуса» и, повернув его лицом к ректору, крикнул с раздражением: «Вот он! Целуйтесь с вашим Штанге!» Забавно, но этот Штанге, сидя уже на извозчике, упрекнул своего освободителя: «Зачем вы меня взяли? Там публика-то была… хорошая!» А другой студент, Бонч-Осмоловский, вырванный когда-то А.Н.Бекетовым из рук полиции, напротив, в благодарность за освобождение прислал ректору зашитый в рогожу большой текинский ковер…
«Жили мы скромно, – “скромно” вспоминала на старости лет тетка поэта, Мария Андреевна Бекетова. – Держали кухарку, горничную, зимой еще так называемого “кухонного мужика” для ношения дров и разных посылок; для стирки и глажения брали поденщицу, а в ректорском доме был еще особый швейцар, без которого ректору нельзя было обойтись». Но именно этот «обязательный» швейцар, по-видимому, и не пускал потом в дом «ломившегося» к собственной жене отца поэта, Александра Львовича, юриста и философа, приват-доцента Варшавского университета. Трудно поверить, что швейцар не пускал близкого родственника, но еще трудней поверить, что приват-доцент, как утверждает тетка поэта, попросту бивал свою двадцатилетнюю худенькую и обаятельную жену. А ведь Александра Андреевна, дочь Бекетова и мать Блока, замуж выходила, казалось бы, за другого человека, который почти в одночасье сумел очаровать чуть ли не весь Петербург. В высоколобом салоне Философовой, например, на него, красавца-ученого, «демоническую натуру», едва ли не молились. Сам Достоевский, говорят, сравнивал его с Байроном и собирался сделать героем одного из своих романов. Но через год, когда он с молодой женой Сашенькой Бекетовой вернулся из Варшавы, открылось: этот «Байрон», «демоническая натура» не только тиранит жену, держит ее впроголодь из патологической скупости, но и попросту бьет…
Александр и Александра… Удивительно ли, что сына тоже назвали Александром. Отец поэта, Александр Львович, познакомился с Александрой Бекетовой в 1878 году. Корни его были из Германии. Сам поэт искренне верил потом «в легенду… будто бы один из предков его был врачом царя Алексея Михайловича». Прапрадед поэта, Иоганн фон Блок, был родом из Мекленбург-Шверина и действительно был медиком, отмечал В.Н.Княжнин, но в русскую службу вступил в 1755 году всего лишь полковым врачом и только тридцать лет спустя был назначен лейб-хирургом наследника престола, цесаревича Павла Петровича. Отец же Блока к медицине отношения не имел – занимался государственным правом. Из разрозненных и противоречивых мнений можно сделать вывод: человеком был по-своему замечательным. «Он озадачивал всех своими парадоксами и непривычными… мнениями, – пишет о нем М.А.Бекетова. – Многое говорил он, вероятно, из духа противоречия, в пику заботливым родителям, а впрочем, трудно нам было тогда понять этого демона жестокости и эгоизма с нашими старыми понятиями о гуманности, семейной любви и пр.»
Когда из Варшавы А.Л.Блок вернулся в Петербург вместе с женой, он вернулся исключительно для защиты магистерской диссертации. Блестяще образованный, говоривший едва ли не на всех европейских языках, он будет потом двадцать лет писать свой главный труд – философскую книгу «Политика в кругу наук». В Варшавском университете у него, утверждают, не было ни одного равнодушного слушателя: были или враги (огромное большинство), или страстные приверженцы, которых насчитывались единицы. Студентов своих доводил до истерик, в прямом смысле истязал непомерной требовательностью, спрашивая каждого на экзамене от часу до полутора. Говорят, что в припадках не скрываемой уже ненависти они не только сами начинали орать на профессора, не только в отчаянии бросали к его ногам его же литографированный курс, но и слали ему «ругательные» письма, в одном из которых он нашел приклеенную раздавленную моль. В анонимке содержалась «страшная» угроза: если он будет «резать» студентов на экзаменах, то погибнет, как «этот моль»… Но зато те немногие, кто выбирал его своим Учителем, боготворили его. «Для нас – молодежи, – вспоминала, например, Е.Герцык, – он был книгой неисчерпаемого интереса». А учившийся у него будущий профессор Рейснер, отец героини Гражданской войны Ларисы Рейснер (ее Блок узнает потом достаточно хорошо), вспоминал своего учителя как выдающегося ученого, личность весьма одаренную и даже… «с признаками гения».
Увы, некоторые «странности» его жизни если и можно объяснить сегодня, то только этими «признаками гения». Он будет до самой смерти жить отшельником в холодной, запущенной квартире, где все покрыто или газетами, или толстым слоем пыли. Экономя на освещении, он, как пишут, выходил читать на лестничную площадку, «где горел даровой хозяйский рожок». Десятилетиями носил засаленный сюртук, питался в дешевых извозчичьих харчевнях Варшавы. И все это не из-за бедности – он был обеспеченным человеком, а, по свидетельству публициста Е.А.Боброва, от «чисто плюшкинской жадности и скупости». Теми же словами пишет об отце Блока и тетка поэта: «Чисто плюшкинская скупость уживалась в нем с отсутствием расчетливости: ведь оба раза он женился на бесприданницах». Да, разойдясь с Александрой Бекетовой, он женился потом второй раз, но и вторая жена ушла от него, забрав с собой дочь Ангелину Оба брака он разрушил сам крайней своей нетерпимостью. Александра Андреевна даже напишет потом стихотворение о своей тяжкой жизни с мужем: «О, вспомни, как милый тебя проклинал, // Как гневно, жестоко тебя упрекал, // Как плакала ты, как молилась тайком // Здесь, в тихом саду над тенистым прудом. // О, вспомни, как здесь ты несчастна была, // Как смерть призывала и смерти ждала, // Как мучилась тяжко, всем сердцем любя // Того, кто терзал беспощадно тебя…»
«Я много раз задавала себе вопрос, – вспоминала М.А.Бекетова, – откуда взялся характер Александра Львовича. Его высокая интеллигентность, образованность и утонченность не вязались с его поведением. Бывают люди бешено вспыльчивые, которые не помнят себя в порыве гнева. Александр Львович не был таким: он умел мгновенно сдерживать себя, когда знал, что могут видеть, как он бьет жену, в этих случаях он проявлял даже низкие чувства. Александра Андреевна рассказывала мне как-то, что незадолго до рождения сына, когда она жила с мужем в ректорском доме, он повел ее в Мариинский театр слушать “Русалку”. Ей сильно нездоровилось, и она насилу досидела до конца оперы, домой пришлось идти пешком, так как конок по пути не было, а извозчика взять Александр Львович поскупился. Они шли по пустынной набережной. Пока никого не было видно, Александр Львович начал бить жену, не помню уж по какому пустячному поводу, может быть, потому, что она тихо шла и дорогой молчала и вообще не была оживлена, но как только показывался прохожий, Александр Львович оставлял ее в покое, а когда тот исчезал из виду, побои возобновлялись». Жуть какая-то, достоевщина. Но, повторяю, это слова тетки поэта, хотя верится в сказанное с трудом.
Она же, М.А.Бекетова, пишет, что А.Л.Блок бил жену и в ректорском доме. За то, что не любит пьесы Шумана, что плохо спела романс под его аккомпанемент (а играл он на рояле, по признанию все той же М.А.Бекетовой, как никто, «может, гениально»), не так переписала главу его диссертации. Дикость, конечно, но ведь и темперамент! Однажды, когда он в очередной раз затеял избиение жены на половине молодых, дед поэта, Бекетов, услышав непонятную возню на втором этаже, бросился наверх и, увидев, в чем дело, крикнул зятю: «Вон отсюда!» Тот мгновенно ушел, сказав, правда, при этом: «Я не знал, что вы дома…»
Вот тогда и началась жестокая борьба семьи с А.Л.Блоком, который, надо сказать, не допускал и мысли о разводе с женой. Когда его перестали пускать в дом, он стал часами во всякую погоду топтаться под ее окнами в университетском дворе, чем немилосердно терзал Александру Андреевну. «Она заболела от горя, плакала, томилась и должна была прекратить кормление ребенка, потому что у нее испортилось молоко». Словом, «среброгривый» не стерпел и написал зятю письмо, в котором, сказав, что его дочь «служила» ему «любовницею, экономкою, слугою, переписчицею и лектрисою», категорически вывел: «Осьмнадцатилетняя дочь моя вам настолько понравилась, что вы употребили некоторое усилие для ее заполучения. Усилия эти увенчались успехом, вы взяли себе эту девушку с ее согласия… Но вместе с тем вы желаете ее переделать вполне на свой лад… Но… Человек не есть ком пластической глины, который можно фасонировать по произволу…»
Известно, что отец Блока переписывался потом с сыном, посылал деньги (на его свадьбу, к примеру, прислал тысячу рублей, великая сумма по тем временам, и очень обиделся, что сын на свадьбу его, отца, как раз и не позвал); поздравлял с публикациями (хотя на первых порах предлагал сыну выбрать какой-нибудь псевдоним, ибо неудобно было ему, старому профессору, что его порой считали автором стихов «о какой-то “Прекрасной Даме”»); пытался вникнуть в круг интересов и занятий сына и просил «Сашуру» писать и «о житейском». Поэт отвечал отцу неохотно и лениво, иногда в переданных матери отцовских письмах делал многозначительные пометки красным и синим карандашом. Но когда отец умер, Блок, любя всю жизнь мать, сравнивая отца «и с ястребом, и с демоном», тем не менее, поехав на его похороны, написал из Варшавы: «Из всего, что я здесь вижу и через посредство десятков людей, с которыми непрестанно разговариваю, для меня выясняется внутреннее обличье отца – во многом совсем по-новому. Все свидетельствует о благородстве и высоте его духа, о каком-то необыкновенном одиночестве и исключительной крупности натуры…»
Вот так! Не написал, правда, что когда он вместе с другими родственниками и, конечно, с полицией вошел в убогое жилище покойника, ставшего, кстати, за два года до смерти деканом факультета, то в тюфяке на постели, как пишет Бобров, наследники «обрели целую калифорнию». Более восьмидесяти тысяч рублей серебром, золотом, билетами, облигациями, накопленных ценой неимоверных лишений за двадцать пять лет, были зашиты в матрасе профессора Александра Львовича. Плюшкин не Плюшкин, но профессор и матрас с деньгами – это все же странно. Деньги две бывшие семьи его поделили пополам. Блок именно из этих денег выплатит семь тысяч рублей тетке Софье Андреевне, выкупая себе в собственность подмосковное Шахматово, и еще четыре тысячи истратит на ремонт его. Домой же из Варшавы привезет какое-то серебро, дамский альбом 1800 года со стихами и рисуночками, две записные книжечки тончайшие, вышитые шелком, а также материнское «платье беж»… Умер отец поэта от чахотки. И смерть его, говорили, ускорило постоянное недоедание -жил он чуть ли не впроголодь…
Впрочем, все это случится в 1909 году, когда Блок будет уже известным петербургским поэтом. А пока Саше два года, и здесь, в ректорском доме, он больше всего любит бывать в бабушкиной спальне. Здесь пахнет ее тонкими духами Violette de Parme, шуршит ее черное атласное платье с отложным воротником из белого гипюра, привезенное из Парижа, и можно подолгу разглядывать ее флорентийскую брошь в золотой оправе: белая роза на черном фоне. Но главное, в спальне бабушки за белыми маркизами на окнах сверкала такая притягательная для ребенка Нева. На каком подоконнике здесь, на втором этаже, часами стоял двухлетний Саша, которого держала за бока Леля Мазурова, подруга его тетки, я, конечно, не знаю, но знаю, что будущий поэт до дрожи ожидал у окна выстрела полуденной пушки Петропавловской крепости и караулил хрипловатый свисток буксира «Николай», который появлялся на Неве всегда в один и тот же час. Саша считал, что буксир не свистит, а «сморкается». Что ж, не вполне благозвучная, но все-таки метафора. А может, это выдумка романтической Лели Мазуровой? Она питала страсть к поэзии, за ней даже ухаживал Надсон…
Когда А.Н.Бекетова, как человека «беспокойного, не внушавшего властям должного доверия», отстранят от ректорства, мать Блока переедет вместе с сыном в сырую квартиру на Пантелеймоновской (ул. Пестеля, 4), в угловой, у Соляного переулка, дом. Здесь, в верхнем, четвертом этаже сохранившегося и по сей день здания, в маленькой комнате, проживут полгода. Потом будет большая и дорогая квартира, которую дед поэта снимет на Ивановской (Социалистическая, 18/29). «Саше… было четыре года, – вспоминала М.А.Бекетова, – когда мы поселились на большой и прекрасной квартире на Ивановской, в том доме, где жила перед тем М.Г.Савина (актриса. – Тут у Саши с матерью была огромная комната, была в квартире и просторная зала, уставленная по всей стене красивыми тропическими растениями, доставшимися семье из университетской оранжереи. А в зале стоял концертный рояль, было много мебели, но оставалось и место для беготни ребенка. Пишут, что всю зиму маленький Саша проиграл здесь в конку… Но, прожив год, семья осенью 1886-го переехала в дом по соседству (Б. Московская, 9), напротив Свечного переулка. Именно там у Саши «завелись» лошадь-качалка и зеленая лампадка, известные ныне по стихам его. Там он играл в Полтавский бой, надевая детские латы и шлем, и там были написаны первые стихи – он сочинял их с семи лет…
Пока же в ректорском доме жизнь была, судя по воспоминаниям, еще вполне беззаботна. Это потом Александра Андреевна трижды попытается покончить жизнь самоубийством, окажется, к счастью ненадолго, даже в лечебнице для душевнобольных. А в ректорском доме, пока Саша слушал нянины сказки, в другом конце огромной квартиры, веселилась и буйствовала молодежь: тройки у подъезда, танцы, прохладительные напитки, шарады и буриме, музицирование и вспыхивающие романы – «разношерстные молодые люди – и кудлатые студенты, и военные». Военного и выберет потом себе в мужья мать Блока…
Оставим молодежь веселиться, вернемся в университетский двор, где встретились впервые трехлетний Александр Блок и Люба Менделеева. Да, судьбе было угодно, чтобы здесь же, в университете, оказалась в те годы и квартира великого Дмитрия Менделеева, отца Любы. Кстати, прямо над кабинетом Менделеева, ныне мемориальным, в главном здании университета располагалась церковь, в которой крестили новорожденного Блока. Университет, профессорская среда, один двор, одни коридоры – все это свяжет Блока и Любу Менделееву. Но что уж совсем удивительно, рядом, в семи километрах всего, окажутся и подмосковные дома Бекетовых и Менделеевых – Шахматово и Боблово. Там-то через полтора десятилетия они и полюбят друг друга – будут вместе играть в любительском спектакле. Гамлетом будет Блок, Офелией – Люба. Блок настолько увлечется сценой, так захочет стать артистом, что на вопрос модной анкеты: «Каким образом… желал бы умереть?» – тогда же ответит: «На сцене от разрыва сердца». Актером не станет, хотя в известном смысле и проживет, и умрет на сцене. Актрисой окажется его жена… Наконец, судьбе будет угодно там же, на даче в Боб-лове, как вспомнит потом мать Любы, чтобы трехлетний еще поэт, возвращаясь вместе с дедом с прогулки, подарил будущей жене букет собранных им ночных фиалок. Красиво, согласитесь, – первый букет будущей Прекрасной Даме.
А вот как начался их роман, об этом я расскажу у следующего дома поэта.
10. Предсмертная записка (Адрес второй: наб. Карповки, 2)
Здесь, в желтом здании Гренадерских казарм на слиянии двух рек -Большой Невки и маленькой Карповки, против Ботанического сада, когда-то (впрочем, столетие уже назад) были две офицерские квартиры – 7-я и 13-я. В них Блок прожил ни много ни мало семнадцать лет. Этот адрес стоит запомнить: так долго на одном месте он больше нигде не проживет.
Тут, в казармах, квартировал его отчим – гвардейский поручик Франц Кублицкий-Пиоттух, который дослужится потом до генерал-лейтенанта. Офицером по тем временам был «прогрессивным», хотя и давал иногда зуботычины солдатам. Это было в духе времени. Мать поэта, искренне, видимо, считавшая, что бравый гвардеец заменит Саше отца, ошиблась – муж оказался равнодушен к ребенку, и это стало для нее катастрофой. «Непоправимой и неизменной», как записала в дневнике ее сестра.
«Теперь уже ясно, – писала М.А.Бекетова в 1901 году, – что ключ всего в ее несчастном браке… Она становится все утонченнее и развитее, все исключительнее, а он и все его окружающие все те же… Существо неловкое и бездарное… Она способна его возненавидеть… а уйти не находит возможным ради Сашуры».
И впрямь – катастрофа! И катастрофой чуть не окончится здесь и жизнь самого Блока: он будет готов умереть по первому слову, даже записку приготовит, чтобы вьюжным ноябрьским вечером взять ее с собой…
«Две незабвенных комнаты, – так опишет это жилище Блока поэт Сергей Городецкий. – Я их помню наизусть. Первая длинная, узкая, со старинным диваном… с высоким окном; аккуратный письменный стол, низкая полка с книгами, на ней всегда гиацинт. На стене большая голова Айседоры Дункан, “Мона Лиза” и “Мадонна” Нестерова. Ощущение чистоты и молитвенности, как в церкви».
Дверь офицерской квартиры была, как десятки других, обита серым войлоком. Из огромного общего коридора, где гренадеров вполне можно было построить в пять и даже в шесть шеренг, а по-современному – из коридора, где ныне вполне могут разъехаться два внедорожника, вы попадали в переднюю Кублицких с высоким потолком и желтыми вешалками. Потом шла просторная белая комната с окнами на Большую Невку с бледно-желтым паркетом – цвет его неизменно нравился матери Блока, с зеленой, старых фасонов мягкой мебелью, с роялем и книжными шкафами. А за белой комнатой – оранжевая столовая, по размеру меньше гостиной. Так выглядела «половина» матери. У Блока же были кабинетик и просторная спальня. Именно их запомнил Городецкий. Кабинетик -очень строгая, длинная, однооконная комнатка: «объемистый письменный стол… очень мягкий диван, очень-очень удобное кресло… у окна цепенели два кресла и столик», где сиживала потом Люба, забираясь с ногами на сиденье и «собираясь в комочек». Так опишет эту квартиру Андрей Белый, который впервые появится в ней 9 января 1905 года.
Тогда, век назад, район у Ботанического сада считался пригородом. Во всяком случае, в двухстах метрах от казарм, на Аптекарском острове, стояла потом дача премьер-министра Столыпина, которую, как известно, взорвут боевики-эсеры. А через Большую Невку, на той стороне ее, из окон квартиры Блока видны были трубы заводов и фабрик…
Я попал в этот дом в неудачное время: шел грандиозный ремонт – на полу валялись куски штукатурки, еще тех времен, под обоями, наполовину сорванными со стен, виднелись слои старых газет, чуть ли не 1905 года, под ногами звенели осколки стекол, а красивый когда-то вестибюль выглядел как после взрыва. Длинными коридорами второго, а потом и третьего этажа я обошел десятки комнат с видом на Невку, пытаясь угадать, в какой из них жил когда-то поэт. Увы, не 7-ю, не 13-ю квартиру найти не удалось – все комнаты были похожи, как лица солдат, застывших в строю…
Я знал: из этого дома Блок впервые пошел в «страшно плебейскую», по его выражению, самую дешевую из классических гимназий столицы – Введенскую гимназию. Ее здание стоит до сих пор на Петроградской (Большой пр., 37). «Из уютной и тихой семьи я попал в толпу гладко остриженных и громко кричащих мальчиков, – с ужасом вспоминал он потом свой класс, – мне было невыносимо страшно чего-то, я охотно убежал бы или спрятался куда-нибудь… Главное же чувство заключалось в том, что я уже не принадлежу себе, что я кому-то и куда-то отдан и что так вперед и будет…»
«Около 500 человек всякого возраста, от 8 до 24 лет, и всякого состояния сходились здесь ежедневно, и гам стоял здесь, как в кипящем котле», – пишут О.Немировская и Ц.Вольпе в книге «Судьба Блока». Маленькие купцы, хлыщи, забулдыги – вот кого встретил здесь поэт. Некоторые ухитрялись просидеть за партами по одиннадцать лет вместо восьми. «Дети быстро развращались, – пишет один из биографов Блока. – Учились курить, говорили и рисовали много сальностей… Многие из таких, начав… заниматься уличным “ухажерством” и благодаря близости кафешантана… и раннему знакомству с пивными и всеми видами любви, сходили и вовсе на нет».
Одноклассник поэта, некий Барабанов, вспоминал: «Ребята относились к Блоку с интересом. В нем было много благородства, спокойствия – и это действовало… В шалостях Блок не принимал участия (…и его не втягивали), но если что-нибудь происходило на его глазах, он смеялся глазами… Блок был курчавый; его лицо напоминало изображения на старинных римских монетах». Если на старинных, да еще римских, значит, походил профилем на императора или хотя бы на легионера[51]. Но «император», представьте, был очень слаб в арифметике. «По русскому языку, – напишет его тетка, – дело шло гладко». Увы, и это не так. Твердая четверка была лишь по латыни. Зато с товарищами он отвоюет потом, «не без… скандалов», как напишет матери, лучшее место в классе – у стенки, где «при случае можно соснуть, списать и спрятаться», где он, как все, будет обзывать учителя космографии «сиамцем», а на любой призыв педагога по гимнастике отвечать мяуканьем.
Словом, учился неважно, как и полагается гению. С грехом пополам выдержал экзамены на аттестат зрелости (двойка по устной математике, тройки по письменным переводам). Но что эти тройки да двойки, если он еще гимназистом, как и Пушкин когда-то, познает «науку страсти нежной» – влюбится в женщину, которая была старше его на двадцать лет. Гимназистам запрещалось тогда не только носить тросточки и хлысты, но даже появляться в маскарадах, клубах, трактирах, кофейнях, кондитерских, бильярдных. А уж тем более появляться с женщинами. А он не издалека, как поклонялись женщинам мальчишки его возраста, не платонически – влюбился реально, с объяснениями, встречами, поцелуями. Нетрудно представить, как колотилось сердце подростка, когда он в «закрытой карете» увозил на свидание свою первую женщину – Ксению Садовскую. Между прочим, мать троих детей, жену статского советника. «Твой навсегда», -подписывал письма к ней и звал ее «моя лучезарная звезда». В искренности и прямоте его чувства я, скажем, не сомневаюсь. Но странно читать в дневнике М.А.Бекетовой сначала о том, что никакой любви не было, что «это она завлекала его, на все была готова», эта «несвежая женщина», а потом тут же увидеть иные, горделивые слова ее: «Но вот начало Сашуриного юношества. Первая победа. Она хороша. Она ему пела…»
Хорошо, что только «пела», как ни иронично звучит это сегодня. Ибо скоро один из давних друзей Блока по гимназии, тоже молодой еще человек, Кока
Гунн, в подобной ситуации просто застрелится. Это случится в пять утра на Клинической ездовой дороге. «Мечтательный и страстный юноша немецкого типа», Николай Гунн – с ним Блок сойдется со второго класса – жил бедно, мать его сдавала жилье за плату. Неизвестно, бывал ли Блок у него (Съезжинская, 12/21), но точно известно, что оба бывали у третьего гимназического друга, «щеголя и франта» Леонида Фосса. Сын богатого инженера, Фосс жил в красивом доме рядом с Блоком, на Лицейской (ул. Рентгена, 5). Там друзья сходились по вечерам, чтобы читать стихи, слушать, как Фосс играет на скрипке серенаду Брага, страшно модную тогда, и говорить «про любовь»… Так вот, после гимназии Блок потеряет Фосса из виду, а дружба с Гунном продолжится и в студенческие годы. Пока тот, став репетитором какого-то мальчика, не влюбится в мать своего ученика и в двадцать четыре года не застрелится. Из чувства безнадежности. Смерть друга сильно подействует на Блока, и он, написавший когда-то Гунну стихи «Ты много жил, я больше пел…», теперь напишет новые – «На могиле друга»…
Все это еще будет. Пока же здесь, в Гренадерских казармах, юный Блок заведет себе таксу Крабба, будущую любимицу свою, которую принесет в дом в башлыке. «У нас наконец есть собака, такса, по имени Крабб… какой великолепный щенок! – радостно напишет двоюродному брату Андрею. – Но он часто делает стыдные вещи в комнате и иногда на диване – его еще рано бить за это, потому что он не все понимает. Он играет с туфлями, рвет их и носит по комнатам, играет с кошкой и грызет ее… Они катаются вдвоем по полу. Он очень громко и весело лает, вообще – очень веселый и со страшно красивым и толстым белым животом…»
Здесь, в казармах, он начнет выпускать рукописный журнал «Вестник». Мать станет цензором, а сотрудниками – двоюродные братья Лозинский, Недзвецкий, москвич Сергей Соловьев (тот самый – троюродный брат!), бабушка и тетка, да еще кое-кто из знакомых. Дед «среброгривый», который жил теперь отдельно от внука, на Васильевском острове (Большой пр., 22), тоже примет участие в журнале, но лишь как иллюстратор. Блоку было уже шестнадцать, но, как пишет М.А.Бекетова, «уровень его развития в житейском отношении подошел бы скорее мальчику лет двенадцати». Наконец, здесь, в двух комнатах на Карповке, он будет читать родным и друзьям новые стихи и в конце каждого прибавлять короткое и диковатое слово «вот» – дескать, все, кончился стих. Эта привычка сохранится у него и во взрослой жизни, даже когда будет выступать со сцены…
Кстати, когда ездил за щенком, то на Андреевской улице Васильевского острова увидел вдруг выходящую из саней Любу Менделееву. Она шла на курсы по 6-й линии, Среднему проспекту, потом по 10-й. Блок, не замеченный, тихо последовал за ней. Зачем он, кажется, не объяснял и себе. Но так возникло вдруг странное стихотворение его «Пять изгибов сокровенных…», где «изгибы» – углы и повороты линий Васильевского острова. Люба жила на Васильевском: Д.И.Менделеев, потеряв кафедру в университете, снял квартиру рядом, на Съездовской (Съездовская линия, 7-9). Не знаю, бывал ли Блок на Съездовской, но с Любой они виделись летом на подмосковных дачах. Какие-то отношения продолжались с того детского букета фиалок, но, по ее поздним словам, все шло «как-то мимо».
Она запомнит встречу с Блоком, когда ей исполнится шестнадцать. «О день, роковой для Блока и для меня!» – писала не без свойственной ей патетики о том июньском дне в подмосковном Боблове. «После обеда… поднялась я в свою комнату во втором этаже, и только что собралась сесть за письмо – слышу рысь верховой лошади, кто-то остановился у ворот, открыл калитку, вводит лошадь… Уже зная, подсознательно, что это “Саша Бекетов”, как говорила мама… подхожу к окну. Меж листьев сирени мелькает белый конь, которого уводят на конюшню, да невидимо внизу звенят по каменному полу террасы быстрые, твердые, решительные шаги. Сердце бьется тяжело и глухо. Предчувствие? Или что? Но эти удары сердца я слышу и сейчас, и слышу звонкий шаг входившего в мою жизнь…»
Она кинулась переодеваться – батистовая розовая английская блузка с туго накрахмаленным стоячим воротничком и манжетами, черный маленький галстук, суконная юбка, кожаный кушак. А Блок, хоть и прискакал на Мальчике (так звали его коня), был в тот день в городском темном костюме и мягкой шляпе. Этот костюм его, а не форменный университетский сюртук очень охладил ее: ей на мужчинах нравилась форма. Пишет еще, что Блок все время «аффектированно курил». Впрочем, когда вместе с ее кузинами стали играть в хальму, игру типа китайских шашек, потом – в крокет, потом – в пятнашки и горелки, Блок стал «свой и простой, бегал и хохотал, как и все мы, дети и взрослые». Он, правда, заглядывался тогда на Лиду и Юлю Кузминых, которые, как пишет Люба, умели «ловко болтать и легко кокетничать». Это вызвало у нее чуть ли не ревность, более того, она посчитала Блока «стоящим по развитию ниже нас, умных и начитанных девушек». Хотя «женским глазом» отметила: в нем была какая-то непонятная «мужская опытность»…
Нет, он, как напишет, еще не волновал ее. Ему в ее глазах очень вредили прибаутки, длинные цитаты из Козьмы Пруткова и дурацкая, смешивающая языки присказка, которую «он вставлял, где надо и не надо: “О yes, mein Kind!”» А уж когда Люба поступила на Высшие женские курсы, когда вернулась из Парижа, где побывала с матерью на Всемирной выставке, когда в платье с Елисейских Полей стала появляться на студенческих вечеринках, то ей показалось совсем уж стыдным «вспоминать свою влюбленность в этого фата с рыбьим темпераментом и глазами». Так, во всяком случае записала в уничтоженном потом дневнике.
Она, разумеется, не видела, как он шел за ней незамеченным на Васильевском. Но после «изгибов сокровенных», я уж не знаю, нечаянно ли столкнулись они лицом к лицу на Невском? Не подстроил ли скорую встречу сам Блок?
Это случилось 17 октября 1901 года. Люба шла молиться в Казанский собор, Блок пошел с ней. «Мы сидели в стемневшем уже соборе на каменной скамье под окном, близ моей Казанской, – напишет она в воспоминаниях, имея в виду икону Казанской Богоматери. – То, что мы тут вместе, это было уже больше всякого объяснения. Мне казалось, что я явно отдаю свою душу, открываю доступ к себе». Собор станет постоянным местом их свиданий. Пока однажды на Введенском мостике, которого давно уж нет, Блок неожиданно не спросит, что она вообще-то думает о его стихах. Люба мгновенно ответит: «Ты – поэт не меньше Фета». Это и Блока, да и Любу, выпалившую слова не задумываясь, поразит необычайно. «Это было для нас громадно, – вспоминала она. – Фет был через каждые два слова. Мы были взволнованы оба, когда я это сказала, потому что в ту пору мы ничего не болтали зря. Каждое слово и говорилось, и слушалось со всей ответственностью»…
Кстати, стихи Блок читал артистично. Он ведь мыслил себя еще и актером, и однажды под псевдонимом Борский играл даже в открытом спектакле профессионального театра «Зала Павловой» (ул. Рубинштейна, 13). В последних классах гимназии, а потом на курсах драматической артистки Марии Читау специально занимался декламацией. Про дом, где располагались курсы Читау (Гагаринская, 32), даже напишет стихотворение. Туда же осенью 1901 года запишется и Люба. Мария Михайловна Читау не только будет хвалить ее за способности, но предложит «показать» Любу в Александринском театре на амплуа «молодых бытовых» – так это называлось тогда. Именно такие роли благодаря наблюдательности Любы ей удавались, но она видела себя еще иначе и, проучившись год, к Читау уже не вернулась…
Наконец, встречались Блок и Люба в ту зиму и в богатом особняке художника, академика исторической живописи Михаила Петровича Боткина, друга Дмитрия Ивановича Менделеева, с дочерьми которого дружила Люба. Этот особняк (18-я линия, 1/41), когда-то собственность князя Репнина, превратился в те годы в настоящий музей искусства. Чуковский запишет в дневнике про боткинский дом: «Квартира… превращена в миллионный музей». И добавит: этого терпеть не мог брат академика от живописи, Сергей Петрович, врач по профессии, который говорил, что в доме этом нет «ни одной порядочной комнаты, где бы выспаться», и что «искусство в большом количестве – вещь нестерпимая!» Сейчас, кстати, в доме на 18-й линии находится народный суд Василеостровского района, но зайдите сюда, не поленитесь, и увидите – лестница на второй этаж сохранила части резной деревянной панели, уцелели необыкновенные потолки, устоял через сто лет даже роскошный камин, видимо, там, где был когда-то Ореховый зал. Ступени лестницы покрывал толстый красный ковер, в котором утопали ноги, в углах высились громадные пальмы, а на втором этаже в сохранившемся зеркальном окне по-прежнему можно увидеть неописуемой красоты вид: Неву, Исаакий, мосты, огни. Здесь музицировали, танцевали, читали стихи…
«Очаровательные люди и очаровательный дом, – писала о Боткиных Люба. -Все дочери – серьезные музыкантши. В зале никогда не было слишком светло, даже во время балов – это мне особенно нравилось. Зато гостиная рядом утопала и в свете, и в блестящем серебристом шелке мягкой мебели…» Хозяйка дома, прознав о дружбе Любы с Блоком, позвала поэта сначала на бал (Блок не пошел), а потом на вечерние чтения, от которых он отказаться уже не смог. Для любителей хронологической точности скажу: он был здесь 29 ноября 1901 года. И может, в этот день, в мороз, провожал отсюда на санях Любу. «Я была в теплой меховой ротонде, – вспоминала Любовь Дмитриевна. – Блок, как полагалось, придерживал меня правой рукой за талию. Я знала, что студенческие шинели холодные, и попросту попросила его взять и спрятать руку: “Я боюсь, что она замерзнет”. – “Она психологически не замерзнет”, – ответил он…» И, наверное, не замерзла, пока сани сквозь снежок, фонари, через ледяные горки и горы мостов летели к дому Любы, на Забалканский (Московский пр., 19), где отец ее, Дмитрий Иванович Менделеев, став хранителем Депо образцовых мер и весов, получил служебную квартиру.
Блок стал бывать на Забалканском, в уютной квартире Менделеевых, где мать Любы развесила по стенам картины передвижников в золотых рамах. Теперь Блок опять нравился Любе. «Прекрасно сшитый военным портным студенческий сюртук красивым, стройным силуэтом вырисовывался в свете лампы у рояля… В те вечера я сидела в другом конце гостиной на диване, в полутьме стоячей лампы. Дома я бывала одета в черную суконную юбку и шелковую светлую блузку. Прическу носила высокую – волосы завиты, лежат темным ореолом вокруг лица и скручены на макушке в тугой узел…»
Она пишет, что к тому времени у всех подруг ее уже были серьезные флирты и даже романы с поцелуями, «с мольбами о гораздо большем». Одна она ходила, по ее признанию, «дура дурой»… Нет, после гимназии она «набросилась» на Мопассана, Бурже, Золя, Доде… Но, как красиво напишет о себе, «чистому все чисто». И ничего из книг о любви она не поняла, поскольку не знала «в точности конкретной физиологии». «Такую, как я, – честно признавалась, – даже плутоватые подруги в гимназии стеснялись просвещать», а откровенные фотографии, украденные девицами у своих братьев и показанные ей, ничему ее не научили. Люба, как пишет, ничего не заметила, «кроме каких-то анатомических “странностей” (уродств), вовсе не интересных…» Блок носил ей сюда «умные» книги Мережковского, Тютчева, Соловьева. Но она, увы, часы проводила перед зеркалом. «Иногда, поздно вечером, когда уже все спали, я брала свое бальное платье, надевала его прямо на голое тело и шла в гостиную к большим зеркалам. Закрывала двери, зажигала большую люстру, позировала перед зеркалами и досадовала, зачем так нельзя показаться на балу. Потом сбрасывала платье и долго-долго любовалась собой. Я не была ни спортсменкой, ни деловой женщиной; я была нежной, холеной старинной девушкой…»
Потом был какой-то разрыв с поэтом, когда почти год он приходил на Забалканский не к Любе, а как бы к ее родителям. Он даже, примерно в это время, напишет не без сарказма в своей записной книжке: «Студент (фамилию забыл) помешался на Дмитрии Ивановиче. Мне это понятно. Может быть, я сделал бы то же, если бы еще раньше не помешался на его дочери…» Да, Люба всерьез задевала уже душу его. А она в те же дни решила с ним окончательно порвать: «Я просто встретила его с холодным и отчужденным лицом, когда он подошел ко мне на Невском, недалеко от собора, и небрежно, явно показывая, что это предлог, сказала, что боюсь, что нас видели на улице вместе, что мне это неудобно. Ледяным тоном: “Прощайте!” – и ушла…» С ней в ту минуту было письмо к нему, которое она не отдала Блоку, но которое, как мне кажется, многое предугадало в их дальнейшей жизни. Нет, она не была «дура дурой»: чутьем, интуицией женской она многое поняла в нем! «Я не могу больше оставаться с Вами в тех же дружеских отношениях… – писала она. – Мы чужды друг другу… Ведь Вы смотрите на меня как на какую-то отвлеченную идею; Вы навоображали обо мне всяких хороших вещей и за этой фантастической фикцией… Вы меня, живого человека, с живой душой, и не заметили, проглядели… Вы, кажется, даже любили – свою фантазию, свой философский идеал… А я… живой человек и хочу им быть, хотя бы со всеми недостатками; когда же на меня смотрят как на какую-то отвлеченность, хотя бы и идеальнейшую, мне это невыносимо, оскорбительно, чуждо… Я Вам никогда не прощу то, что Вы со мной делали все это время – ведь Вы от жизни тянули меня на какие-то высоты, где мне холодно, страшно и… скучно».
Повторяю, письмо это Блоку не отдала, но, может, лучше бы отдала. Ведь почти все в их дальнейшей жизни она предугадала: и «философский идеал» -
Прекрасную Даму вместо теплой, живой веселой девушки, и «какие-то высоты» духа, обожествляемые им. Ведь тогда, возможно, не случилось бы того, что случилось…
Поэт, кстати, тоже после их разрыва написал три наброска письма к ней. «То, что произошло сегодня, – писал он, – должно переменить и переменило многое из того, что недвижно дожидалось случая три с половиной года. Всякая теория перешла непосредственно в практику, к несчастью, для меня – трагическую…» Дальше он каялся, писал, что готов понести кару, «простейшим разрешением которой будет смерть по одному Вашему слову или движению», писал о тоске, которая только ослабевает рядом с ней, но не прекращается. А во втором наброске призывал ее «всеми заклятиями», писал, что «что-то определено нам с Вами судьбой», что она останется для него «окончательной целью в жизни или в смерти». Вот так! Тоже, как и она, предчувствовал все: и судьбу их, и цель, и любовь к ней до самой смерти. Словом, отношения их, как нетрудно понять, натянулись к тому моменту до рокового, последнего предела.
Решительное объяснение, то самое, когда он встал на пороге смерти, состоялось 7 ноября 1902 года. Оно случилось в здании Дворянского собрания, там, где ныне филармония (Михайловская, 2) и где в тот день был устроен «курсовой вечер» Любы. С двумя подругами она, одетая в суконное голубое платье, забралась на хоры, сидела там в последних рядах «на уже сбитых в беспорядке стульях» рядом с винтовой лестницей и смотрела на нее, зная почему-то, что сейчас на ней покажется Блок. Позже и он признается, что, придя сюда, сразу же стал подниматься на хоры, хотя прежде Люба никогда не бывала там.
Винтовая чугунная лестница, та самая, цела и сегодня – слева от сцены. Трудно поверить, но именно по ней поднимался с колотящимся сердцем, с предсмертной запиской в кармане сюртука, взволнованный решающим свиданием Блок. По лицу его Люба поняла – сегодня… Часа в два он спросил ее, не хочет ли она домой. Она как-то сразу согласилась. Когда надевала свою красную ротонду, ее била сумасшедшая дрожь. Не сговариваясь, пошли направо по Итальянской, к Моховой, к Литейному.
«Была очень морозная, снежная ночь. Взвивались снежные вихри. Снег лежал сугробами, глубокий и чистый». Когда подходили к Фонтанке, к Семеновскому мосту, Блок сказал, что любит ее, что его судьба – в ее ответе. «Я отвечала, – пишет она, – что теперь уже поздно, что я уже не люблю, что долго ждала его слов. Блок продолжал говорить как-то мимо моего ответа, и я его слушала… потом приняла его любовь».
Она больше ни слова не прибавит к этому, может, главному моменту своей жизни. Идти от филармонии до Фонтанки – десять минут, даже меньше. Что же случилось по пути? Как и чем он сумел убедить ее в своих чувствах? Загадка, тайна. Известно только, что он, вынув из кармана сложенный листок и отдавая его, сказал, что если б не ответ ее, то уже утром его не было бы в живых. «В моей смерти прошу никого не винить, – говорилось в записке. – Причины ее вполне “отвлеченны” и ничего общего с “человеческими” отношениями не имеют. Верую во Едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь. Чаю Воскресения Мертвых. И Жизни Будущего Века. Аминь. Поэт Александр Блок».
Потом, уже где-то у Моховой, он, посадив Любу в сани, повез ее домой, на Забалканский. «Литературно, зная, так вычитала где-то в романе, я повернулась к нему и приблизила губы к его губам. Тут было пустое мое любопытство, но морозные поцелуи, ничему не научив, сковали наши жизни. Думаете, началось счастье?..»
Не думаем, нет, не думаем, ибо давно прочли о Блоке все, что можно. Но о том, что же все-таки началось в их отношениях, об этом – в следующей уже главе.
…На другой день после объяснения Люба, смеясь, сказала Шуре Никитиной, подруге, – специально пришла к ней на работу: «Знаешь, чем кончился вечер? Я поцеловалась с Блоком!..» А ему в тот же день послала записку:
«Мой милый, дорогой, бесценный Сашура, я люблю тебя! Твоя!..» «Сашура» – так Блока называли дома, она его так никогда не звала.
Может, поэтому, хотелось бы думать – именно поэтому, считала потом, что в записке этой «сфальшивила»?..
11. Любовь и… меблирашки (Адрес третий: Серпуховская ул., 10)
Есть в Петербурге дом, где Блок оставил тайный клад – послание в будущее. Впрочем, и сам дом, вернее, адрес его в известном смысле тоже небольшая, но тайна. Я говорю о меблированных комнатах, в которых за восемь месяцев до свадьбы Блок и Люба сняли комнату, чтобы, прячась от всех, встречаться.
Тайна адреса в том, что одни блоковеды твердо указывают на дом №10 по Серпуховской улице, а другие столь же упорно – на дом №23 по той же улице. Надо сказать, что в истории Серебряного века дом №10 по Серпуховской встречается и по другому поводу: здесь, в зале «Товарищества гражданских инженеров», однажды устроили «Вечер искусств» Городецкий, Ремизов, Ясинский и «крестьянские поэты» – Клюев и Есенин. Правда, было это значительно позже, уже в середине 1910-х годов. Так вот, взвешивая все обстоятельства, остается одно из двух: либо дом, в котором были меблированные комнаты, значительно изменился за десять-пятнадцать лет, изменился так, что в нем стало возможно проведение вечеров (в обычных меблирашках праздников искусств не устраивали!); либо меблированные комнаты, где поселились Блок и Люба, находились все-таки в доме №23, доме, который тоже сохранился, но с виду куда менее презентабелен и пышен. Я побывал, разумеется, и там, и там и, зная, что меблированные комнаты порой занимали лишь небольшую часть любого многоэтажного здания, склоняюсь думать, что комнату они снимали все-таки в 10-м доме.
Впрочем, нам важно другое. На этой улице, на Серпуховской, в двух шагах от Технологического института, Блок и Люба Менделеева почти два месяца «светились». «Светились» в обоих смыслах: и мелькали (проходили, пробегали, а верней сказать – пролетали!), и буквально горели внутренним огнем. Кстати, ни о каких, извините, «постельных делах» у молодых не было и речи – эти «дела» и после свадьбы возникнут не сразу. Встречались, чтобы окунаться в свой уютный мирок, быть рядом без посторонних взглядов, говорить – не наговариваясь -без чужих ушей. Тут проводили вечера, поджидали друг друга, оставляли и хранили письма. Любе это ужас как нравилось, казалось романтичным и взрослым.
А Блок замечал то, что не могла видеть она: слежку швейцара и лакеев, двусмысленные взгляды мужчин, всезнающие глаза встреченных здесь женщин, то есть всю ту «пошлость и грязь», без которых меблирашки были немыслимы. Но, увы, счастье, может самое полное счастье этой «предлюбви», длилось у них недолго. Через два месяца здесь случится полицейский обыск, хозяин меблирашек получит выговор за сдачу комнаты «без прописки», и Блок, собрав бумаги, торопливо подобрав даже шпильки Любы, немедленно съедет отсюда. Но оставит, как говорят, записку потомкам – сунет под доски пола. И ведь кто-то найдет ее, кто-то прочтет ее, а потом скомкает за ненадобностью и выкинет… Биографы поэта дорого бы дали за нее…
Студент и курсистка – они были сказочной парой. Это не мои слова, так написал о них друг Блока, поэт Чулков: они, по его выражению, были в то время «беглецами от суеты, хранящими тишину от “несказочных людей”». Так опишет их и Андрей Белый: «Царевич с царевной! Оба веселые, нарядные, изящные, распространяющие запах духов…» Правда, встретив тогда же своего знакомого, Белый неожиданно для себя выпалит: «Знаете, на кого похож Блок?.. На морковь…» «Что я этой нелепицей хотел сказать, – удивлялся потом, – не знаю». Встреча с Белым случится, когда Блок вместе с женой впервые приедет в Москву – и будет очарован городом. «Москва поражает богатством всего», – напишет матери. А в письме к другу, А.Гиппиусу, подчеркнет: «Московские люди более разымчивы, чем петербургские. Они умеют смеяться, умеют не пугаться. Они добрые, милые, толстые, не требовательные. Не скучают… В Москве смело говорят и спорят о счастье. Там оно за облачком, здесь – за черной тучей. И мне смело хочется счастья…»