Счастья и расплаты (сборник) Евтушенко Евгений
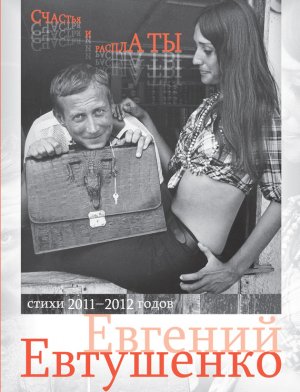
Когда моя съемка закончилась, я послал туда узнать, что случилось, одну временно работавшую у меня ассистентку. Она походила-походила, а потом, закрыв дверь кабинета изнутри, конспиративно понизив голос, сообщила:
– Ой, Евгений Александрович, там такое сотворилось, что Бог не приведи.
Мне одна знакомая по секрету рассказала в курилке, что Ролан мучает пугачевскую дочку – Кристину. У нее никак крик ужаса не получался. Столько дублей, а все насмарку. А Ролан якобы оказался самым настоящим садистом. Узнал, что она больше всего любит. Оказалось – своего домашего зеленого попугайчика. Тогда он велел, чтобы купили точно такого зеленого попугайчика. Наставили на нее камеру, а он выхватил из-за пазухи попугайчика и прямо перед ее лицом начал его душить. То-то она и завопила. А он не душил его, а только притворялся. Ее еле водой отпоили и домой увезли… Ну разве можно такие эксперименты над детьми ставить.
Я был потрясен. Ролан был и моим любимым актером и режиссером. Отношения у нас были самые дружеские. Иногда приглашал меня посмотреть свои новые куски и даже по моему совету выбросил один небольшой фрагмент из «Чучела». Смотрел, несмотря на занятость, мои только что проявленные эпизоды, многое подсказал. У меня неприятностей с отснятым материалом еще не было, а у него они были в полном разгаре, его все время вызывали на ковер, требовали то полностью выбросить ключевую сцену сожжения чучела, то сократить ее до минимума, то ввести каких-то положительных школьников, то смягчить якобы мрачноватый образ старика Бессольцева.
Совершенно истерзанный этими трусливо наглыми вторжениями в его душу, Ролан иногда вваливался в мой кабинет, откидывался головой на валик дивана и смежал веки, хотя не спал, а о чем-то думал. А потом открывал только что казавшиеся погасшими глаза, в которых снова плясали лукавые бесенята его неистощимой энергии, и делился со мной уже молниеносно выработанным планом контратак. Он мне всегда казался человеком из книжки о трех мушкетерах, но сразу всеми ими четырьмя – отчаянным фехтовальщиком Д’Артаньяном, и благородным трагическим Атосом, и хитрущим Арамисом, а иногда и чревоугодником Портосом.
Однажды, когда его картина буквально висела на волоске, он заглянул в мой кабинет и прочитал два стиха о мучительстве, которым его, к счастью, не сумели сломать:
Навсегда запомнилось вот это:
- И все это старо до неприличья,
- Распятье, смерть, Голгофа, и позор
- И в гибели ни капли нет величья,
- все буднично – и плаха, и топор.
- Не страшно. Унизительно и пошло,
- И нету бури чувств – одна тоска.
- Потом, когда все это станет пpошлым,
- красив и пистолет, что у виска.
Эту же тему продолжало и другое его стихотворение:
- ……………………………………………………………
- Какие мы страдальцы, что за вздор!
- Все суетимся около передней,
- скрывая тупо общий наш позор.
- Кому пенять! Воистину обидно,
- что сами виноваты мы во всем,
- и как нам всем по совести не стыдно,
- за то, что так беспомощно живем.
– А тебе не кажется, что это похоже на «Печально я гляжу на наше поколенье?» – спросил Ролан, ввинчиваясь в меня на сей раз неуверенными глазами юного поэта под уже седыми бровями.
– Ну зато ты в хорошей компании, – ответил ему я.
И он, как ребенок, улыбнулся. Однажды он очень хорошо написал о неотразимости алейниковской улыбки: «А улыбка Петра Алейникова и его пробивное обаяние могут служить эталоном в мировом кино».
К этой улыбке не будет ошибкой добавить его собственную, ролановскую. Но у Алейникова было в запасе только одно лицо – свое собственное, а Быков был тысячелик – не беднее Энтони Хопкинса, который сыграл одинаково блестяще и Пикассо и Никсона. А наш Ролан играл и Пушкина, и Ленина, и Сталина, и Хрущева, и Берию, и Бармалея, и Акакия Акакиевича, и скомороха времен Рублева, и жестянщика Мазаника в «Комиссаре» и, наконец, на гениальном взлете – профессора Ларсена в футурологических «Письмах мертвого человека» Лопушанского – фильме, показанном, но – увы! – почти никем не увиденном.
Быков знал себе цену, но никто из актеров не написал так много благородно-благодарного о других актерах.
«Современный актер существует в символической группе, где слева Иннокентий Смоктуновский, а справа Дастин Хоффман», с одной стороны, Михаил Ульянов, а с другой – Спенсер Трэси».
Я сказал своей ассистентке:
– Не верю я этой сказке про зеленого попугайчика. Сказки должны быть добрыми, а не злыми. Я хорошо уже изучил мосфильмовскую курилку. И ты эту сплетню на хвосте не разноси.
Но все-таки иногда меня раздирали сомнения. Тем более что эту сплетню мне пытались подсунуть еще несколько раз, но я ее беспощадно обрывал.
Однако вернемся к попугайчику. К тому самому, зеленому. Кто знает, я сам иногда становился чуть ли не бешеным, когда съемка не шла, а потом было стыдно. И вот совсем недавно, встретившись с Кристиной Орбакайте, спросил ее об этой истории, хотя, спрашивая, я чувствовал неловкость.
– Чепуха… – сказала она. – У меня никогда не было никакого зеленого попугайчика. Ну что вы, неужели еще не привыкли к подобного рода сплетням – они и про вас ходят.
Я с облегченьем вздохнул. Но самое главное, что «Чучело» вместе с Кристиной, Юрием Никулиным, Санаевой, самим Роланом – это режиссерский, сценарный и актерский шедевр, где нет ни одной малейшей ошибки в выборе всех участников, включая детей, стал не только крупнейшим явлениям киноискусства, но и гражданским событием России. За 15 лет преподавания в университетах США – в Филадельфии, Нью-Йорке и Талса я раз двадцать показывал этот фильм и особенно тронут был тем, что студентка из Объединенных Арабских Эмиратов в прошлом году написала работу «Как я была Леной Бессольцевой», только застенчиво краснея, попросила не читать этой работы вслух. А юная анголка тем не менее это сделала, хотя слезы мешали ей читать вслух. Студент из ковбойской семьи в своем маленьком рассказе поведал, что в нью-йоркской школе, куда его послали родители, к нему отнеслись, как к Лене Бессольцевой, насмехаясь над его оклахомским акцентом и провинциальными манерами, и ему пришлось уехать после половины курса домой. С того времени когда был поставлен фильм «Чучело», он, к несчастью, стал еще современней, ибо национальные классовые взаимоотношения трагически обострились во всем мире, да и в нашей стране. Быков поразил моих студентов и как актер – в роли еврейского жестянщика Мазаника в «Комиссаре», в роли Акакия Акакиевича, в роли партизанского командира в «Проверке на дорогах». Но ни одному государству, кроме нашего, не приходило в голову параноидально делать все, чтобы не делегировать наши многие лучшие фильмы на международные фестивали, а если они туда все-таки прорывались, то яростно делать все, чтобы они не получали премий. Так было почти со всеми фильмами Тарковского, которого довели в конце концов до эмиграции, с «Чучелом» Быкова, с «Агонией» Климова и, наконец, с «Комиссаром» А. Аскольдова, с «Проверкой на дорогах» А. Германа, пролежавшими более двадцати лет на полках. Наша кинополитика была построена по принципу крепостного театра. Тем более потомки наши должны преклониться перед памятью гениев советского кинематографа, делавших в нечеловеческих условиях великое человеческое кино. Но Вавилон иллюзий рухнул, и многие ремесленники, а не настоящие художники скоренько переменили прежнюю ориентацию на полный беспредел, что цепко ухватил своим цепким глазом Ролан:
- Покуда пролетарии всех стран
- к объединенью странному стремились,
- бездарности всех стран объединились
- в сплоченный мир бандитов и мещан.
А вот и по адресу некоторых режиссеров, сменивших советский цинизм – на постсоветский:
- Никто уже не видит
- ни солнца, ни луны.
- Кино теперь снимают,
- как на людях штаны.
Всего, что сделал Ролан Быков для нашего искусства, не перечислить – это, помимо фильмов, театральные спектакли, создание Детского центра кино, незабываемые публицистические выступления в прессе и по телевидению. А вот поэзию не забывал.
«Если б не стихи, я не смог бы, например, ни снять, ни защитить «Чучело». Меня обвиняли Бог весть в чем, хотели посадить, требовали запрещения фильма. Каждый день я возвращался домой раздавленным, убитым, желая только одного – чтобы это все кончилось.
По старой привычке я продолжал писать стихи, и они спасли меня, я выдержал»[14].
Энциклопедическая культура Быкова, как философа, еще далеко не оценена по заслугам.
Вот ряд его философем нам всем на дорогу.
«Где-то в дневниках у меня была формула: Это мир, где икона становится вещью, а вещь – иконой… Механизм мещанства – это система опошления всего и вся; бережливость становится жадностью, осторожность – трусостью; в области чувств то же – не страдает, а нервничает, вместо гнева – злоба. И мещанин часто интеллигенствует, а интеллигент не реже впадает в мещанство «по невозможности удержаться». Нынешняя цивилизация, все более обеспечивающая мир потребления и благополучия, привела мещанина к власти».
«Декларация прав человека возникла во времена расизма, и расизм отступил… Без декларации прав культуры права человека во многом ущербны… Человеку важно быть защищенным не только правово – не менее важно защитить его культуру – это главное… И мещанин часто интеллигентствует, а интеллигент не реже впадает в мещанство «по невозможности удержаться… Нынешняя цивилизация, обеспечивающая мир потребления и благополучия, привела мещанина ко власти».
«Письменность стала новым мозгом, вернее, у нее возможности мозга.
Это мозг человеческого духа – где человек исполнитель его произведений. Весь мир – театр, все люди в нем актеры. Конечная духовность материального мира – новый путь его развития».
«У меня даже есть государственный пост, который я сам себе придумал, – министр несогласия; я не согласен со всем, что не так, а всего – так много…»
В России сейчас говорят о «большом правительстве». Ну что ж, может быть, в нем найдется бюджетная должность хоть одного несогласного министра. Но если такой министр в перспективе уже планируется, то найдем ли мы сейчас нового Ролана Быкова?
Роланчик
- С характерцем тяжким Роланчик,
- с кепариком набекрень.
- он легок был, словно воланчик,
- даря лицемерам мигрень.
- Россия, не бойся романа
- с хранящими совесть твою
- людьми из породы Ролана
- в их блоковском вечном бою.
- Спасение, а не опасность —
- их искренние слова,
- и нравственная несогласность,
- когда их страна не права.
- Но этакие скоморохи.
- Россия, тебе не враги.
- Они же твои самородки,
- и ты их – смотри! – сбереги.
- Вел нежно мелодию музыки
- Ролан, режиссер-дирижер,
- Подрагивали его усики —
- он знал, что идет на рожон.
- На бледном лице от бессонницы
- в подглазьях синели круги.
- Беги, моя Лена Бессольцева,
- подальше отсюда беги.
- Но с нами всегда наше детство,
- надежды твои и мои.
- Не может быть, Леночка, бегства
- от совести и от любви.
- Был пик диссидентоискательства,
- раздавливанья идей,
- садистского невыпускательства
- стихов, кинофильмов, людей.
- Но кажется – там ароматнее
- дышали деревья, цветы,
- и было там больше романтики,
- наивности, и чистоты.
- А может, все это ощибочно?
- Foodmarket милей, чем сельпо?
- Живется не слишком ли шипочно,
- как раньше: «На Шипке все спо…».
- Иллюзии и проклятия,
- о, сколько вас было зазря!
- Как спится тебе, бюрократия?
- Похоже, что все в поря…?
- Мы к новой России обвыкнули?
- Мы в лучшей иль худшей стране?
- Эх, мне бы с Роланом Быковым
- поговорить хоть во сне.
Возженников Валерий
1941, село Сива Пермской области – 2011, Пермь
Мало кто писал о Боге так нежно, задушевно, запросто, словно о близком родственнике их семьи, которого он любил и уважал с детства, как Валерий Михайлович Возженников – поэт и преподаватель истории в селе Постаноги Пермской области.
- Как я светел был в ранних летах!
- Бог гладил меня по головке
- И покаяться в детских грехах
- Отсылал меня к божьей коровке.
- А теперь под Десницей стою,
- Прогуляв покаяния сроки,
- И, теряясь в неясной тревоге,
- Вижу грозного я Судию.
- Нет, убить никого я не мог!
- Но стою, будто в лодочке зыбкой.
- Где тот мальчик, которого Бог
- Привечал с неизменной улыбкой?
Вспомнился мне совсем иной и по масштабу, и по стилю поэт, как Пастернак. «О, весь Шекспир, быть может, только в том, что запросто болтает с тенью Гамлет». Пастернак достиг в конце концов поздней, но не запоздалой цели, каковая ему досталась довольно нелегко, когда в стихах из романа сумел-таки «впасть, как в ересь, в неслыханную простоту». А Возженникову словно и не пришлось добиваться этого «запросто» и этой «неслыханной простоты». В то же время он не перешел опасной границы, где начинается «иная простота, хуже воровства». Почему? Да потому что его отношение к Богу не банально. Многие из нас попрошайки, да еще и бесстыдно торгующиеся с Богом, стараются с ним договориться, что в обмен на «богоугодное» дельце он нам простит какое-нибудь мошенство или даже убийство. Словом, они пытаются втянуть Бога в свои делишки. А тут кристальный человек, никогда не мошенничавший, никого не убивший и все-таки боящийся, что Бог может быть недоволен им, хотя за что именно, человек сам точно не знает, а не хочет его подвести, потому что Бог так хорошо к нему относился с детства. Это не истеричный страх грешника, а необходимый страх не перед жестоким наказанием, а даже перед мягким, доброжелательным, но укоряющим за что-то взгляде друга – хотя бы за то, что он ожидал от нас чего-то большего. Для истинно верующих слова «Бог» и «Совесть» – синонимы.
Взаимоотношения с Богом у людей, родившихся в сталинские времена, были сложными. Лишь немногие решались на то, чтобы не скрывать, что они верующие, и подвергались тем или иным преследованиям. Многие свою веру прятали, молились тайком, боясь приходить в церковь – как бы не донесли. Я, например, долгое время не знал, что я был крещен моей бабушкой Марией Иосифовной, которая сделала это тайно, даже от моей мамы. Некоторые постепенно пришли к Богу от разочарованности в политике, пытавшейся насильственно подменить Бога, когда у них ничего не осталось, во что бы они могли верить, кроме христианства. Затем наступил другой период – когда христианство стало огосударствленной формой политической корректности, и легко заметить, как с тех пор неумело крестятся многие чиновники, шагнувшие прямо из воинствующих безбожников в ревнителей религиозной нравственности. Какой-либо развернутой биографии или автобиографии Возженникова я, к сожалению, не нашел, но мне кажется, что такая вера в Бога была им семейно унаследована.
- Мне, мой Бог, примнилось не однажды,
- Будто бросил ты меня навек,
- Будто я уже не ангел падший,
- А совсем пропащий человек.
- Если так, то не бывает хуже,
- То уж навечная беда:
- Как свечу,
- Задует Демон душу,
- Душу, недостойную суда.
- Боже, коль не бросил, так не мучай
- И прими участие в судьбе:
- Дай мне боль какую или случай,
- Как-нибудь напомни о себе.
Вот оно – истинное, на мой взгляд, христианство, это не унижающий, а возвышающий человека страх, когда он страшится не столь Божьего суда, сколь того, что будет этого суда недостоин. Если бы так чувствовали все, то думаю, что достоинства во человечестве прибавилось бы.
Коротенькое стихотвореньице об одинокой верующей поражает эпитетом по отношению к Богу. Как я ни проверял свою память, нигде не нашел аналога, за исключением совершенно не сопоставимого с Возженниковым поэта – Игоря Северянина. Он тоже однажды назвал Бога «милым». Но надо сказать, что у Северянина при всех его «грезэрках» и «ананасах в шампанском» попадались, правда редкие, но прелестные стихи о русской природе, о русской душе. Впрочем, это сказано не мной, что иногда кажущиеся противoположности неожиданно сходятся.
- Ничего у Бога не просила.
- Что подаст – считала сверх всего.
- Лишь всем сердцем Господа любила,
- Лишь его любила одного.
- Не боялась ни земли, ни неба —
- Крепче страха та любовь была.
- Без молитвы и без всякой требы
- К Милому с улыбкой отошла.
В чем разительное преимущество стихов Возженникова о Боге в сравнении со стихами, припадочно бьющимися лбом перед иконами, – в том, что у него нет никакой религиозной кичливости, превращающейся в чувство презрения и даже ненависти к тем, кто в не то и не так верит. Это стихи вообще не о какой-то единственно «правильной» надчеловеческой религии, которую необходимо навязывать всем нациям, а о человеческой совести, которая и есть самое главное во человецах. Его не зря уважали воспитанные им односельчане и любили его и как учителя, и как поэта.
- Здесь приливами накатывает рожь,
- И дорогу чужаки найдут едва ли.
- Приходи на Постаноги и поймешь,
- Что не все мы в этой жизни потеряли.
- Сам услышишь, как поют перепела,
- Встретишь девушек с пречистыми глазами,
- И увидишь ты, какою Русь была
- До падения Козельска и Рязани…
Пермский поэт Юрий Беликов, заботливо собравший многие стихи Возженникова, в своей прекрасной статье «Предпочтя небесное крылечко» привел рассказ одного свидетеля, что именем Возженникова останавливали даже драки.
«Две ватаги схватились даже за монтировки. Я им кричу: «Вам историю-то кто преподавал?» – «Валерий Леонидович». И монтировки сами выпали из рук». Он родился в 1941 году и, конечно, не мог воевать. Но никто, пожалуй, с равной проникновенной горечью не написал такого исповедального от имени многих ветеранов стихотворения, как «Боль фронтовика». Редкое, родниковое, целомудренно чистое дарование. О чем бы он ни писал – о Боге, о фронтовиках, о деревенских старушках, о природе, – это всегда были стихи о любви.
Боль фронтовика
- Родина, как я тебя любил!
- Под Москвой не прятался за танком.
- Шелк твоих знамен боготворил
- И армейским кланялся портянкам.
- Мир тобой был увлечен всерьез.
- Сам свернул бы на твою дорогу.
- Но когда ты встала в полный рост,
- Почему не поклонилась Богу?
- А теперь, мой аленький цветок,
- Вся ты уместилась на петличке.
- «Чья Москва и чей Владивосток?» —
- Бомж меня пытает в электричке.
- Сдали выси, веси, города…
- Ну а как высоко ты стояла,
- Знала только падшая звезда,
- Помнит только донышко Байкала.
- Добивают мое поколение.
- Добрались и до скорбных камней.
- Что ни год,
- этот свет все чужее мне,
- А тот свет
- с каждым годом родней.
- Там не пишут историю заново
- И мое поколение чтут.
- Там друзья мои песни Фатьянова
- На небесном крылечке поют.
«Навалились страхи и печали…»
- Навалились страхи и печали,
- Снятся космы черного огня.
- Но приходит мать моя ночами
- Попроведать грешного меня.
- Как всегда поправит одеяло
- И от сердца пламень отведет,
- Будто никогда не умирала,
- Лишь поутру из дому уйдет.
- Запоет синицей половица
- И повеет шепот золотой:
- Нам с тобой, сынок, не разлучиться,
- Я еще возьму с собой.
- Не прельщаюсь
- Горними цветами,
- И, почуяв этой жизни край,
- Не о рае думаю, о маме,
- Там, где мама, там и будет рай.
«Живем не в раю, а под мраком…»
- Живем не в раю, а под мраком,
- Но это сверхмилости мрак.
- Вновь полюшко светится злаком
- И весь в незабудках овраг.
- И, жгучую чувствуя грешность,
- Однажды в тишайшем цвету
- Вдруг вздрогнешь:
- Какая же нежность
- Царит в том небесном саду!
- А чья-то душа или птаха
- так горько заплачет в зарю,
- как будто пролетом из мрака
- на вечные муки в раю.
- Испытан я был этой пыткой.
- С тех пор, как душой ни горю,
- стараюсь не хлопнуть калиткой
- в своем заповедном краю.
- Вновь полюшко светится злаком
- И весь в незабудках овраг.
- Живем не в раю, а под мраком,
- Но чуден от Бога и мрак.
Чье имя драки останавливало
- Беспамятным во устыжение,
- и просветление всех нас
- горит звездиночка Возженникова,
- которой стольких юных спас.
- Он был поэтом и учителем,
- глазами тепел – не свинцов,
- не усмирителем – мирителем
- буйноголовых сорванцов.
- Всегда поэзия серьезная,
- где с Богом спорит ученик,
- явление религиозное:
- сквозь строки брезжит Божий лик.
- Однажды шел по сельской улочке
- былой пермяк, забывший спесь,
- кто помнил то, чему наученный
- он был Возженниковым здесь.
- <…>
- Ему в знакомой сваре уличной,
- где прячут финку в рукаве,
- припомнился царевич в Угличе
- на свежескошенной траве.
- Провидя жертв новоопричнины,
- дымился набрызг от ножа,
- как ожерелие брусничнoe
- на шее отрока дрожа.
- Так озверевшая нечаевщина
- с хмельного зуда в кулаках,
- с нечаянности начинается
- на пустырях и тупиках.
- А после – не мишени баночные,
- что из-под печени трески, —
- в подвалах выстрелы лубяночные
- в затылки чьи-то и виски.
- <…>
- И бывший ученик Возженникова
- ворвался в свалку пьяных туш,
- надеясь мало на возжжение
- уже почти погасших душ.
- «Вам кто преподавал историю?» —
- вопрос хлестнул, как Божий бич,
- и совесть вдруг из всех исторгнула:
- «Валерий Леонидович!»
- Они, наверно, лишку выпили,
- не нанеся, по счастью, ран,
- и монтировки сами выпали
- в неокровавленный бурьян.
- И враз все замерли пристыженно,
- разжали даже кулаки,
- себе со вздохом не простившие,
- какие были дураки.
- Ну, слава Богу, что одумались.
- А стольким снова невтерпеж,
- и злоба пострашнее дурости,
- той, что хватается за нож.
- Как семечки, всех пришлых лузгая,
- форсят убийцы напоказ,
- и русских убивают русские,
- когда и так все меньше нас.
- Антихристята недостойные,
- ужель бессмысленно, как встарь
- «Вам кто преподавал историю?»
- с креста кричать в безликость харь?
- Не дай нам, Боже, расставания
- с людьми такими на Руси,
- чье имя драки останавливало
- без мановения руки!
Владимир Вишневский
Москва, 1953
Наш Сострадамус
Вы знаете, я еще не встречал ни одного человека, который так блистательно мог бы сыграть Остапа Бендера, как Владимир Вишневский. Для того чтобы Володе сыграть Остапа, ему было бы достаточно быть собой. У него бы эта роль пошла бы как по маслу. Кому-то может показаться, что таким сравнением я хочу унизить Вишневского? О, нет. С моих лет десяти Остап для меня всегда был одним из романтических героев, а вовсе не мошенником. Вы ведь вдумайтесь – главными персонажами, которых так обожал с наслаждением разоблачать, выводить на чистую воду Остап, были именно мошенники. Остап никогда не делал своими жертвами так называемых безвредных людей, за исключением, пожалуй, невыносимых дураков, ибо их дурость все-таки должна быть наказуема, ибо далеко не безвредна. То же самое относится и к поэзии Вишневского. Еще у них есть общий с Остапом смертельный враг – это скука. Скуку, увы, все больше и больше привыкают разгонять не мудрым остроумием, а пошлостью – своеобразным наркотиком недоинтеллигентности.
Бывают и великие анекдоты, и замечательно едкие словечки. Но есть и анекдоты отвратные, национально оскорбительные, и словечки невыносимо грязные, и хохмы наигнуснейшие. Так вот что сделал Вишневский: идя по стопам соавторов Козьмы Пруткова, он блистательно пародирует пошлость, доводя ее до антиафоризмов, и откровенно издевательски, но по заслугам, рисует образ современно самоуверенного антигероя в стиле «метро», «прикольного» мачо, изрекая то, что должно казаться принадлежностью некоего особого круга, говорящего на уродском «сленге чатов», когда узнают «своих», как по коду избранных. Вишневский показывает, что за их убогим «интересничаньем» скрываются очень часто на самом деле скучные серые люди. Они сыто похохатывают над стихами и самого Вишневского, потому что их самодовольство не позволяет им догадаться, что это он показывает им их самих. Так вот почему, слава Богу, не были тронуты как враги народа Ильф и Петров, показавшие Бендера, выглядевшего чуть ли не одесским Робин Гудом, на фоне комчванства нового класса, тупо возомнившего себя гегемоном, хотя сей главенствующий класс прекрасно уживался с тайным новым классом застенчивых и беззастенчивых альхенов. Вся расплодившаяся номенклатура и совмещанство гоготали над собственными портретами, написанными в «Двенадцати стульях» и «Золотом теленке», а также в «Растратчиках» и блистательной миниатюре Катаева «Вещи», и конечно, в кунсткамере двадцатых и ранних тридцатых, собранной Зощенко. Вишневский пишет весьма часто свои одностишия как монологи от первого лица, являющиеся на самом деле портретами презираемых им людей, но которые можно ошибочно принять за портрет автора. Рисковая игра. Помню, что когда я иногда оказывался в ресторане с Юрием Никулиным, наш стол немедля покрывался бутылками водки, присылаемыми с других столов, хотя Юра только играл пьяниц, но никогда им не был. Но так Вишневскому легче вращаться среди натурщиков своих будущих персонажей. Есть, конечно, поговорка «С кем поведешься, от того и наберешься», но я надеюсь, что к Вишневскому это не прилипнет. Ему, безусловно, помогает выстоять его читательская культура – мало кто из сегодняшних поэтов помнит столько чужих стихов и настолько независтлив к другим поэтам, и он один из немногих, кто ходит на их вечера. Недавно Володя звонил мне с проектом воскресить коллективные вечера поэзии в Лужниках. Бендер, как буржуа, непредставим. Вишневский представим, но не как буржуа, а как певец во стане чужеродном. А когда я однажды был на корпоративке одного из наших телеканалов, где был весь бомонд наших масс-медиологов, мне невольно пришла мысль о том, что буржуа были и на сцене, и в зале за столиками.
Разница у нас c Володей 20 лет. Она постепенно стирается. Все больше и больше становится общего. Мне нравится, что, имея репутацию Дон Жуана, он на самом деле по-хорошему патриархален. Не представляю его бьющим лежачего, а ведь много вокруг нас готовеньких именно так присоединиться к очередному одобрямсу. Вишневский по психологии из чуть припозднившихся шестидесятников и научился у них очень многому, в том числе гражданскому неравнодушию;
Быть заменимым некрасиво…
Да, я пророк, но я же Сострадамус!..
Уже пора не спрашивать: «За что?»
Ты моя УМОМНЕПОНЯТЬ…
Наш рот всегда открыт для диалога…
За мной не заржавеет, – сказало государство…
На том стоим, на то же и живем…
Не каждый свитер неразрывно связан…
Советский тоник – джиноненавистник!..
…И – кофе для оставшихся в живых!..
…И вновь я не замечен с Мавзолея!..
- Роняя ключ, прижав к груди буханки,
- Вот так войдешь домой, а дома – танки.
Давно не выпивали мы с Сальери!..
Сегодня в сексе все важнее бартер…
Учти: уйдут одни, придут другие…
«Я не одна», – потупилась беда…
Пора и на горшке определиться!..
А всех, кто дышит, я бы попросил…
Я не злопамятен. Не помню и добра…
Я вам приснюсь – пошел гримироваться.
- Опасливо, надеждами киша,
- Из пяток возращается душа,
- Но отношенья пяток и души
- У нас традиционно хороши.
- Я с тоски Мандельштама строку разверну:
- Мы живем, на себе слишком чуя страну.
Вседолампочкизм для него несвойственен, как для многих его сверстников. Он иногда обижается, что ценят больше всего его одностишия, а не его лирические стихи. А разве это не лирика, но особая, сатирическая – его одностишия. Они бывают и зубастыми, но и мягкими, сострадательными. Вот, например: «Я не одна», – потупилась беда». Это же фольклорный шедевр будущего.
Вишневский не изобрел одностишийности как жанра – он существует с древности, этим грешанул разок даже такой застегнутый на все пуговицы Валерий Яковлевич, и Николай Иванович этого не чурался.
Вишневский отличается от многих эстрадных щекотателей пяток. Прочитайте его стихи о концерте в начале девяностых – расцвете народного оглупления дешевой попсятиной. Он в шутку назвал себя Сострадамусом. А это не шутка. Его сострадание к радостно оглупляемым в том, что он не дает им своей лирико-сатирической нежной издевочкой глупеть еще больше.
- Да, нелегким год минувший выдался.
- Дом наш политически вверх дном.
- Все же хорошо, что я запутался
- В бабах,
- а не в чем-нибудь ином.
А я решился дерзнуть написать пародию на одного из самых лучших, лекарственно полезных обществу пародистов действительности – Володю Вишневского, с которым наша страна никогда не соскучится! Представляю, как он может мне отомстить тем же самым. Жду не дождусь.
- Всегда,
- вкушая с вишнями вареники,
- Купляйте мои книги,
- современники.
- Не верю сам себе, что я – тот самый.
- Мне нравятся не все мои стихи.
- Я сам внутри себя многопартиен.
- Я к олигархам,
- как Маклай-Миклуха,
- Хожу читать миссионером духа,
- Но только лишь народу поднароден,
- И потому я так неоднороден…
- Однажды я в Америке с тоски
- Надел под утро разные носки.
- И у американского народa
- Пошла с того утра такая мода.
- Когда я ногу невзначай сломал,
- Сам Евтушенко тоже захромал.
- Хотя в судьбе немало было терний,
- Был в педикюрной рядом с Тиной Тернер.
- Мне слово «секс» всегда казалось узким,
- Каким-то недоделанным, нерусским.
- Я помню одного текстовика.
- Он говорил: «Переживу века…»
- И каялся пресыщенно и вяло:
- «Не торговал я лирой, но бывало…»
- А я подумал:
- «Эта вот строка
- Переживет, наверное, века».
- Я раньше так считал:
- уж раз ты дева,
- Дозволь мне привилегию раздева.
- Готов был встать я в «Бентли» на запятки.
- Зачем играть со мной губами в прятки?
- Шептал: «Не соблазняй».
- Но жар соблазна.
- Ты предвари мне шепотом:
- «Согласна».
- Все это в прошлом.
- Стал почти невинным
- Отцом, счастливым мужем,
- семьянином.
- Настолько ухайдакался в альковах,
- Что возмечталось в нежных быть оковах!
- Не верь сама себе, что ты с Вишневским.
- Уж если залететь,
- то выше не с кем.
- Всех под семейным русским небосводом
- Еще раз поздравляю с Новым годом!
Как из страниц слагается и повесть, так из людей слагается и совесть
Антанас Суткус, великий литовский художник-фотограф, со свойственной ему душевной щедростью сделал заслуженный комплимент Альгимантасу, сказав, что он «еще фотограф». Я сам почти никогда не фотографировал знаменитостей, за исключением Марчелло Мастрояни и Виктора Шкловского, потому что примелькавшиеся лица мне казались менее интересными, чем лица людей, которых в их жизни фотографируют лишь для паспортов. Но Альгимантасу в лучших портретах книги удалось показать нечто, что никто не увидел до него на этих замученных фотографами жертвах собственной популярности.
Именно поэтому, когда я увидел портрет Ахеджаковой Альгимантаса, у меня сразу родилось новое стихотворение, подсказанное этим портретом. Он открыл, что в этой замечательной актрисе есть та трепетная детская неуверенность в себе, которая является доказательством неслучайности ее призвания, гораздо большая, чем самоуверенность, лишенная священных сомнений.
- Вот Ахеджакова. Так кротко
- Глядит, как будто бы сиротка,
- но тайно знает, что она
- Россией удочерена.
Портрет Беллы Ахмадулиной, которую иногда сильно огламуривают, сделан Альгимантасом в трагическом ключе. Некоторые поклонники, упиваясь тонкостью ее поэзии, забывают о том, что при всем ее лиризме и отсутствии так называемой «злобы дня в стихах» она совершила немало смелых гражданских поступков, в частности навестив академика Сахарова в Горьком, поддержав его в трудные годы ссылки, на что мало кто осмеливался. Я напомнил им об этом.
- Неужто больше не будет Беллы,
- Высокопарности нараспев,
- А лишь плебейские децибелы
- Соревнования на раздев?
- А в Белле нам слышались Анна, Марина,
- и Пушкин, конечно, и Пастернак.
- Все было старинно, чуть стеаринно,
- и было прекрасно, что вышло все так.
- Какую я чувствую, Боже, пропажу,
- как после елабужского гвоздя.
- Незнанья истории я не уважу…
- Ну, —
- кто раздвигал хризантемами стражу,
- так царственно к Сахарову входя?
Скупой, но выразительный портрет Н.П. Бехтеревой – достойной внучки великого деда, поставившего правдивый диагноз сначала Ленину, а потом Сталину, за что он, возможно, поплатился жизнью, навеял вот такие мои размышления:
- Диагноз Сталину для деда стал смертельным,
- а внучка, как с крестом его нательным,
- продолжила все то, что дед не смог,
- входя в пещеру подсознанья – в мозг,
- но не весвластна Ариадны нить —
- ведь нити лабиринт не изменить.
Академик Жорес Алферов не принадлежит к тем людям, которые с легкостью меняют свои убеждения, и не сдал своего партбилета, потому что он когда-то вступал в партию не для карьеры, а по убеждениям. Ну что же, можно уважать человека за постоянство, которое, в его случае, совсем не похоже на чье-то догматическое упрямство или оправдывание сталинских преступлений. Он остался верным не антисоциалистичной зачастую практике нашего социализма, а его благородным в замысле идеалам, которые неотделимы до сих пор от алферовской нравственности. Наш социализм внутри отдельно взятой страны, увы, – не получился. Но в некоторых отдельно взятых людях, как Алферов, и во многих шестидесятниках, которых мы безвозвратно потеряли, социализм все-таки состоялся. Таков Алферов. Таков великий гематолог Андрей Воробьев, уволенный с поста министра здравоохранения РФ Ельциным, которого он столько раз спасал. Таков мой друг проектировщик Братской ГЭС Алексей Марчук. Жаль, что их нет в твоей книге, Альгимантас.
- Остался красным. Но не светофором.
- В нем для живых идей зеленый свет.
- Он в надпартийной партии, – Алферов,
- где Галилеем выдан партбилет.
Олег Басилашвили не принадлежит к разбитным Актер Актерычам. Он настоящий интеллигент до мозга костей. Гражданин, выступающий за сохранение совести, которую не может подменить ни одна конъюнктурная идеология. Он привносит эту убежденность во все свои роли, даже в роль Воланда. Фотоаппарат Альгимантаса почувствовал и это.
- Он Воланда сыграл таким усталым.
- Мессиру за века обрыдла шваль.
- В нем Воланд говорил, как анти-Сталин:
- «Мне тех, кто не жалел людей, не жаль».
К такой же плеяде актеров с гражданственной жилкой относится и Петренко, чей диапазон так широк – от Распутина до не менее блестяще сыгранной роли рабочего в «Двенадцати» Никиты Михалкова. Я позволил себе историческую фантазию, представив себе историю России, что случилось бы, если бы на месте Распутина в 1914 году оказался бы сыгравший впоследствии его роль Алексей Петренко.
- Когда бы сам Петренко был Распутиным,
- то, пожалев заранее бы нас,
- всех заговоров ниточки распутал он,
- от Первой мировой Россию спас!
- Не перешла б Февральская в Октябрьскую,
- никто б не гаркнул: «Караул устал!»
- Народ бы не влачил жисть новорабскую,
- небедных раскулачивать не стал.
- И никакой бы Берия не катствовал,
- и потихоньку развивалось все,
- и Ленин бы в Симбирске адвокатствовал,
- и банки чуть подграбливал Сосо.
Появление в этой книге нового, изменившегося Бориса Гребенщикова немножко навело меня на грустные мысли, но они уступили чувству благодарности этому поэту-певцу за то, что он после стольких перетурбаций все-таки сохранил свою, хотя и трансформированную временем, единственность.
Б.Г.
- Стал Борис Гребенщиков,
- блудный сын большевиков,
- при колечках, при серьге,
- при кокетливой косичке,
- чуть мятежный по привычке,
- но уже и дегустатор,
- ощущающий устаток,
- боль артритную в ноге,
- утонченно безнакальный,
- но все тот же уникальный,
- чуть вертинистый Б.Г.
У Зураба Церетели много завистников и недоброжелателей. Я их не люблю гораздо больше, чем его некоторые неудачные проекты. Мне далеко не все нравится в том, что он делает. Но меня мои недоброжелатели называют самовлюбленным человеком, а между тем я сам признался, что 70 процентов написанного мной – это искренний хлам. Когда человек работает буквально на износ, то высокий процент шлака неизбежен. Тем не менее нельзя забывать, как Зураб изначально талантлив и трудолюбив, как он некогда изменил все Черноморское побережье своими мозаиками, которыми все когда-то наперебой восхищались, и некоторыми его монументами и картинами тоже. Портрет его безвременно ушедшей жены, – это, по-моему, шедевр. У него есть одна лучше другой на грузинские темы и картины в музее на Пречистенке, и своеобразнейший барельеф Андрею Вознесенскому. Я до сих пор считаю, что самым лучшим проектом памятника Окуджавы был именно церетелевский, где так ностальгически использованы мотивы тбилисских улиц, переходящих в арбатские, но члены жюри проголосовали против него – бьюсь об заклад – только потому, что автором был Церетели. А сколько он сделал для других художников – за это ему самому памятник надо поставить при жизни. Его широта и щедрость по отношению к другим неисчерпаемы, и это тоже надо ценить. Так, например, он по первому моему полуслову подарил для моего музея авторскую копию памятника Булату. Но далеко не всегда ему платили благодарностью. Его дом в Гульрипше (Абхазия) был варварски разрушен и разграблен, как, впрочем, и мой, хотя он делал все, чтобы абхазцы и грузины нашли все-таки общий язык и помирились.
Никогда не забуду, что когда я никого не мог уговорить сделать выставку павлодарского самородка Александра Бибина, чьи картины вы можете увидеть в моем переделкинском музее-галерее, то только Зураб, отложив все дела, взялся за это. Альгимантас многого, о чем я говорю, не знал, но почувствовал это с фотоаппаратом в руках.
- С какою тайной целью в теле
- он так подвижен, Церетели,
- одновременно тут и там?
- Chercher, но и не только дам!
- Не создан он для оскудений
- таланта или кошелька —
- ведь кормит столько академий
- его щедрейшая рука.
- Завистники бы помолчали,
- хоть слово доброе сказав.
- Все больше вижу я печали
- в сверхжизнерадостных глазах.
- Но что-то в нем чуть надломилось.
- Он живчик тот же и не тот,
- И кто ему окажет милость
- и Грузию ему вернет?
А вот тут Альгимантас догадался, что внутри главного режиссера Театра Ленинского комсомола Марка Захарова прячется до сих пор не раскрывшийся великий актер.
- Какой актер потерян на Земле
- для роли кардинала Ришелье!
Добрый фотоаппарат Альгимантаса уловил и лучащуюся доброту композитора Андрея Петрова.
- Андрей Петров нам подарил мелодии,
- которых лучше в жизни не найду,
- и старенькие все, и все молоденькие
- их напевали даже на ходу.
- И помнят те, кто стали нынче дедушками,
- как неподвластный тусклым временам
- Папанов закричал «Свободу Деточкину!»,
- а поняли мы все: «Свободу нам!»
- Шестидесятых поколенье кепочное,
- ты создало мелодии любви,
- а ново-пепсикольное и кетчуповое,
- где песни задушевные твои?
Альгимантас почувствовал Даниила Гранина так, как будто он не меньше лет, чем я, был его другом.
- Я люблю Даниила Гранина,
- потому что он с чувством стыда
- жил всю жизнь, состраданием раненный,
- ну а это уже навсегда.
Есть один режиссер, физиологической талантливостью которого я давно восхищаюсь. А вот с его совестливостью большие проблемы. Как хорошо, что у Эльдара Рязанова все совпало.
Эльдар Рязанов
- Все требуют с художника,
- стать вумными успев,
- чтоб делал все похоженько
- на прежний свой успех.
- Есть диктатура зрителя,
- и вкус ее дурной.
- Эльдар, тебя не злит она?
- Я в бешенстве порой.
- Так проморгали радостно
- со вкусом простофиль
- о сказочнике Андерсене
- твой самый лучший фильм.
- Да, яд впитался в почву,
- где снобы-короли
- Снобятину, как порчу,
- с ухмылкой навели.
- И песенки перронные
- в Кремле лабают лбы.
- Как ты сказал – ирония.
- Ирония судьбы.
Альгимантас снял Михаила Калашникова без иконостаса регалий, по-домашнему. Я разговаривал с Калашниковым несколько лет назад и был приятно поражен его личной скромностью и тем, с каким уважением и знанием он говорил о русской поэзии.
Я задал ему всего один вопрос и насколько мог точно зарифмовал его ответ:
- «Скажите, а вам сны какие снятся?» —
- «Мир на Земле, для шарика всего…
- И всюду «калаши» мои пылятся,
- не убивая больше никого…»
По-моему, это хороший конец для предисловия, Альгимантас?
Если даже самый знаменитый оружейник на Земле все-таки такой идеалист, – а я это слово люблю, именно потому что оно происходит не от слова «идеология», больше подходящего к понятию зооклетки, а от слова «идеалы», воплощающего достоинство и свободу, то нам и Бог велел, не правда ли?
А может быть, после этой книги о знаменитостях сделаем когда-нибудь или вдвоем или втроем с Антанасом книгу и одновременно всемирную фотовыставку-путешественницу «Те, кого фотографировали только для паспортов»?
Я ножом ничьих икон не раскрошу
Когда-нибудь какой-нибудь поэт
создаст и антологию газет.
Он выцарапает изо всех подшивок,
из всех страниц пошлейших и фальшивых,
из оскорблений или скользкой льстинки
неистребленной совести светинки.
У меня свои законы.
Люди – вот мои иконы.
Но и даже перед ними
так любимыми, родными
не распластан с бодунка
как цыпленок табака.
«Я ножом ничьих икон не раскрошу…»
- Я ножом ничьих икон не раскрошу,
- как дед Ермолай, давно в двадцатом.
- Жаль, что в прошлом я его не воскрешу,
- чтоб тогда не стал он виноватым.
Озлобленность
- Нам в кровь озлобленность вошла
- и неужели стала генами?
- Она мелка, она пошла —
- от злобы не родятся гении.
- И даже справедливый гнев,
- круша живых людей и статуи,
- в озлобленности освинев,
- перерождается в растаптывание.
- Мы не родились в палачах,
- но приучились получать
- постыдный кайф от сплетен гаденьких
- о знаменитеньких, богатеньких.
- Живет в нас древняя озлобленность,
- как из родных осин оглобленность —
- зачем нам ближним помогать —
- оглоблей легче помахать.
- Во всех искусствах и науке
- мы с болью видим, как на грех,
- умельцев связанные руки
- озлобленностью неумех.
«Тот, кто счел, – все средства хороши…»
- Тот, кто счел, – все средства хороши,
- чтоб не слишком совести пугаться,
- платит за хвастливое богатство
- выпендрежной нищетой души.
«Книжки мои от меня разбежались…»
- Книжки мои от меня разбежались,
- Может, за что-то разобижались.
- Книжки мои – беззащитные сироты,
- Так потеряешь и дочку и сына ты,
- если у сердца ты их не удержишь,
- не защитишь от обид, не утешишь,
- но и не выживут книжки, как дети,
- в этом, не для беззащитных,
- столетьи, —
- не защитив себя сами на свете.
«Не до поэзии поэтам…»
- Не до поэзии поэтам,
- что друг на друга ополчились,
- не в лад младым своим портретам
- ожесточились, оволчились.
- Мы прыгаем по скользким граням,
- то ли свободны, то ли в найме.
- Не мы в политику играем —
- политика играет нами.
- Что вырывается наружу?
- Лишь зависть, что постыдно гложет.
- Поэт, в политику нырнувший,
- обратно вынырнуть не может.
«Россия такая большая…»
- Россия такая большая,
- что можно не встретиться вовсе.
- К невстречам,
- а не ко встречам,
- Ахматову помня, готовься.
- Ты можешь не встретить любимой,
- не встретить любимого друга.
- Но не охладей при встречах —
- от каменного испуга.
- И не впадай в недоверье,
- как при нежданном ударе,
- от самовнушенного страха
- при каждом нечаянном даре.
Антология газет
Дмитрию Муратову
- Когда-нибудь неведомый поэт
- создаст и антологию газет.
- Он выцарапает изо всех подшивок,
- из всех страниц пошлейших и фальшивых,
- из оскорблений или скользкой льстинки
- неистребленной совести светинки.
- Как из газет слагается и повесть,
- так из людей слагается и совесть.
- Долг журналистов – нынешних, грядущих —
- усовестить народ и власть имущих.
- Любви не меньше, чем в письме Татьяны,
- в попытках кровь остановить статьями.
- Да вот усовещающих любовью
- в отместку останавливают кровью.
«Простить ли неразумную толпу…»
- Простить ли неразумную толпу,
- когда она, в раздумье не помедлив,
- к позорному лишь для себя столбу
- ученых волокла или поэтов?
- Что толку после в покаяньях лбом
- в пол биться?
- Запоздалая сумятица.
- Позорный столб становится столбом
- истории…
- Когда она спохватится.
«Политика – разлучница людей…»
- Политика – разлучница людей.
- Своих, чужих порой не различает.
- Нельзя ли без вбиваемых гвоздей
- друг другу в руки?
- Вот что разлучает.
«Мы рабочие сцены истории…»
- Мы рабочие сцены истории,
- но когда нам покажут спектакль,
- тот, который смотреть бы нам стоило,
- и все то, что идет, испытать?
Баллада о самостоятельности решений
Памяти блистательного дипломата Семена Павловича Козырева – бывшего посла СССР в Италии, рассказавшего мне эту веселую притчу о русском посольском остроумии. Именно он в 1966 году прямиком послал в Политбюро КПСС по диппочте из Рима письмо Ренато Гуттузо, члена ЦК Компартии Италии, знаменитого художника, председателя ассоциации «Италия – СССР», вместе с моим письмом и, что было очень важно, с его собственным – с общей просьбой досрочно освободить Иосифа Бродского из ссылки на Севере, что и было сделано. Ни один из «бродсковедов» об этом не упомянул.
- Один болярин – врать не стану,
- кто и когда, каким царем —
- однажды послан был к султану —
- так проще врать, когда не врем.
- Но был предупрежден заранее,
- допрежь далекого пути,
- что даже наши христиане
- должны ко трону подползти.
- Таков обычай сей, к несчастью,
- что не дозволит в той стране
- нам вертикаль султанской власти
- быть вертикальными вполне.
- «Так где же выход для посольства?» —
- болярин вопросил царя.
- «А ты как русский не позорься…
- Но чтобы съездил ты не зря…»
- «Царь-батюшка, ни телефона
- и ни е-мейла в той глуши». —
- «А ты, болярин, углубленно
- самостоятельно реши».
- Такая участь в дрожь бросала.
- С таким понятьем незнаком,
- все повторял он «само… само…
- стоятельно… Но как ползком?»
- Перед врученьем своих грамот
- верительных был омрачен
- и принял столько лишних грамм от
- страха вместе с толмачом.
- И говорил ему: «Ванюша,
- ну как же я вползу, стоймя?
- Гудбай, боярский сан, валюта,
- спиночесалки и семья…
- Нет, я войду им всем на зависть
- и в полный рост – не на позор
- погибну, но пускай узнают,
- что значит русский наш посол!»
- Но в той стране была подслушка
- не меньшая, чем на Руси,
- и те ушастики послушно
- все, что слыхали, донесли.
- Прием посла попридержали,
- дабы султана честь спасти.
- Кряхтя тоннель сооружали,
- чтоб можно было лишь вползти.
- Но был не промах наш болярин
- и спас лицо без лишних поз,
- когда с лукавым обаяньем
- к султану вполз, но задом вполз.
- Вот вам без всяких украшений,
- как нас унизить ни грози,
- самостоятельность решений
- дипломатической Руси.
«Энтомолог»
- А может,
- фривольность,
- прикольность,
- и есть просто-напросто
- самонадеянная самодовольность?
- И если в руках твоих ловких —
- красавицы,
- миллионеры,
- калеки сирые,
- ты можешь запутаться в них,
- словно бабочек, хладно коллекционируя,
- и странный служака природы,
- вроде ее чекиста,
- сам попадешься в сачок,
- а потом на иголочку бабочкиста.
Вопреки
- Где медведи в бруснику
- сластенными мордами тычутся,
- я родился в тайге у сибирской Оки,
- а начать с моих предков,
- то генетически
- у реки по имени Вопреки.
- Мой прапрапольский шляхтич
- просил у найкращей одной украинки руки.
- Удалось ее выкупить, барину вопреки,
- и когда все равно
- для себя тот потребовал первую ночь,
- только «красный» петух
- молодым смог помочь.
- Барский дом был сожжен,
- а жандармы в отместку сожгли все село,
- и село в наказанье
- со звоном в Сибирь побрело —
- вот каков был над ежиком бритых голов
- этот свадебный звон государственных кандалов,
- но казалось влюбленным,
- слезам вопреки,
- что их пыльные цепи почти что легки.
- Впрочем, все вопрекислые мрачные маски
- и ржущие морды не нравятся мне.
- Я хочу жить не в мрачной,
- но умно прозрачной стране.
- Я люблю свою родину,
- вам вопреки,
- и дороги российские,
- и дураки.
- Пошлость в уши вбивают,
- но ей вопреки
- Пастернак и Чайковский
- играют в четыре руки.
- Нам не нужно тирана – вождя,
- никакого не нужно царя.
- Все, что лучшее в нас, —
- вопреки, а не благодаря.
«У мира все слезы повытекли…»
- У мира все слезы повытекли,
- да только течет еще кровь,
- но, к счастью, повыше политики
- Есть все-таки совесть, любовь.
- И если мы ожесточаемся,
- Не видя, кто враг, а кто друг,
- то мучит меня от отчаянности
- за совесть с любовью испуг.
- Любовь или совесть стреляются,
- расстреливают их без слез,
- а все же они распрямляются
- травинками из-под колес.
- Любовь – это высшая собственность.
- Всех денег, всей власти сильней
- бесценность несдавшейся совести
- с незримой всевластностью в ней.
Не бойся полюбить
Женская песня
Посвящено Марине Иевлевой
- Мне шепчут облака, поляны, чащи,
- черемуха у стареньких ворот:
- Не бойся полюбить. Не бойся счастья,
- и даже если горе принесет.
- Не бойся полюбить – ромашки шепчут.
- Не бойся полюбить – журчит вода.
- Ну что же за судьба у русских женщин —
- где счастье, там и горькая беда.
- Ты не бросайся в омут с головою
- и жизнь жестоким словом не обидь.
- Не потеряй господний дар любови
- и никому не дай его убить.
- Я упаду березам в белы ноги,
- я попрошу у малых мурашей
- любви и слез, и грусти, и тревоги,
- но без любви нам жить еще страшней.
- Не бойся полюбить – ромашки шепчут.
- Не бойся полюбить – журчит вода.
- Ну что же за судьба у русских женщин:
- где счастье, там и горькая беда.
Одна минута зла
Батарея испанской «Голубой дивизии» когда-то разрушила снарядом часовню в Новгородской области. Она была восстановлена на деньги бывшего «голубодивизца» по его собственному почину.
- У мирового зла – чесотка.
- Всего одна минута зла,
- и новгородская часовня
- в снарядных дырах оползла.
- Испанцы, «голубодивизцы»,
- не слишком плачась о попах,
- залопотали, как девицы,
- в крест не нацелясь, но попав.
- Потом, приехав к нам по туру,
- испанский бывший офицер
- нам оплатил тот выстрел сдуру
- за свой ошибочный прицел.
- Всем, кроме совести, торгуя,
- он чист перед своей виной.
- Но кто простит вину другую —
- нам за войну с родной страной?
- Мы столько овощехранилищ
- постыдно сделав из церквей,
- на покаяние решились,
- а стыд со временем стыдней.
- Придется долго нам стараться,
- губами ерзать по кресту,
- чтобы в припадках реставраций
- вернуть всем храмам красоту.
- К свой стране теряли жалость
- в гулаговские времена.
- Дай Бог, чтобы не продолжалась
- с народом собственным война.
- Война прошла, но чья победа?
- В нас что-то выжжено дотла.
- Приходится платить полвека
- лишь за одну минуту зла.
Неволнуйчики
- Мы живем в одном времени
- и с бабусями сирыми,
- и с волненьями в Йемене,
- и с волненьями в Сирии.
- Жить хотим посчастливее
- жлобской жизнью кощейской.
- Да и что нам до Ливии,
- до станицы Кущевской.
- Нам бы больше валюточки.
- Нам вредны даже вздохи.
- Мы вообще неволнуйчики
- нашей нервной эпохи.
- Взрывы и наводнения
- в Чили и Конотопе —
- это лишь треволнения
- тех, кто взорван, утоплен.
- Так, наверно, не выскажут
- люди этой породы,
- но дыханье их выстужит,
- не дай Бог, все народы.
- Все взорвется на свете
- не террором, не буйством,
- а палаческим этим
- сволочным неволнуйством.
Прощание с Вацлавом Гавелом
- Теперь все не верят политикам на слово,
- не зная, что скрыто у них на уме,
- но люди поверили в Гавела Вацлава,
- спасшего право на Слово в тюрьме.
- И рядом с примазавшимися нуворишами
- к его могиле придут в этот день
- тень Сахарова,
- что-то недоговорившая,
- и Палаха
- недогоревшая тень.
- Всегда оккупация —
- ложь аморальная.
- К могиле придет,
- себя сам не простя,
- танкист,
- застрелившийся где-то в Моравии,
- нечаянно там раздавивший дитя.
- И Восемь Отважных с коляскою детскою
- придут на могилу,
- плакаты неся.
- Моя телеграмма наивная,
- дерзкая,
- туда прилетит,
- пожелтевшая вся.
- Рос я вблизи нумерованных ватников,
- двух арестованных дедушек внук,
- Мир я ушами, глазами ухватывал,
- и у ноздрей на свободу был нюх.
- Песню поймал среди вьюжного воя
- в ближнем Гулаге —
- ее не забыть! —
- «Сбейте оковы, дайте мне волю!
- Я научу вас свободу любить».
- Свобода…
- Успели вовсю измарать ее,
- словно одну из обманутых дур.
- Ловко притворные демократии
- это же скрытый подвид диктатур.
- Как нам бациллы бесправия вывести?
- Кто в человечестве полностью чист?
- Где государство сплошной справедливости?
- Кто нас достоин свободе учить?
- Как вырабатывать совести правила,
- где вне закона вражда и война —
- вот что у края могилы Гавела
- Чехия думает,
- и не одна.
- Столько уж лет мы без Гитлера, Сталина,
- а на планете все не путем.
- Знаем, что надо свободу отстаивать.
- Кто нам подскажет —
- что делать потом?!
В первые же дни оккупации Чехословакии советскими войсками в 1968 году Е. Евтушенко послал телеграмму протеста против вторжения на территорию братской Чехословакии в адрес Политбюро, телеграмму поддержки правительству Дубчека, беспрецедентно арестованному у нас в гостях, и стихотворение «Танки идут по Праге». Во время Перестройки Председатель Национального Собрания Дубчек, приехав в СССР, выразил поэту сердечную благодарность.
Когда Гавел был арестован, Евтушенко вместе с другими российскими писателями подписал ходатайство о его освобождении. Гавел был выпущен из тюрьмы. Они виделись во время приезда Гавела в СССР с первым официальным визитом и в Словакии после его ухода с президентского поста, где Евтушенко был председателем жюри кинофестиваля.
Имена Восьми Отважных, вышедших на Лобное место 26 августа 1968 года с протестными плакатами против оккупации Чехословакии: Лариса Богораз, Наталья Горбаневская с ребенком, Вадим Делоне, Владимир Файнберг, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов, Татьяна Баева, Константин Бабицкий. Все они давно полностью реабилитированы.
Ян Палах – пражский студент, покончивший с собой самосожжением в знак протеста против оккупации.
Самоубийство советского танкиста в Моравии было далеко не единственным.
Не надо бояться народа
- Не надо бояться народа,
- когда он за правду встает,
- а если он не без урода,
- он все же родимый народ.
- Но надо быть мудрым народу
- и в злобу не впасть потому,
- чтоб вновь не довериться сброду,
- примазавшемуся к нему.
- Свобода – опасная краля.
- Повертит хвостом, и где след?
- И так уже сколько украли
- Из рук у народа побед.
Валерия Новодворская
(воспоминание о площади Маяковского 1987 года)
- Над ней смеются все почти в России,
- упражняясь в матерке,
- но все-таки трехцветный флаг впервые
- я видел в ее слабенькой руке.
- Поэт, воспевший паспорт молоткастый,
- ты слышал там, на Маяковке, смех
- над женщиной очкастой и щекастой
- и хруст древка на обозренье всех?
- Флаг вырывали с наслажденьем, хряском.
- Надеюсь я, что ни один мой сын
- не будет белым и не будет красным,
- а просто человек и гражданин.
Мне бы…
- Мне бы
- летать во все разные небы —
- их в мире не меньше, чем есть человечеств у нас.
- Я из человеков,
- а значит, из инков,
- ацтеков
- и греков.
- Я из атлантидцев-провидцев,
- но космос держу про запас.
- А мне бы
- соединить в ариаднины нити все Webы,
- чтоб разум не превратился
- из мудреца в подлеца,
- чтоб кисть,
- и лира,
- и Cellо
- не потеряли человеческого лица.
- Мне бы —
- лицеискателем быть на базарах Сибири,
- Аддис-Абебы,
- где красота сокрыта
- в шрамах,
- в морщинах судеб.
- В наш век межгалактийных рейсов,
- что стоят фейсбуки
- без человеческих фейсов,
- когда вместо лиц – штамповка,
- сплошной лицевой ширпотреб?
- Мне бы
- попробовать в мире все хлебы,
- пригубить все губы и вина,
- все звезды бы взять на зубок.
- К приходу волхвов – не волков
- аккуратно почистить все хлевы,
- и теплую руку пожать,
- человеку по имени Бог.
Люсины раненые
Памяти Е. Боннэр
- Видно, всем твоим раненым
- силы ты все отдала,
- подсчитать всех, кого ты спасла,
- не берусь.
- Не успела спасти
- лишь Багрицкого Всеволода,
- называвшего даже не Люсей тебя, —
- просто: «Люсь».
- На плечах твоих раненые не охали,
- а пытались сквозь зубы шутить —
- хоть с кровцой,
- и потом поправлялись,
- кирзовками в латках по Пруссии грохали,
- у Рейхстага снимались на память с притворной ленцой.
- А кого вы все вместе спасли на плечах —
- не эпоху ли?
- Спели в будущем вам
- Окуджава и Галич,
- Высоцкий и Цой.
- Вы не шейте надеждам пока преждевременных саванов.
- Не подходит им эта одежда и этот фасон.
- Самый-самый застенчивый воин в истории,
- Сахаров,
- медсестрой фронтовой, как спаситель, спасен.
- Есть у совести русской спасители от умирания.
- Человек еще не наступившего дня
- оказался последним подобранным Люсиным раненым,
- тем, кого она вынесла из-под огня.
Дилемма Маркса
- Забыт был Маркс неаккуратненько,
- сам перестал марксистом быть,
- в объятьях «зэковского» ватника
- успев провинности отбыть.
- Стал Маркс с надеждой делать выкладки,
- когда цунамскою волной
- «Позор капитализму!» выклики
- вновь сотрясли весь шар земной,
- Маркс, на чапаевские выходки
- готов,
- чуть не вскричал: «За мной!»
- Но разум был еще вселенский.
- Маркс ощутил, как боль в боку,
- что вдруг исчезнет штрудель венский
- к божественному кофейку.
- И кто тогда сумеет вымести
- весь мусор с буйных площадей
- в осознанной необходимости,
- где нет сознательных людей?
- Не разберешь, что кому надо,
- Лишь ясно – все передрались.
- Весь шар земной – он коммуналка,
- где «изм» живой – лишь вандализм.
- И в «Бобби», мирного, примерного,
- еще пока безревольверного,
- решил преобразиться Маркс —
- новейший укротитель масс.
- Утихомирить всех старается,
- оправдывая свой паек,
- вкушая между демонстрациями
- свой аппетитный кофеек.
- Но, впрочем, судя по всем признакам,
- как собран он и деловит,
- кто знает —
- может, с прежним призраком
- партнерство он возобновит.
Богдан и Лариса
- Начинающий Ступка
- в чупрынной лихой голове
- чуть не с детства,
- наверное,
- выносил
- тайный замысел,
- а не вымысел, —
- стать украинским
- Лоуренсом Оливье.
- Тот в искусстве велик,
- кто велик и в любви.
- Он, устав от завидок,
- от ранней израненности,
- бросил первые аплодисменты свои,
- как цветы,
- к белоснежным балеткам избранницы.
- Но любовь унижают и бедность,
- и быт.
- Балерине бывало несладко
- в нелегкие те пятилетки —
- и от очередей,
- чтоб хоть что-то для мужа добыть,
- и пришлось ей и штопать рубашки ему,
- да и собственные балетки.
- С пастернаковской Ларой,
- Лариса,
- тебя я хотел бы сравнить
- по страданьям твоим,
- непохожим совсем на порханье,
- а однажды любовь натянулась, как нить,
- и почти порвалась,
- но сынишка вернул ей дыханье.
- Может быть,
- подсказала снежинка,
- а может, божинка
- или нянька твоя, Украина, как строгая мать:
- «А не поворотить ли оглобли нам, жинка?
- Ну и что же, что мы развелись?
- Почему не жениться опять?»
- Так вот вы победили,
- друг другом любимые вновь,
- оба —
- дети похожей на поле сражения сцены.
- Что такое искусство?
- Да та же любовь,
- и оно, как любовь,
- не прощает измены.
Народный сатирик
- Среди дебильства пьяного заборного,
- бессмертья дур-дорог
- и дураков
- нас укрепляет здравый ум Задорнова —
- дар Щедрина,
- который Салтыков.
- Когда застой взасос дедуси чествовали,
- он разгадал метафоры мои
- и за главу мою про Лобачевского
- чуть не был исключенным из МАИ.
- Мне называть тебя лишь Мишей хочется,
- настолько близок ты,
- как друг и брат,
- и все-таки не забывать и отчества —
- глаза отца
- из глаз твоих глядят.
- Спасибо тебе,
- Миша Николаевич,
- что, за ухо нас крепенько словя,
- ты, как гвоздями,
- шутками вколачиваешь
- нешуточные горькие слова.
- Что женщин ы унизил —
- это глупости.
- Ни на кого ты зря не нападал.
- Прошелся по американской тупости,
- а разве нашей ты не наподдал?
- Лингвистом, от минобров независимым,
- фольклор вобрал устами, как родник,
- и как мальчишка
- озорнейше высунул
- от чужизны очищенный язык!
- Жить легче, если жизнь облагородена
- и не грязны ни совесть, ни уста.
- Что наш Язык? —
- он тоже наша родина.
- Когда он чист,
- и родина чиста.
Марион Бойарс
- Кто лучший мой издатель?
- Англичанка
- Марион Бойарс.
- В ней вкус и совесть, видно, не случайно
- не жили порознь.
- Она была в профессии пристойной
- непризнанной,
- но гордой королевой
- империи портфельной, но достойной.
- и с шелестинкой рукописей левой.
- Поставила она
- фонтаном брызнувший
- азарт
- на карту.
- Не бизнейший был муж,
- но самый жизнейший
- Кинг Вкуса —
- Артур.
- Она как любопытный вороненок
- в очках рабочих,
- а в рукописях —
- и похороненных
- был клюв разборчив.
- Как будто у охотника в болоте,
- у ней и ушки были на макушке,
- и на прицел был ею взят в полете
- Кен Кизи
- над гнездом кукушки.
- А денежные были катастрофы,
- она читала с обожаньем строфы,
- какие не хотел читать никто,
- которые ей нравились зато.
- Издатель,
- если он читает книги,
- да и стихи, —
- в глазах коллег он болен!
- А для нее прекрасны были миги
- с Кортасаром,
- Кэндзабуро
- и Беллем.
- Она могла быть в гневе ураганом,
- но грациозным.
- Со мной,
- в сибирском детстве уркаганом,
- была и другом,
- нежным и серьезным.
- Не потеряла детскую резвинку.
- Была такого маленького роста,
- и танцевала в Грузии лезгинку
- она —
- чуть-чуть не жертва Холокоста.
- Мы столько выступали с нею вместе.
- В ней была смелость книгополководца.
- Мне кажется, что Марион —
- на месте.
- Ждет рукописей.
- Что ж, писать придется.
Танечка Лиознова
На похороны режиссера фильма «17 мгновений весны» пришла лишь горсточка близких друзей. Одним из немногих, кто навестил ее перед смертью, был исполнитель роли Мюллера в этом фильме артист Броневой.
- Любила Танечка Лиознова
- полуподпольно,
- партизанисто.
- Не знала вовсе горя слезного,
- поскольку слишком была занята.
- Была так долго бесквартирница,
- влюбилась, выглядя не выхоленно,
- лишь в ею созданного Штирлица,
- но уж совсем-совсем не в Тихонова.
- Забытая, бровей не хмурила —
- мечтала —
- вот найти бы внучку!
- Был поцелуй последний —
- Мюллера
- в ее ребяческую ручку.
Культура и политика
- Сказала Культуре Политика:
- не выпить ли нам пол-литрика?
- и не поговорить,
- но без галстука,
- а то ты чего-то погаснула?!
- На Вы отвечала Kультура:
- «Я дочка Гомера, —
- Катулла
- и Пушкина, и Чайковского,
- но смотрите что-то косо вы.
- Не вижу совсем уважения
- ко мне,
- к образованной женщине».
- Политика тут разобиделась:
- «Но ты же
- одна разорительность.
- Большого театра арии
- нам стоят дороже всей Армии.
- Нам новые технологии
- нужны,
- а тебе антологии.
- Банановой-нановой нации
- на кой Мандельштампы и Надсоны!
- Да ты постыдилась бы жаловаться.
- Что просишь —
- тебе все пожалуйста». —
- «Не все…» —
- ворчанула Культурочка,
- лягнувшись,
- как Сивочка-бурочка,
- с начальством не то что ругающаяся,
- но просто частенько лягающаяся…
- Политика ей:
- «Я вот она,
- Взгляни, как людьми я измотана.
- Что гении, что бездарности —
- от всех никакой благодарности.
- Читаю про все потрясения
- шифрованные донесения,
- и так это все выматывает,
- что не до стихов Ахматовой.
- Тут не поживешь вприпрыжечку.
- Ты мне присоветуй книжечку,
- не скушную,
- но и не стебную,
- по части советов подробную…» —
- «Читали «Сто лет одиночества»?» —
- «Полкнижки…
- Двухсот лет не хочется…
- Победы —
- лишь одномоментия!
- А дальше —
- в отставку, Буэндиа!
- Поэтам скажу:
- я,
- Политика,
- завидую вам,
- но поймите-ка,
- на плечи взвалить катастрофы
- потяжелее, чем строфы…» —
- «Но в тютчевском четверостишье
- Россия написана так,
- словно свыше… —
- напомнила не без такта
- Культура. —
- Согласны вы?
- Так-то!»
- И вместе тогда они выпили,
- как будто из времени выпали.
- В России Толстого, и Сахарова,
- и царственного Освободителя,
- что сделать, чтоб чисто,
- без заговора,
- мы антихолопство увидели?
- Родимая наша Евразия,
- когда воплотится фантазия,
- пусть даже не скоропалительно,
- в тебе,
- навсегда не понурой,
- культуре стать высшей политикой,
- политике —
- высшей культурой?!
Памяти Артема Анфиногенова
- Артем Захарыч, вы военный летчик
- и капитан, отнюдь не генерал,
- но я не знал людей военных кротче,
- пока ваш темперамент не взыграл.
- Есть типажи для роли обольщенца,
- обманщика, но много лет назад
- вас не случайно в роли ополченца
- я присмотрел для фильма «Детский сад».
- Вы с трехлинейкой шли вдоль Патриарших,
- как будто был Берлин невдалеке.
- Вы были самый молодой из старших,
- и марш стучала жилка на виске.
- Нет, не сражались вы, Артем Захарыч,
- чтобы войну сменить другой войной,
- чтоб только красной краской стал закрашен
- наш бывший разноцветным шар земной.
- Так в чем интеллигенции значенье?
- Не забывает пусть она сама
- о главной своей роли – ополченья
- свободы, милосердия, ума.
- Такие, как Артем Анфиногенов,
- спасут нас от любой другой войны,
- как ополченье, спрятанное в генах,
- в духовных генах совести страны.
Моя родина всегда со мной
Мной всем рощам и лесам
души розданы,
а я родина и сам —
моей Родины.
«Земля – живое существо…»
- Земля – живое существо,
- и потому она живая,
- что живы,
- кто не унывая,
- живут на ней,
- и – ничего…
Конкурс на длительность музыки
- Что воскресило мне мускулы,
- не позволяя бренность?
- Конкурс на длительность музыки,
- в Чили, в Пунта-Аренас.
- Лучше не будет моментов.
- Рядом пролив Магеллана.
- Музыка всех инструментов.
- Как тут возникнуть могла она?
- Играя на дудках пастушьих
- и на свистульках из глины,
- Дети лишь Богу послушны
- так, что их мамы пугливы.
- Семьдесят два часа
- длится опасное действо.
- Как их игра чиста,
- но не похожа на детство.
- Играя то громче, то тише,
- и на гитарах и скрипочках,
- столько босых детишек
- падали в обморок, вскрикивая.
- На руки принимали
- их патагонские матери
- и, пробудить пытаясь,
- им головенки лохматили,
- А вот зачем – для ответа
- было не надо провидца.
- Как одна мать сказала:
- «Чтобы пробиться, пробиться…»
- Те, кто их уносили
- в машину с красным крестом,
- были, казалось, в силе,
- но не приносили потом.
- И называли их ватно,
- мягко, без всякой колкости,
- только чуть страшновато:
- «выпавшие из конкурса».
- Поэта нет, меня старшего.
- Не выпал за столько лет
- из конкурса, жизнью ставшего,
- на то, что еще я поэт.
- Мне жаловаться неуместно,
- что мало было оваций.
- Есть место, скажите честно,
- куда мне не стыд пробиваться?
- Но тяга во мне сквозная —
- в мальчике из провинции,
- куда —
- я и сам не знаю,
- но тянет пробиться,
- пробиться…
«Моя родина всегда со мной…»
Леонарду Дмитриевичу Постникову,
ocнователю и хранителю
Чусовского заповедника к его 85-летию
- Моя родина всегда со мной,
- защищая не Кремлевской стеной,
- а сибирской избяной, бревенчатой,
- навсегда со мной, бродягой, повенчанной.
- Но совсем я не из тех бродяг,
- что домой приползают на бровях
- и не помнят, где они шлендрали,
- то ль в Марселе на веселье, то ли в Лондоне.
- Я не только свою Родину люблю,
- я люблю и всех людей на свете родины,
- и ни доллару, ни евро, ни рублю
- я не кланяюсь, а всем, кто похоронены.
- Мне до детства бы опять помолодеть,
- ибо в детстве счастья видел маловато.
- На Земле еще счастливых мало детств,
- надо сделать, чтоб их были миллиарды!
- Говорят, любвеобилен чересчур,
- но любил я не богачек – чаще прачек,
- обращал на некрасивых свой прищур,
- потому что красоту под этим прячут.
- Некрасивой не может быть страна.
- Некрасивой быть любимая не может.
- Но не может быть красивой война,
- и ничто ей быть красивой не поможет.
«Я, Россия, побожусь…»
- Я, Россия, побожусь,
- что еще разок рожусь,
- только навсегдатошно.
- Пригожусь и потружусь
- пашенно,
- солдатошно.
- Только выдуманных мне
- ворогов на той войне
- не подсовывайте —
- чтобы все по совести!
- Нелегко сидится мне
- скоро век – не суточки
- на Кремлевской стене,
- на самом востром зубчике.
- Но я не был никогда
- заговорщиком,
- лишь, как вешняя вода,
- закоперщиком.
- Своих недругов на дно
- не толкал, гневаясь!
- Ненавидел я одно —
- только ненависть.
- Больше жизни я любил
- люделюбие,
- и одно бы я убил —
- душегубие.
- Мной всем рощам и лесам
- души розданы,
- а я родина и сам —
- моей Родины.
Мрак и стеб
- Во всех нас что-то есть дремучее,
- когда, любя, друг друга мучаем,
- и каждый злящийся зачах,
- мельчая в мрачных мелочах.
- Мы были нацией пророчащей,
- а стали мрачной, но гогочущей,
- чтоб, в стебе проявляя прыть,
- мрак этим гоготом прикрыть.
Стасик
Памяти выдающегося российского мыслителя —
Станислава Рассадина
- Поэт российской критики Рассадин
- был нам как жесткий наблюдатель даден,
- чтоб совесть стала выше ремесла
- и этику сраженья против зла
- в поэтику условьем привнесла.
- И хоть он был давно ворчливый классик,
- его с опаской величали «Стасик».
- Не жаловал того, чтобы стебный тонус
- в поэзию вносила фельетонность
- и чтоб в ревниво мелочной базарности
- себя вели таланты, как бездарности.
- Но в то же время он любил сатиру,
- великую российскую задиру,
- как повитуху будущей свободы,
- что приняла в шестидесятых роды.
- Но до сих пор свобода лишь ребенок.
- Лишь учится ходить, и голос тонок.
- Превозмогая горькую увечность,
- Рассадин спас лицейский дух и вечность.
- Во сне опять с любимым другом – Эмкой
- заслушивался он его поэмкой,
- и нежен был он к нашенскому Кюхле,
- как на Сенатской, – в крохотуле-кухне.
- И Александр Сергеич был сам – третий
- на стареньком советском табурете.
Шестидесятница Валенсия
Посвящается памяти доцента филологии, работавшей заведующей кафедрой литературы во Владимирском Государственном гуманитарном университете, – Валентине Васильевне Кудасовой, родившейся в деревне Ляхи под Муромом. Ее муж, тоже филолог, ректор того же университета Виктор Малыгин, с которым она прожила в браке 35 лет, познакомившись с ним в годы их учебы в аспирантуре в Ленинграде, романтически называл ее с тех лет Валенсией. У них сын Аркадий, дочь Наташа и трое внуков. Предметом ее изучения и преподавания был Серебряный век нашей поэзии. И всю свою жизнь она преданно любила поэзию шестидесятников.
- Если бы Валя попала в Серебряный век,
- где ей хотелось, по-видимому, поселиться,
- затосковала б, наверно, о нас обо всех,
- не обращая внимания на знаменитые лица.
- Если в толпе бы наткнулась она на поэта по имени Блок
- и на нее он воззрелся почти что молитвенно,
- так бы сказала ему:
- «Ваш мистический взгляд —
- он меня не увлек,
- и вообще существуют ли в мире мужчины
- мужчинней Малыгина!
- Он, признаваясь в любви,
- не вставая с колен, сиял,
- он мне придумал испанское имя Валенсия.
- А Северянину врезала я бы сама,
- правда, тактичнейше мягко,
- без всяких невежливых выражений.
- – Вы меня, Игорь, простите, от вас бы сходила с ума,
- если б не знала поэта, которого звали мы запросто Женей…
- «Анна Андреевна» —
- все-таки мы говорили об Анне Ахматовой,
- Но Ахмадулину – Беллочкой звали,
- не Беллой Ахатовной —
- и за венок ее кос,
- и за взгляд азиатский, агатовый.
- В шестидесятых,
- когда я одной из поклонниц была там,
- памятник будущий староарбатский
- звала я Булатом.
- В нашей столовке студенческой
- мы называли Андрюшей
- классика,
- нас угощавшего всласть треугольнейшей грушей.
- Вы понимаете,
- это свои были классики,
- классиков этих не стерли ни танки
- и ни цензурные ластики.
- Так что Серебряный век —
- это гениев стольких расцветные годы,
- шестидесятые годы – наш век Золотой
- отвоеванной внукам свободы!
- Будущее мы еще не назвали,
- но верю в него без лести я,
- шестидесятница Валя,
- которую звали Валенсия».
Две девочки стоят у края крыши






