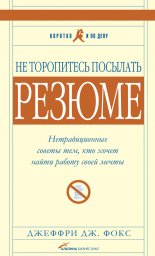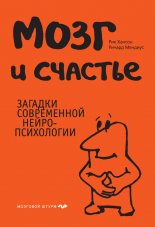История ислама: Исламская цивилизация от рождения до наших дней Ходжсон Маршалл
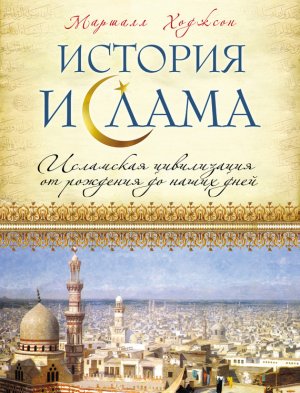
Новое учение в своем наилучшем проявлении демонстрировало глубокую зрелость, которая контрастировала с дилетантизмом некоторых более ранних попыток, которые подчас могут показаться односторонними или наивными. Лучшие мыслители попросту не развивали выводы тех или иных измышлений в рамках своей традиции, как это часто бывало прежде, а честно и открыто хватались теперь за лучшие идеи любых других традиций. Интеллектуальные ресурсы различных доисламских традиций уже были полностью ассимилированы, и выводы нескольких областей науки, основанных в период высокого халифата, теперь прорабатывались далее.
Персидская героическая традиция: Фирдоуси
Старая иранская историческая традиция уже давно была включена в исламскую историческую науку в ее арабской форме. Первоначальная форма, на языке пехлеви, становилась все менее доступной. Но теперь, с ослаблением стремления к интеграции мусульманской культуры в единый правящий класс в одной большой столице, появилась возможность формирования исторического сознания, которое иранская традиция называла важнейшим компонентом образа среднего мусульманина — того, для которого основным языком культуры становился персидский. На тот момент к данной категории относились мусульмане Иранского нагорья и бассейна Сырдарьи и Амударьи. В итоге она распространилась на большинство мусульман всех регионов. Возрождение традиции приняло форму переводов с языка пехлеви на мусульманский новоперсидский, но прежде всего, в рамках этого процесса на фарси было создано великое эпическое произведение Фирдоуси «Шахнаме» («Книги царей»).
В каждой социальной среде более или менее сознательно формируется идеальное представление о том, каким должен быть мужчина (и с ним в общем-то соотносится образ идеальной женщины). Некоторые историки провели блестящее исследование таких образов в разных культурах. В некоторых случаях оно весьма полезно. Яркий пример такого образа представлял собой бедуинский всадник на верблюде в старой арабской поэзии: идеальный бедуин должен быть безраздельно предан своему клану и своим гостям, бесстрашен, сдержан и находчив, а, кроме того, не думать о завтрашнем дне и щедро делиться тем, что имеет сегодня. У маленькой общины Мухаммада, насколько можно судить по описаниям в Коране, был другой идеальный образ, в котором упор делался на пристойность и ответственность.
В повседневной жизни (не считая изолированных однородных групп вроде бедуинов или динамичных новых движений наподобие движения Мухаммада) образ идеального мужчины редко принимал столь четкие очертания. Конечно, каждая форма воплощения великой религиозной традиции обязательно формулирует собственный идеальный образ для своих последователей — к примеру, добросовестного служителя закона у сторонников шариата или самоотреченного преданного Богу человека у суфиев. И у каждого общественного класса (чем однороднее состав класса, тем выше вероятность) тоже возникает идеальный образ, иногда сформулированный очень четко: так, литература адаба в период высокого халифата рисует ясный образ идеального катиба и придворного, которому следует иметь хорошее происхождение и воспитание, быть разносторонне подкованным в литературе и уметь соответствовать любым требованиям придворной жизни. Но поскольку очень немногие, к примеру, просто следовали шариату и не стремились при этом получить статус катиба, ремесленника или помещика (или, соответственно, мало кто считал себя исключительно катибом и не желал прослыть приверженцем шариата, суфием или преданным алидом), такие идеальные представления о человеке обычно на практике размывались, и каждый мужчина сравнивал себя с тем из уважаемых в его среде образов, который больше соответствовал его темпераменту. Следовательно, возникает сомнительный соблазн попытаться охарактеризовать с точки зрения идеального образа не просто небольшую изолированную культуру, но и великий и многообразный народ, эпоху в истории или целую цивилизацию.
Тем не менее образ идеального человека может играть свою роль вне социальной обстановки, в которой изначально возник, и эта роль в тот или иной период может быть достаточно важной, чтобы повлиять на общее развитие социума. Образ, культивируемый привилегированным сословием, при условии, что его жизнь у всех на виду, играет второстепенную роль в самовосприятии представителей других сословий и может даже быть решающим в попытках выдающихся или творческих личностей оправдать свои действия. Или это может быть образ, соответствующий не конкретному привилегированному классу, а идеализированному прошлому или мощному религиозному течению, пленяющему воображение даже тех, кого оно не затронуло напрямую. Такой образ, как правило, описан в общепринятых легендах или в художественной литературе, как это было в случае с бедуином на верблюде у городского населения в период высокого халифата, хотя он резко контрастировал с образом, популярным у привилегированного придворного сословия. В литературной форме он может оказывать широкое, правда, не ярко выраженное, влияние, хотя мало кто из мужчин соотносил с ним свои личные качества и действия.
В Средние века, когда все население региона между Нилом и Амударьей разделяло одну общую исламскую культуру, в которой религиозный параметр как таковой был лишь одним из многих обычных компонентов, такую роль стал играть образ храброго героя как идеального мужчины. В особенной степени он был в чести у правящих кругов, которым он подходил в силу обстановки политической нестабильности и индивидуальных военных инициатив, но не чужд он был и другим сословиям, даже горожанам. Его следы можно увидеть и в формулировке других образов, популярных у шиитов и приверженцев шариата. Этот образ бесстрашного героя оказал наибольшее влияние на иранскую героическую традицию, но проявился и в других формах — новых или унаследованных из прошлого.
Иллюстрация к поэме «Шахнаме». Средневековая персидская миниатюра
Среди арабов и тех, кто говорил на том или ином диалекте арабского языка, героической была эпоха доисламских бедуинов, джахилия. Все другие возможные источники героических образов отвергались. До некоторой степени в арабскую концепцию были включены и легендарные цари доисламского Йемена, но они не стали народными героями, а их мнимые завоевания в далеких землях не задавали тон в формировании у арабов представления о самих себе. Древние цари Йемена, согласно легендам, завоевали даже Индию и бассейн Амударьи, но арабское население не считало себя наследниками этих деяний: их затмили подвиги первых мусульман. Что касается героев арамейцев земель Плодородного полумесяца, основных предков арабов в самом главном арабском регионе (подверженном действию территориального градиента населения), там не прослеживается никакой строго героической традиции. При римлянах и Сасанидах арамейцы уже давно были лишены независимого правящего класса, способного сделать нечто, что позднее могло бы превратиться в объект поклонения. Такие древние герои, как Гильгамеш, давно забылись — по крайней мере, в какой-либо узнаваемой форме. Героями арамейцев были религиозные деятели: могущественные пророки и святые, подобные святому Георгию, убившему дракона. Эти герои оседлого населения уже не так пленяли воображение людей.
Иллюстрация к поэме «Шахнаме». Средневековая персидская миниатюра
Религиозные деятели при исламе, естественно, сохранились; но в смысле героизма обычного человека жители Плодородного полумесяца и Египта с радостью обратились к бедуинам, которые для них представляли собой ощутимую независимость от аграрной власти и чей героический образ с самого начала оставил глубокий след в арабском языке. Ан-тара, языческий поэт и воин, был типичным бедуинским героем, о котором грезили арабы и в городах, и в селах. Он родился от чернокожей рабыни, его отец, вождь бедуинского племени, не признал его и оставил с матерью. В критический момент отец приказал ему преследовать врага, но Антара отказался, объяснив это тем, что раб недостоин воевать. Тогда отцу пришлось освободить его и признать своим сыном. После этого Антара спас ситуацию, а потом принялся совершать один подвиг за другим. В литературе этот героический образ присутствует в поэтическом жанре касыда (оды) и разных родственных ей коротких стихотворных формах, а кроме того, в народных сказаниях, распространяемых бродячими сказителями с довольно незначительными вариациями.
У иранцев, напротив, героическая традиция Сасанидов здравствовала, несмотря на крах династии, и не нуждалась в дополнениях за счет эпоса арабских или тюркских кочевников. Литература пехлеви изобиловала сказаниями о героях, которые совершали невероятные подвиги в охоте, бою и борьбе со злыми духами, в ратном деле и в любви, под защитой королевского величия и в окружении сказочных чудес. Независимо от того, что лежало в их основе — исторические события, мифические архетипы или даже простая изобретательной фантазия, — эти темы брали свое начало из культуры древних иранских кочевников и скотоводов. Главный герой, Рустам, был пастухом, аркан был одним из многочисленных видов оружия в его арсенале. Темы пастуха соединялись с темами из жизни двора великого монарха с его роскошью властелина мира. Здесь в персидской литературе во времена эмиров линия монархов, которой не хватало арабской литературе высокого халифата, была восстановлена. Но темы города и торговли находились в строго подчиненном положении, несмотря на то что самые образованные слушатели в большинстве своем проживали именно в городе — по крайней мере, во времена расцвета ислама.
На пехлеви эти темы приняли форму исторических рассказов и романов; на персидском все они объединились в форме маснави (длинной куплетированной поэмы). Поэтом, старавшимся придать героической традиции мусульман литературный статус, был Абд аль-касим Фирдоуси (ок. 920–1020), живший в Тусе, в Хорасане, при Саманидах и, в конце жизни, при Махмуде Газневи, которому он посвятил финальную часть своей эпопеи. «Шахнаме» — его единственное великое творение. Это весьма длинная эпическая поэма, охватывающая несколько тысяч лет с их мифами, легендами и историей, с рассвета цивилизации в Иране до мусульманского завоевания. Фирдоуси скрупулезно придерживался летописей пехлеви, послуживших ему источниками, в изложении всех знаменитых событий (реальных или воображаемых), воспоминания о которых могли внушить иранцам чувство этнической самобытности. Даже язык поэмы способствовал ощущению иранской самобытности, поскольку автор по мере возможности старался исключать неиранские (то есть арабские) слова, хотя разговорный персидский к тому времени уже заимствовал их великое множество. Подобно арабам с равнин, которые отождествляли себя с доисламскими героями-бедуинами, персы с нагорий считали своими древних героев, описанных в произведении Фирдоуси. Оно стало почти каноническим изложением иранского наследия персоговорящего населения и пользовалось уважением как пример истинно героической эпопеи везде, где персидский становился языком культуры.
При охвате столь долгого промежутка времени структура «Шахнаме» неизбежно должна была стать эпизодической, когда вполне самостоятельные истории сменяют друг друга. Объединяет их идея о человеческом достоинстве и судьбе царей (история царей начинается с самого первого человека), прослеживаемая в череде примеров, когда различные люди, сидевшие на троне, украшали свое царствование или злоупотребляли высочайшим статусом. Финал эпопеи — конец иранского царства с приходом ислама. Развивая эту тему, автор сосредоточивает внимание лишь на нескольких главных периодах, мимоходом касаясь промежуточных. В рамках каждого периода повествование становится более последовательным благодаря наличию нескольких персонажей-долгожителей: несколько царей в книге живут сотни лет, и особенно герой Рустам, переживший многих царей и появлявшийся вновь и вновь на протяжении основного курса истории[216].
Рустам — главный герой поэмы. Он неистово сражается, всегда сохраняет преданность тем, кто ее более всех достоин — и, прежде всего, своему отцу Залю (лишь немногим менее значимому герою и прожившему чуть меньше лет, чем он сам), героическому правителю Забула в Афганских горах и верному вассалу великого царя. Рустам связан родственными узами с другими главными героями. Герой Гив женился на сестре Рустама, а Рустам, в свою очередь, — на сестре Гива. Один из величайших подвигов Рустама — его победа в одиночку над дивами (полулюдьми-получудовищами, воплощением нечистой силы), чьим оплотом был Мазандеран (к югу от Каспийского моря): шах Кей-Кавус по собственной глупости дал заманить себя и всю свою армию в плен и ослепить; Рустам приходит к нему на помощь, освобождает армию Ирана и его шаха и возвращает им зрение при помощи крови главного из убитых им духов. И все же Рустам действует не совсем в одиночку: ему помогает его верный конь, Ракш, который и сам совершает деяния, достойные любого героя. Однажды Рустам спал под открытым небом, Ракш был привязан неподалеку. Вдруг появился злой дух в обличии льва и приготовился напасть на воина, конь стал ржать, подавая сигнал тревоги. Но как только Рустам проснулся, дух исчез. Когда же это произошло снова, Рустам разгневался на Ракша, мешавшего ему спать, и пригрозил (в свойственной героям импульсивной манере) убить коня, если подобное повторится. Соответственно, Ракшу пришлось самому сразиться с духом-львом и одолеть его.
Одна из ведущих тем поэмы — вражда Ирана и Турана (последний объединяет земли к северу от Ирана по другую сторону Амударьи. Впоследствии стал обозначать тюркские территории). Кей-Кавус — шах из династии Кейанидов (туманной аналогии Ахеменидов и предшествующих им династий в реальной истории), который то и дело позволяет себе маленькие капризы: например, попытку полететь на небо в корзине, запряженной двумя орлами. Он угоняет своего красавца-сына Сиявуша в туранский плен из ревности, а многолетнего правителя Турана Афрасиаба убеждают убить его. Сын Сиявуша, Кей-Хосров, заняв трон своего деда, становится одним из любимейших шахов Кейанидов. Но в числе его главных целей — месть за гибель отца. Его жаждой мести во многом объясняется бесконечная вражда Ирана и Турана. Рустам снова становится опорой царя, но в итоге Кей-Хосров отстраняется от витязя и приказывает своему сыну Исфандияру взять Рустама в плен и привести ко двору. Исфандияр и Рустам — друзья, но чувство долга одного и оскорбленное достоинство другого приводят к схватке, и Рустам убивает наследника шаха. Его смертный бой с собственным неузнанным сыном вошел в наследие английской поэзии под названием «Сохраб и Рустам» благодаря переводу Меттью Арнольда[217].
Огромную роль в «Шахнаме» играет маздеизм (зороастризм): Ормазд (Ахура Мазда) появляется в книге в роли Бога-Создателя, а Ахриман — в роли дьявола; отсчет времени ведется по зороастрийскому календарю, к участию в событиях привлекаются зороастрийские ангелы. Но подобные термины не оставляют ощущения того, что зороастрийская традиция представляет для автора особую религиозную ценность. Скорее, возникает чувство, что этот задний план довольно экзотичен и никак не связан с повседневной жизнью персонажей, то есть с языческой составляющей многочисленных героических традиций. Это помогает придать повествованию более приземленный, человечный характер, как будто описываемые события почти не зависят от божественного одобрения или морально-этических стандартов, и, следовательно, герои в своих деяниях выглядят подчеркнуто человечными, со свойственными обычному человеку мотивацией и страстями, несмотря на обилие чудес и колдовства вокруг них. Когда Фирдоуси желает вернуть читателя к повседневным обязанностям героев и к признанию подчиненного положения человеческой воли в управляемом Богом пространстве, он прибегает к терминологии ислама, как это явствует из истории о Бижане и Маниже, где романтический сюжет оттенен трезвым отношением к реальности: туранская принцесса крадет своего иранского возлюбленного и увозит к себе во дворец, но его обнаруживают и бросают в яму, из которой его должен вызволить Рустам.
Пик расцвета арабской литературы
В первой половине Средневековья, несмотря на культивацию персидской поэзии и иранских традиций, арабский оставался излюбленным средством в создании серьезной прозы. Большинство авторов все еще стремились получить признание во всем исламском мире, что было возможно лишь при использовании арабского. Более того, к данному моменту арабская литература считала аксиомой общепринятые классические нормы и разнообразные жанры, возникшие в период высокого халифата. Она принимала как должное и основные нормы шариатского ислама. Лучшие авторы, особенно в первом веке или около того, могли, уверенно пользуясь различными формами, описывать историю жизни человечества, некогда свободно протекавшую и не зависевшую от чрезмерно строгих моральных устоев или взглядов общества.
Новорожденная персидская проза того времени была относительно свободна от классических критических норм и может показаться довольно непринужденной — несомненно, отчасти потому, что те, кто ее создавал, не преследовали цель завоевать как можно более широкую в географическом и историческом смысле аудиторию в отличие от писавших на арабском; их труды предназначались для ограниченных и часто практических целей. Подобно персидской поэзии, которая в еще большей степени, чем арабская, создавалась ради пущего блеска монаршего двора и изобиловала касыдами — хвалебными одами тому или иному эмиру — и утонченными романтическими поэмами, центральной темой прозы были дворы. Любимым жанром были «зеркала для эмиров», мудрые советы правителям в форме афоризмов и поучительных историй. Низам-аль-Мульк, великий визирь, составил руководство по царской политике для сельджукского султана Меликшаха, где примеры мудрости и глупости монархов излагались с такой прямотой и мощью, что труд долго оставался самым популярным. Гораздо более личной по характеру была «Кабус-наме», написанная в 1082–1083 гг. Кей-Кавусом, наследным древнеиранским правителем Табаристана на южном побережье Каспийского моря. Кей-Кавус, по-видимому, был искателем приключений и участвовал в джихаде в Индии. В его популярной книге, посвященной сыну, больше говорится о частной жизни аристократа, чем о принципах власти, хотя в ней уделено внимание и вопросам государственной политики. Он полагает, что его сына нельзя уговорить не пить вообще, поэтому советует ему пить только лучшее вино и слушать только лучшую музыку, чтобы процесс питья доставлял удовольствие, и избегать распития спиртного по утрам и в пятницу вечером (из уважения к дню, когда все сообщество совершает намаз), чтобы хоть немного прийти в себя и не утратить почитание своих подданных. Он дает такие же разумные советы и касательно покупки рабов, лошадей и земли, поскольку даже великие землевладельцы и монархи должны вкладывать средства в недвижимое имущество, чтобы обеспечить себе личный доход, а цари должны владеть зданиями и целыми торговыми кварталами в каждом городе на своей территории. (В главе о персидской поэзии (см. ниже) я расскажу о ней подробнее; теперь же необходимо вспомнить, что уже в это время ее основные жанры сформировались и были близки к пику своего расцвета.)
Напротив, круг тем официальной арабской литературы (вклад в которую вносили, разумеется, и персы, и арабы) в основном все еще был далек от проблем царей и знати. Даже когда речь шла об идеальном героическом образе, он не имел ничего общего со знатным витязем, излюбленным героем персидских авторов. В поэзии преобладал образ закаленного в боях, но чуткого бедуина, воина и любовника. В прозе появился новый образ, далекий от героического. И все-таки даже там, в конце X в., формируется новый жанр, основное действующее лицо которого — интересный абсолютно городской герой: красноречивый и неуловимый хитрец, персонаж макам — жанра рифмованной прозы, саджа, состоящего из нескольких следующих один за другим эпизодов, в которых хитрец исполняет тот или иной трюк. Жанр макам стал отражением различных интересов адиба. Изобретателем жанра считается Бади-аз-Заман (ум. в 1007 г. в возрасте 40 лет) из Хамадана в Аджамском Ираке, который с его помощью демонстрировал свое выдающееся красноречие. Никто не мог превзойти его в остроумии и умении говорить.
Классическая макама содержит череду сцен из жизни хитрого и умного героя, где он с удовольствием совершает свои веселые проделки, особенно если они помогают ему обогатиться. Садж, сам по себе очень тщательно составленный ради усиления вербального эффекта, перемежается со стихами (ширами), составленными по самым строгим правилам стихосложения. Все великолепие грамматики и лексикографии выразилось в словесных фейерверках, таких же захватывающих, как и сами истории. Не меньше удовольствия доставляли читателю и частые остроумные ссылки на любопытные или сложные для понимания знания. Декоративную направленность жанра подчеркивает его контраст с нашим психологическим романом, где тоже описываются приключения героя. В макаме делается упор не на внутреннее развитие персонажа, а на различные черты характера, которые он демонстрирует миру, но важнее всего в этом жанре — деликатность и виртуозность словесной игры и умелое применение эрудиции. В наших же романах, напротив, часто игра слов отходит на второй план, а к кругозору читателя авторы и вовсе не обращаются.
Тем не менее интерес к жанру макамы отчасти связан и с личностью его главного героя. В макаме, некогда изобретенной Бади-аз-Заманом из Хамада-на, всегда изображалась одна и та же пара — отчаянный и остроумный плут, которому всегда удается исполнить свой план, каким бы дерзким он ни был, и рассказчик, глупое ничтожество, которого плуту всегда удается одурачить, а иногда — и шокировать, но который неизменно восхищается талантом и дерзостью героя. Величайшую макаму создал Абу-Мухаммад аль-Касим аль-Харири (ум. в 1122 г.), скромный грамматист из Ирака. Друзья убедили его заняться созданием своего лучшего шедевра, целью которого было бы продемонстрировать пример подобающего использования всех самых сложных форм грамматики арабского языка. Это один сплошной шедевр виртуозности; к примеру, некоторые страницы написаны исключительно такими арабскими буквами, у которых нет точек в написании — то есть автор пользовался лишь половиной букв алфавита (того же эффекта можно было бы добиться, если бы кто-нибудь взялся писать на английском, исключая слова, где используются закругленные буквы — то есть оставив только слова с А, Е, F, Н, I, К и т. д.). Но труд этот невероятно притягателен даже для неграмматиста. На самом деле он доставляет удовольствие читателю даже в переводе на чужой язык, когда большая часть приемов утрачивается[218].
Суренянц В. Фирдоуси читает поэму «Шахнаме» шаху Махмуду Газневи
Абу-Зейд, герой-плут, наиболее типичным образом изображен в эпизоде с попрошайничеством. Приглашенный провести вечер в компании мужчин ввиду своего словесного дара (поскольку эти мужчины были ценителями красноречия), он взволнованно говорит им, будто только что нашел давно потерянного сына, но не осмеливается ему открыться, поскольку не имеет средств, чтобы воспитать его как следует. Мужчины скидываются и набирают довольно большую сумму. После этого рассказчик (член этой компании), которого Абу-Зейд просит пойти с ним, чтобы обналичить чеки, выяснил (слишком поздно), что никакого сына не существовало и деньги будут потрачены на выпивку. В другом эпизоде рассказчик, путешествующий в надежде снова разбогатеть, встречает Абу-Зейда в караван-сарае, и тот убеждает его в необходимости жениться на дочери богача, чья семья остановилась в том же караван-сарае. Красноречие Абу-Зейда помогло преодолеть все препятствия. Но на свадебном пиру плут разносит сладости, пропитанные снотворным, и спокойно отбирает у спящих гостей все имущество, а затем отправляется в пустыню — оставив рассказчика (единственного, кого он не накормил сладостями с сонным зельем) одного выпутываться из скандальной ситуации. В другой раз рассказчик сталкивается с Абу-Зейдом, когда тот пародирует
традиционную проповедь на свадьбе двух наглых нищих в шумной компании попрошаек и воров. В то же время Абу-Зейд часто демонстрирует приступы высокого благородства. Это подтверждает сцена паломничества в Мекку, когда выясняется, что он читает очень трогательные проповеди, но на протяжении всего паломничества неизменно отказывается от денег. На каждом перекрестке рассказчик (а с ним и читатель) беспомощно поддается обаянию Абу-Зейда и становится его сообщником — явно из-за невероятной красоты его речей, но к тому же из-за неукротимой свободы его бродячей жизни. Периодически Абу-Зейд применяет по отношению к себе фразеологию, связанную с образом воина-бедуина — но он умный и образованный герой, соответствующий определению и вкусам катиба или купца.
Более элегантная сторона макамы и виртуозность владения речью достигли пика в эпистолярном искусстве того времени. Бади-аз-заман Хамадани был известен также своими виртуозными письмами. Торжественные послания, написанные рифмованной прозой, собирали любители, а их авторы становились объектами зависти, не только к высокому положению, которое они занимали, но и к их авторитету мастеров. Ас-Сахиб ибн Аббад (ум. в 995 г.), визирь при Буидах в Рее (близ современного Тегерана), покровительствовал многим писателям, и ему посвящено множество панегириков, выражавших благодарность или надежду. Он был самым щедрым патроном литературы своего века. Но не меньше, чем патронажем (не говоря уже о его важнейших достижениях в области финансов и военного дела), он гордился своим эпистолярием, и его соперничество в обеих областях с предыдущим визирем Рея, Ибн-аль-Амидом, еще долго оставалось предметом критики и сплетен.
Но наслаждение отточенным языковым стилем проникло во все сферы. Исследование свойств арабского языка вышло далеко за рамки обычной грамматики почти до уровня метафизики. Ибн-Джинни (ум. в 1002 г.) выработал систему высокой этимологии, стремясь показать не только происхождение каждого арабского слова от базового значения трехбуквенного корня, но даже то, что несколько корней сами могут иметь родственные значения благодаря наличию общих букв[219]. Его труд позже использовался при разработке философского подхода к изучению арабских букв, согласно которому, все они, равно как и их сочетания, обладают определенным лексическим значением, выполняя основную семантическую нагрузку в языке. Подобные концепции использовались тогда в ряде религиозных и научных контекстов, а также при составлении замысловатых предсказаний в джафре — собраниях зашифрованных высказываний, применимых ко многим сферам и явлениям.
Абу-Али ат-Танухи (939–994) являет своим творчеством пример одновременно морализации, характерной для той эпохи, и любования остроумием. (Знаменитых авторов так много, что мне придется произвольно выбрать нескольких, а кроме того, ат-Танухи частично переведен на английский, и его рассказы ярко живописуют жизнь в те далекие дни*.) Он происходил из старого арабского племени и служил кади при Буидах в Ираке. Он сожалел об упадке, наблюдавшемся в тот период. В его произведениях отражается смешение традиций шариата и литературы: он использовал в своих историях цепочки передачи документальных сведений (иснады), обращаясь, конечно, только к непосредственным очевидцам событий — современникам или представителям одного или двух предшествующих поколений — и подчеркивая, что его рассказы имеют строгое моральное предназначение. И все же он писал их не только ради поучений, но и в развлекательных целях. Подобно Джахизу, он старался избегать однообразия, часто с легкостью меняя темп или даже тему повествования, и прекрасно отдавал себе отчет в своем литературном мастерстве. Он критиковал более ранние произведения подобного характера (и даже со схожими названиями), по канонам которых строил свои, и более поздние авторы поддерживали его мнение, подражая в своих произведениях именно ему. Его чувство литературного стиля прекрасно демонстрирует длинный рассказ о царе, захватившем трон в Индии, который доказывал свое право на престол, попросив своих критиков называть одного за другим предков свергнутого монарха, пока они не дошли до того, кто также захватил трон незаконно. После чего новый монарх подчеркнул, что сам находится в положении того, кто основал таким же образом предыдущую династию; ат-Танухи противопоставляет этой истории известное арабское предание, о том как некий бедуин самодовольно заявил своему сопернику: мой род начинается с меня, а твой — заканчивается тобой.
Несмотря на повышенное внимание к стилю, все сильнее в литературе ощущается влияние традиции фальсафы. Труды по географии и истории — важнейшим дисциплинам для адиба — по-прежнему писались прекрасным литературным слогом, и, пожалуй, важнейшим историком после ат-Табари был в большей степени философ, чем знаток Шариата: перс Абу-Али Ахмад ибн Мискавайхи (ум. в 1030 г.) Ибн-Мискавайхи писал труды по медицине и химии, а на жизнь зарабатывал, будучи библиотекарем визирей в Багдаде, а затем — в Рее (при Ибн-аль-Ами-де). Но набольшую известность он приобрел благодаря своим трудам по этике и истории. Он написал (на арабском) несколько работ по этике в манере Аристотеля, ища золотую середину с минимальной ссылкой на шариат. Одна из таких работ легла в основу самых знаменитых персидских трактатов по этике более поздних времен. Как историк, он был моралистом. В его работах главное внимание уделялось правлению монархов, хотя, кстати, в своей манере он был далек от напыщенности, свойственной традиции Сасанидов. Напротив, его взгляд отличался непредвзятостью и проницательностью, а целью описаний было извлечь практические уроки. Обладая философским интересом к обществу в целом, он отслеживал не столько историю развития мусульманского сообщества и его сознания (как это делал ат-Табари), сколько упадок сильной аграрной администрации при Аббасидах и Буидах.
Проникновение знаний и суждений фальсафы в сознание образованного общества происходило больше за счет универсальных авторов, которые снискали аудиторию благодаря великолепию своего стиля, чем за счет более специализированных писателей вроде Ибн-Мискавайхи. Абу-Хайян ат-Тавхиди (ум. в 1018 г.) являлся шафиитом в своем подходе к фикху и мутазилитом в отношении калама (последователем учения аль-Джахиза). В своем стиле он близко придерживался примера аль-Джахиза — и, хотя язык его не всегда был прост, взгляд его отличался свежестью и ясностью. Интерес к фальсафе был для него важнее фикха и даже калама. Он популяризовал все виды научных знаний, даже некоторые элементы суфизма; и в его очень разноплановых книгах по популяризации философия файлясуфов часто получала центральное значение. Одним из его важнейших трудов был пересказ — возможно, не дословный, но и не придуманный от начала до конца, как это бывало с другими его пересказами — ученых бесед, происходивших в доме одного из его наставников в фальсафе, Абу-Сулеймана ас-Сиджистани, которого он боготворил, хотя его уважением пользовались очень немногие. (Учителем ас-Сиджиста-ни и самого ат-Тавхиди был Ибн-Ади, великий христианский ученик аль-Фараби.) Ат-Тавхиди активно интересовался логикой, и как-то раз он пересказал дискуссию между выдающимся файлясуфом-логиком и столь же выдающимся арабским грамматистом о параллелизме логики и грамматики. (Грамматисты того времени очень хотели испытать новую систему; один из наставников ат-Тавхиди так перемешал законы логики в своей грамматике, что она стала практически неразличимой, но ат-Тавхиди объясняет это не неверным применением логики, а тем, что мастер применял логическую систему собственного изобретения, отличную от системы Аристотеля.)
Карьера ат-Тавхиди весьма поучительна. Сын торговца финиками, по-видимому, никогда не знавший богатства, он рассчитывал, что деньги и славу принесут ему литературные способности. Но, хотя он и сидел за одним столом с визирями, его амбиции, по-видимому, так и остались не удовлетворены. В отличие от Ибн-Мискавайхи и некоторых других ученых мужей, занимавших относительно спокойные должности и потихоньку ведущих свою исследовательскую работу, ат-Тавхиди в своей повседневной жизни отличался ожесточенным, а иногда и неистовым нравом. По большей части он зарабатывал на жизнь, как многие другие ученые, частным переписчиком (переписчиков нанимали, чтобы создавать более качественные рукописи, чем те, что получались в результате групповых диктовок продавцов книг, но ат-Тавхиди жаловался, что такая работа портит зрение). Одни презирали его как дилетанта, который писал о многом и толком не знал ничего; другие обвиняли в свободомыслии — однажды его выслали из Багдада за то, что он написал книгу, подрывавшую авторитет шариата (вслед за аль-Халладжем он выдвинул гипотезу о том, что внутреннее духовное паломничество может стать эквивалентом хаджу в Мекку, если по каким-то причинам человек не может его совершить). Даже ас-Сахиб ибн Аббад, щедрый визирь Рея, отказался от его услуг после трех лет радушных приемов — возможно, не столько из-за откровенно оппозиционного настроя ат-Тавхиди по отношению к шиизму (визирь симпатизировал шиитам), сколько из-за его наглости и несговорчивости: несмотря на то что из-под пера ат-Тавхиди иногда выходила неприкрытая и явно неискренняя лесть, на деле он демонстрировал, что считает себя равным визирю. Позже он написал язвительный пасквиль на ас-Сахиба и его предшественника, Ибн-аль-Амида, который тоже не сумел достаточно щедро вознаградить его, где обнажает и даже преувеличивает их слабые стороны — по его собственному признанию, его оправдывает то, что они первыми несправедливо обошлись с ним. Великолепный язык книги был высоко оценен, но, как говорили, она была настолько злой, что ее владельца неизменно преследовали неудачи. Вечный поиск мецената, казалось, увенчался временным успехом в Багдаде. В какой-то момент ат-Тавхиди в отчаянии сжег все свои труды. Позже он ушел на покой и уехал в Шираз, в Фарс, и его довольно хорошо там принимали, что позволило ему заняться преподаванием[220].
Мавзолей Фирдоуси в Тусе, Иран. Современное фото
Самой эксцентричной фигурой для своих современников и самой притягательной для наших был Абу-ль-Для аль-Маарри (973–1058). Получив образование в Алеппо, он большую часть жизни провел в Маарра, маленьком городке на севере Сирии, где он родился. В тридцать пять аль-Маари совершил длительную поездку в Багдад, изучал многообразие литературной и философской жизни города, но по возвращении домой узнал, что его обожаемая мать умерла. С тех пор он жил в уединении, так и не женившись и оставаясь аскетом до преклонного возраста. В поздние годы он ослеп, но был довольно хорошо обеспечен, поскольку являлся самым видным айяном своего города, почитаемым людьми и окруженным учениками, которые приезжали издалека, чтобы послушать его лекции.
Его прозаические послания — сплошная нескрываемая лесть и неискренние похвалы (которые никого не вводили в заблуждение, поскольку настоящим предметом похвал была только изысканная игра мыслей — кроме тех моментов, когда в ней проглядывалась шероховатость), смешанные с личными данными, использование которых подчас несло не столько информативную, сколько риторическую нагрузку. И все же каждое его послание — это произведение искусства. Чтобы его прочитать, требуется сначала определить последовательность мыслей, зачастую непонятную с первого взгляда. Только тогда можно оценить сочетание эпитетов и сравнений, подчеркивание черт определенных образов неожиданными контрастами; так, он мог после стандартного статичного сравнения использовать еще одно, вроде бы менее значимое, но в силу своей свежести или принципиальной важности дающее читателю ключ к пониманию сути: «пока горы тверды и на дереве салам есть листья», или «подобно пузырю в пруду или капле дождя в горном озере». Можно насладиться цитатами из бездонного кладезя арабской литературы, которые сразу же сможет определить образованный читатель, и редкими словами, которые станут проверкой его эрудиции и польстят его тщеславию. Чтобы услышать музыку слов, послание на арабском следует, конечно, читать вслух. Тогда, подобно хорошей беседе, она прекрасно впишется в антураж красиво обставленного дома[221]. Его поэзия более известна, чем письма: он был одним из немногих крупных арабоязычных поэтов после аль-Мута-набби (в век, когда поэты иранских областей исламского мира обращались к персидскому). Его стихи строятся по той же схеме и наполнены интересными и интригующими поворотами мысли и изысканным подбором слов. Он называл свой превосходный сборник стихов последних лет жизни «Аузумийят»[222], поскольку требования к размеру и рифме, которые автор считает обязательными для себя, более строги, чем те, что предъявляют критики.
Жизненная позиция аль-Маарри точно так же задавала планку, которой немногие могли соответствовать. Он резко осуждал несправедливость и лицемерие, которые наблюдал вокруг себя, открыто говоря о том, кто именно не выдержал критики — улемы, правители или рядовые горожане. Он видел столько человеческих недостатков, что считал саму жизнь ужасным невезением и гордился тем, что никого не сделал несчастным, произведя его на этот свет. Он высмеивал самые строгие религиозные догмы. Считая все официальные религиозные убеждения сущностями одного порядка, он истинно религиозными называл только тех людей, кто помогал своим собратьям независимо от их вероисповедания. Но он следил за своими высказываниями, стараясь выражаться так, чтобы в случае обвинений в неуважении к религии суметь себя защитить. Убежденный, что все твари божьи должны помогать друг другу, он проповедовал непричинение вреда даже животным и сам был вегетарианцем. На эту тему он много переписывался с главным исмаилитским дай Египта при Фатимидах. Дай был достаточно трезвомыслящим и увлеченным человеком, но, когда стало ясно, что он не в состоянии постичь этические проблемы, аль-Маарри впал в свое обычное состояние парадоксальной фривольности и стал играть с ним, пока дай не потерял всякую надежду понять мастера.
Расцвет естественных наук: аль-Бируни
С созреванием литературы пришла свобода в использовании общепринятых форм для самых разнообразных целей. Соответственно, когда в области научных и философских исследований полностью ассимилировались многочисленные старые традиции, ученым стало проще приступать к изучению совершенно новых сфер или пересматривать основополагающие вопросы, в то же время продолжая пользоваться преимуществами всех лучших достижений той или иной традиции.
Не все области доисламского ирано-семитского интеллектуального наследия могли получить открытое всенародное признание так же легко, как иранская героическая традиция. Но прикладным сферам естественных наук это удалось. С переходом больниц и обсерваторий от зимми к мусульманам по мере исламизации населения все больше ученых, занимавшихся естественными науками, тоже становились мусульманами. И поскольку больницы и библиотеки все чаще финансировались при помощи средств от вакфов, часто неподвластных текущему правителю, мусульманские ученые, в свою очередь, оказались частью единого суннитского истэблишмента, действия которого контролировались кадиями и шариатскими улемами. Но к данному моменту естественнонаучная область была уже так высоко развита, что можно было довольно легко найти себе применение в этой сфере. Научные исследования велись активно. Наблюдалось единственное ограничение: в первой половине Средневековья режимы эмиров не способствовали объемным вложениям в крупные обсерватории и тому подобные учреждения, а улемы не приветствовали распределение средств от вакфов на эти цели. Кроме хорошо профинансированной реформы гражданского (солнечного) календаря при Меликшахе, научная работа велась втихомолку, не переживая особенно блистательных моментов, которые наблюдались до или после рассматриваемого периода, при монголах. (Высокое качество и объем проделанной тогда работы свидетельствует о том, что снижение институциональной сложности, наблюдавшееся в то время, не являлось катастрофичным для интеллектуальных сфер.)
Советская почтовая марка, посвященная 1000-летию со дня рождения аль-Бируни
Наука, разве что кроме медицинской отрасли, чаще всего оставалась воплощением духа игры: решить новое уравнение означало победить. Мужчин интересовали парадоксы — решение кажущихся дилемм, достижение того, что кажется недостижимым[223]. Старая греческая традиция, разработка автоматов — механизмов, способных выполнять невозможное: демонстрировать фокусы, визуальный обман или жонгляж — развивалась и обогащалась разработками. Производство гидроэнергии, зеркал, рычагов, передаточных и пружинных механизмов или любых других средств, которые при умелом использовании могли бы обладать огромной мощью, было сокрыто за стенами искусно декорированных кабинетов. Исамил аль-Джазари создал (в 1205 г.) довольно популярное краткое руководство по таким автоматам с заботливо выполненными иллюстрациями. То, что он демонстрирует, предназначалось, скорее, для развлечения, чем для работы, и предполагало определенный уровень подкованности в математике, чем не могли похвастать среднестатистические ремесленники.
Тем не менее в это время имели место крупные достижения, и некоторые ученые серьезно подошли к философской задаче осознания реальности. Достижения были по своим масштабам не так велики, как реорганизация научных знаний, предпринятая в период высокого халифата, но, пожалуй, в долгосрочной перспективе принесли больше плодов, чем обычно ожидают от науки. Ученый все еще полагал, что его главная задача — как можно лучше понять самого себя, что, кроме всего прочего, подразумевало усвоение всего открытого до сих пор: без напечатанных библиографий, индексов и каталогов это само по себе уже было делом длиною в жизнь, даже в рамках заданной темы. Но как только естественно-научный опыт греков и индийцев был полностью изучен и растолкован на арабском языке, а его самые развитые формы получили широкое признание, можно было выработать единый всеобъемлющий упорядоченный подход. Значительная степень синтеза наук облегчила задачу и дала возможность индивидуальным исследованиям стать не просто повторением чьих-то усилий. Следовательно, ученые могли тестировать больше новаторских идей.
Вклад, вносимый новыми разработками, оставался не более чем дополнением к ранее достигнутому, особенно в ретроспективе. Например, после того как Мухаммад аль-Хорезми составил свой обобщающий труд по алгебре, стало проще увидеть, какие белые пятна там остаются, но эти пробелы сначала были видны только в отдельных математических случаях. Среди прочего, отправной точкой в плодотворной работе стала определенная геометрическая теорема, требующая дальнейших доказательств и сформулированная еще Архимедом. Немногим позже аль-Хорезми эту теорему стали отождествлять с решением уравнения х3 + а = Ьх2. Она получила геометрическое доказательство благодаря другим греческим трактатам о конических сечениях к концу высокого халифата. Но существовало несколько других возможных доказательств, и еще два были найдены в следующем веке. В ходе этой работы постепенно, от одного решения к другому, стало более очевидным значение использования конических сечений и соотношения геометрических и алгебраических доказательств. К периоду творчества Омара Хайяма (ум. в 1123 г.), который сам тщательно отслеживал историю вышеуказанной проблемы, были выработаны четкая терминология и целый ряд методов решения уравнений первой, второй и третьей степени — хотя уравнениями более высоких степеней занимались лишь спорадически. (Как и у греков более позднего периода, иррациональные решения признавались, а отрицательные — пока нет.) Омар Хайям осуществил обобщающее и систематическое исследование в алгебре, куда вошло много новых методов решения, хотя даже в случае с уравнениями первых трех степеней он все-таки опустил ряд возможных положительных решений. Однако именно благодаря его отдельным новым решениям, равно как и его обобщениям, алгебра смогла развиваться дальше.
В химии, после того как были сформулированы основные постулаты Джабира, уже в XI в. наблюдаются первые попытки количественного анализа вместо простого качественного. Но, как мы знаем теперь, они прервались и были предприняты снова только в XVIII в. на Западе. Более плодотворной была разработка дистилляторов; судя по всему, они появились в XIII в. одновременно в исламском мире и на Западе. В оптике аль-Хасан ибн аль-Хайсам (ум. ок. 1039 г. — он нашел решение одного из уравнений, упомянутых выше) предпринял важные шаги в понимании оптического спектра — эффекта радуги и искусственной радуги. Ибн-аль-Хайсам первым применил в своих экспериментах камеру обскуру. Рожденный в Басре, он служил халифу аль-Хакиму из рода Фатимидов, но в какой-то момент он, видимо, имел неосторожность внушить своему господину надежду на то, что в состоянии осуществить крайне важный проект — отрегулировать разливы Нила. Когда же ему это не удалось, он навлек на себя гнев правителя. Почти до конца жизни он зарабатывал перепиской рукописей. Его общее исследование оптики стало фундаментальным текстом в этой сфере и использовалось в латинском переводе на Западе даже во времена Кеплера.
В астрономии некоторые мусульмане совершали открытия, особенно интересные современным ученым: было выдвинуто предположение, что земля вращается вокруг своей оси (чтобы объяснить дневной цикл небес и упростить, таким образом, понимание движения планеты). После тщательных расчетов скорости ветра, который должен был возникнуть в результате, если бы атмосфера не зависела от подобного движения, это предположение было отметено. Была даже выдвинута гипотеза, что земля вращается вокруг солнца. Но последнюю теорию нельзя было подтвердить наблюдениями изменений в положении постоянных звезд в ходе годового цикла земли или постоянно прогрессирующими наблюдениями движения планет при предполагаемых круговых орбитах. Подобно теории Коперника в более поздние годы, это была, скорее, попытка создания более красивой схемы, чем более точного толкования фактов, почему от нее и отказались.
Самой притягательной фигурой того периода был Абу-р-Райхан аль-Бируни (973-после 1050) из Хорезма, человек «универсальных знаний». Его первой крупной работой (1000 г. н. э., с более поздними поправками и дополнениями) была книга
«Памятники минувших поколений», обширное хронологическое исследование, в котором применен математический подход, но при этом соблюдается историческая последовательность, благодаря чему мусульманская история выстраивается в единую широкую перспективу. Ему покровительствовали последние представители Саманидов в Бухаре, и в раннем возрасте он совершил дальнюю поездку на запад, в Рей, но затем вернулся в Хорезм и служил при последнем из автономных местных хорезмшахов ученым и дипломатом до прихода к власти Махмуда Газневи. Махмуд привез его в Газну, где он служил придворным астрологом — хотя, по-видимому, в частном порядке считал официальную астрологию как систему предсказания реальных событий неприемлемой. Его научная работа пользовалась адекватной поддержкой двора, несмотря на то что он не всегда потакал его капризам: долгое время он отказывался писать на фарси, отдавая предпочтение арабскому. (Родным языком для него, разумеется, был хорезмийский — иранский диалект, но не сам фарси.) Считается, что за фундаментальный труд по астрономии ему предложили столько серебра, сколько мог унести слон, но он отказался. В какой-то момент он насчитал сто тринадцать трактатов собственного сочинения, к которым добавлял некоторое количество работ, написанных в его имя коллегами-учеными (предположительно основанных на его материалах). В числе прочего он написал исследования драгоценных камней и лекарств, а также некоторых вопросов математики и физики[224].
Самым примечательным из его трудов стало исследование жизни Индии (1030 г. н. э.), основанное на личных наблюдениях, сделанных во время походов Махмуда. Он включил в эту книгу исследование санскритских философских систем (поскольку изучал санскрит), где применил почти антропологический подход: Бируни не столько старался доказать или опровергнуть их истинность, сколько пытался понять, что именно заставило индийцев думать так, а не иначе. Он прекрасно осознавал космополитическую природу исламской культуры и не видел разницы между греческой и исламской традициями при сравнении с индийской философией. Но он подчеркивал более обширную экспансию ислама по отношению к древнегреческой культуре, и отчасти именно этим объяснял большие глубину и масштабность некоторых исламских исследований — в частности, в области географии. Он мог бы считаться добрым мусульманином, если закрыть глаза на то, что он преклонялся перед независимым файлясуфом Абу-Бакром ар-Рази.
Фальсафа и проблемы духовного опыта: Ибн-Сына
Крах великого халифата имел большее значение для строго «философской» части фальсафы, в которой рассматривалось общее ощущение пространства и места в нем отдельного человека, чем для более практических научных изысканий. Великая обобщающая работа аль-Фараби и здесь помогла увидеть существовавшие белые пятна. Но эпоха ставила новые вопросы. В век, когда халифат уже не являл собой философски упорядоченное общество, а шариатский ислам навязывал свои нормы всем сферам деятельности, личную и общественную роль фальсафы следовало пересмотреть — в частности, в плане ее отношения к преобладающей в народе религии.
Самая любопытная из связанных с этим попыток была предпринята после 983 г. н. э. «Чистым братством» (Ихван-ас-сафа). Они образовали одну мужскую группу в Басре и вторую — вероятно, в Багдаде, посвятив свою деятельность просвещению и духовному очищению самих себя и пропаганде своих идей в разных исламских городах, постепенно завоевав симпатии довольно большого числа населения благодаря своим принципам честности и чистоты и, таким образом, повышая уровень образованности общества в целом. Специально для этой цели они создали энциклопедию областей рационалистической философии в качестве справочного пособия. Эта энциклопедия — на самом деле единственное, что осталось от этого братства, — свидетельствует об их связях с батинизмом у шиитов. (Если правда, что файлясуф Абу-Сулейман ас-Сиджистани был членом этого братства, как свидетельствуют некоторые источники, это значит, что они не настаивали на исключительно батинийском подходе.) Составители сборника трактатов убеждены, что имамат должен быть воплощением божественной космической рациональности среди людей, и увлечены поиском примеров скрытого символизма в Коране и шариате. Но концепция энциклопедии больше соответствовала фальсафе, чем учение великих исмаилитских дай Египта, чье политическое лидерство «братья» (или, по крайней мере, некоторые из них) наверняка уважали. В ней довольно объективно, без склонности к какой-то определенной сектантской организации, излагался миф о микрокосмическом возвращении (более или менее похожий на тот, что придумали неоплатоники, но в исламской интерпретации): то есть идея о том, что мир во всей своей сложности произошел от сверхсущего Единого, которое выражено в космическом Разуме, и что вся эта сложность воссоздается в людях как в микрокосмах, которые путем очищения своего рассудка способны в умственных созерцаниях подняться до Единого.
Мусульманские литераторы, ученые, философы и теологи, 945–1111 гг.
950 г.
Смерть аль-Фараби, философа-метафизика, который придерживался элитарных взглядов и брал за основу своих работ эллинистические традиции
956 г.
Смерть аль-Мутанабби, последнего великого поэта, писавшего в древнеарабском стиле, непревзойденного мастера утонченных поэтических аллюзий 965 г. Смерть аль-Масуди, много путешествовавшего и эрудированного писателя, «философского историка»
Ок. 970 г.
Сборник Расаил «Чистых братьев» (Ихван-ас-сафа), полная компиляция научных и метафизических знаний
994 г.
Смерть ат-Танухи, адиба, историка (в манере адаба), придворного
1000 г.
Смерть аль-Мукаддаси, путешественника и писателя-географа
1008 г.
Смерть Бади-аз-замана аль-Хамадани, прозванного «Чудом эпохи»; основоположника и гениального представителя одной из разновидностей рифмованной прозы (макама)
1013 г.
Смерть аль-Бакилляни, правоведа и мукаталлима-ашарита, систематизировавшего ашаристкий калам
1018 г.
Смерть ат-Тавхиди, файлясуфа-популяризатора, придворного, адиба
Ок. 1020 г.
Смерть Фирдоуси, персидского эпического поэта
1030 г.
Смерть Ибн-Мискавайхи, адиба, файлясуфа, склонного к морализации философии и истории
1037 г.
Смерть Ибн-Сины, файлясуфа, объединившего источники знаний из греческой традиции и из пророков, облекшего положения фальсафы в исламские термины, визиря
Ок. 1039 г.
Смерть Ибн-аль-Хайсама, астронома, оптика, математика, которому покровительствовал фатимидский халиф аль-Хаким
«Братья» предлагали заманчивую перспективу. Поскольку идейными вдохновителями группы были исмаилиты, вся их концепция представляла собой новый виток исмаилитского идеализма. Они явно преследовали не только личные цели: они желали повлиять на все мусульманское сообщество, изменив жизнь отдельных его представителей. Примечательной в их усилиях была идея взаимного просвещения и поддержки в повсеместных маленьких группах увлеченных наукой друзей, причем, по-видимому, единство доктрины не являлось обязательным. Из этого проекта, судя по всему, почти ничего не вышло. Энциклопедия все-таки получила широкое признание и оставалась таковой до самого заката исламской цивилизации, пропагандируя один из аспектов культуры фальсафы. Но даже она не привела к дальнейшему интеллектуальному или духовному прогрессу общества. Здесь плохо прослеживаются труды аль-Фараби; идеи по большей части черпались из разнообразных эллинистических школ без строгой интеграции. Следовательно, поднимаемые вопросы не ставились остро.
Сравнение с «Чистыми братьями» помогает лучше увидеть сильные стороны работы величайшего философа того времени Абу-Али Ибн-Сины (на латыни называемого Авиценной; 980–1037 гг.), причем деятельность братства пришлась на детские годы Ибн-Сины. В своих трудах ученый отталкивался от работ аль-Фараби (и Аристотеля в той степени, в какой они стали доступными в интерпретации аль-Фараби). Он также обнаружил, что в период после высокого халифата фальсафа не объясняла политическую, социальную и даже индивидуальную реальность, если только речь не шла (более четко, чем аль-Фараби, избранный им толкователь Аристотеля) о религии — в частности, о шариате — и обо всем связанном с ней религиозном опыте. Но он отвергал батинизм, которым увлекалась его семья. А его работа оказалась способной раскрыть новые интеллектуальные ресурсы, хоть и не связанные с трансформацией общества.
Ибн-Сина родился близ Бухары и принадлежал к роду чиновников-шиитов. В юном возрасте он смог получить прекрасное образование в придворных библиотеках Саманидов. Он рассказывает, что к восемнадцати годам проглотил все имевшиеся в библиотеках книги по всем областям знаний, и уж, во всяком случае, по разным дисциплинам фальсафы. К этому моменту он уже успешно практиковал медицину. Он считал обязательным для себя получить место при богатом дворе, но не желал ехать в Газну, и, когда Махмуд увез к себе аль-Бируни и других ученых, Ибн-Сина скрылся от его назойливых приглашений, найдя место при отдаленном дворе в Западном Иране. Там он стал визирем при самом успешном из поздних Буидов, сопровождая его в походах. Параллельно он нашел время, чтобы сочинить многочисленные небольшие трактаты и выполнить два великих энциклопедических труда в его любимых отраслях — медицине и метафизике[225].
Аль-Фараби предпринял попытку объяснить откровения ислама и законов шариата рационалистическими терминами, но, подобно ар-Рази, он интеллектуально абстрагировался от ислама. Со временем такая индифферентность к религии стала меньше ощущаться. В своей метафизике Ибн-Сина стал предвозвестником фальсафы, которая будет теснее связана с исламской традицией. Признавая важность шариата, он предпринял гораздо больше усилий, чем аль-Фараби, чтобы подтвердить не просто общий принцип потребности в пророке-законодателе, но, в частности, в законах-откровениях, приписываемых Мухаммаду. Он подробно разъяснил общественную пользу разных законов шариата как для народных масс, так и для элиты — понимая, что в последнем случае философ, как мудрец, может обойтись без подробностей в угоду более важным вещам. Так, он защищал полезность совершения намаза как дисциплины, достойной даже внимания философа, но позволял себе пить вино на том основании, что считал его полезным и знал, как избежать чрезмерного употребления, опасность которого в массах стала причиной того, что вино запретил Пророк.
Но его волновала и психология самого откровения. Аль-Фараби отдавал пророчества на откуп ученым, в большей степени склонным фантазировать в рамках своих концепций, поскольку философы-рационалисты воспринимали их не так уж серьезно. Ибн-Сина представил анализ, где доказывал, что пророк должен и быть идеальным философом, и иметь еще более широкий доступ к истине, чем лучший философ, оставшийся на уровне дискурсивных рассуждений. Он пришел к этому выводу, объясняя мистический опыт суфиев, в чьем духовном опыте он, в любом случае, должен был разобраться. Применяя неоплатоническую систему логико-рациональной эманации от Единого к миру сложных сущностей, он объяснил, что душа может интуитивно ощущать космический Активный интеллект, который управляет событиями в подлунном мире, причем она ощущает это непосредственно, а не приходит к пониманию путем логических размышлений. Доказательством, по сути, являлась способность суфиев приходить к определенным идеям, в которых они выходили за рамки условных предположений и подходили к тому, что следовало признать философской точкой зрения, не используя силлогизмов и рациональных категорий. Это интуитивное понимание могло быть переведено в образы учеными с богатым воображением, и уже в этом виде суфии или пророки представляли его остальным. Пророком был тот, кто довел эту схему до самых высоких степеней совершенства.
В ходе данного анализа Ибн-Сина обратился к психологии, сходной по духу с поздним суфизмом. Он утверждал, что человеческий ум обладал способностью рассуждать не просто потому, что являлся частью вселенского Активного интеллекта (как считал аль-Фараби), то есть, по сути, признавал наличие рациональных универсальных категорий в основе всех преходящих явлений — такое признание «актуализировало» потенциальный интеллект в каждом индивидууме. Ибн-Сина настаивал, что потенциальный интеллект в каждом индивидууме был отдельной сущностью; он нематериален и, следовательно, рационален и неразрушаем, независимо от того, насколько неадекватно он «актуализирован». Он подкреплял эту гипотезу двумя аргументами. Упоминая такие явления, как самовнушение и гипноз, он толковал их как непосредственное воздействие души на собственное тело и на другие, а не как вмешательство бестелесных духов, как считали некоторые греческие философы. И он с беспрецедентной настойчивостью применял принцип, состоявший в том, что отличимые понятия должны отвечать на отличимые сущности — принцип, лежащий в основе убежденности эллинистической философской традиции в том, что человеческий разум должен найти себе аналог и реализацию в космической гармонии. Посредством таких практических доказательств и нормативных принципов он установил независимость души как отдельной субстанции от тела — в этом отличаясь не только от Аристотеля, но и от Плотина. Этот принцип позволял допускать жизнь после смерти (в противовес общему «выживанию» в вездесущем Активном интеллекте) и адаптировать, по сути, аристотелевскую во всех других отношениях систему к мусульманской (и платонической) доктринам жизни после смерти, придав ей символический смысл. Но он также помог и более склонным к умозрениям суфиям лучше осмыслить свое понимание «я», которое оставалось их собственным отчетливым «я» и, тем не менее, иногда выходило за рамки мира времени и пространства.
Страница из трактата аль-Бируни
Такой подход подкрепляло всестороннее переосмысление каждого важного момента в философской системе, от процесса мышления до природы бытия. Переосмысление сосредоточилось на понимании Бога. Бога сделали простым существом, как того требовала рационалистическая философия; и все же этому существу приписывались свойства, более подходящие реальному объекту человеческого поклонения. Тщательный анализ первичных божественных признаков показал, что, если применить правильные логические критерии отличия, все их можно сохранить как идентичные божественной сущности (как Необходимую сущность). И даже выяснилось, что всевышний простой Бог универсальной рациональности может «знать» не только универсальные сущности как потенциальности в Его рациональности (как, в целом, предполагали философы), но и конкретных индивидуумов или события — хотя только «универсальным образом»: о конкретном затмении можно знать имплицитно, если знать все небесные сущности и их возможные сочетания и взаимодействие. Именно занимаясь таким анализом, Ибн-Сина выработал свою сложную доктрину бытия (вуджуд), противопоставленного сущности. Взяв у Аристотеля логическое различие между тем, чем является вещь, и фактом ее существования, он наделил различие онтологической функцией: бытие — некое дополнение к сущности, посредством которого она может утвердиться. Значение этой онтологической функции неожиданно возникает в производном отличительном признаке между необходимым и просто возможным бытием, которым для Ибн-Сины обозначено различие между Богом и его творением. Утверждая, что бытие Бога совсем иного рода, чем все остальные, это разграничение выделяет Бога как нечто большее, чем просто рядовой элемент общей природной системы, коим он, похоже, является для Аристотеля.
Самым впечатляющим достижением Ибн-Сины стало то, что он сделал систему Аристотеля более удобной для понимания и упорядочивания религиозного опыта. Но мне кажется, что это произошло не столько путем адаптации ее к исламу, сколько в результате использования солидного в метафизическом смысле труда Аристотеля для развития ориентированного на жизнь аспекта философской традиции — той религиозности, которая бросалась в глаза уже у Сократа и Платона и в меньшей степени соответствовала взглядам Аристотеля. Он весьма умело делал то, что философы, вдохновлявшие Ихван-ас-сафа, делали не так здорово в стремлении точно придерживаться концепции Аристотеля. Отчасти это было возможным за счет обращения к некоторым религиозным ценностям авраамической пророческой традиции в том виде, какой она получила в исламе, и, в частности, ее упор на божественную трансцендентность. В этом смысле Ибн-Сина представлял синтез двух практических философских традиций, и в обеих он принял ощутимое участие. Но традиция философской жизненной ориентации все же главенствовала: он продолжал искать первооснову, скорее, во взятой за норму рациональной гармонии всемирной природы, чем в значительных исторических событиях, которые последователи Авраама считали показательными. Таким образом, миссия Мухаммада оставалась для Ибн-Си-ны преимущественно политическим событием, и он отрицал возможность телесного воскрешения — за исключением его трудов, написанных для широкой аудитории, где признание такого воскрешения рекомендовалось как требование религии. Большая часть его обращений к исламу, на самом деле, оставалась лишь необходимым минимумом, если считать ислам легитимным политическим и общественным строем.
Так, Ибн-Сина пошел дальше аль-Фараби в признании основополагающей религиозной традиции в двух отношениях: наделяя более благородной ролью исламское откровение и определяя большее философское пространство ощущению конечной связи человека и космоса, обычно свойственного религиозным традициям — в том числе более связанным с религией аспектам философской традиции. Соответственно, философия Ибн-Сины, в отличие от философии аль-Фараби, стала отправной точкой для мыслительных школ, в которых первичными были ценности, связанные с мистическим опытом суфиев. Суфийское исследование бессознательного «я» в итоге стало опираться на терминологию Ибн-Сины[226].
Позже учение Ибн-Сины превратилось в яблоко раздора. Строжайшие перипатетики — в частности, Ибн-Рушд — спорили с ним по вопросам логики и метафизики, предпочитая придерживаться позиции аль-Фараби[227]. Но не только суфии — многие толкователи калама в более поздние годы брали его за основу своей философии, и от его доктрины отталкивалось большинство исламских мыслителей более поздних периодов. Отношение позднего суфизма к трудам Ибн-Сины можно подытожить неясного происхождения. Ибн-Сина встретился с одним великим суфием и долго беседовал с ним; когда они вышли, Ибн-Сина так прокомментировал разговор: «Все, что я знаю, он видит», а суфий ответил: «Все, что я вижу, он знает». До какой степени самому Ибн-Сине понравились бы конструкции, возведенные на фундаменте его трудов более склонными к мистике авторами, остается неясным[228].
Калам медресе: триумф и истощение
В формационные годы первой половины Средневековья калам как спекулятивный метод очень медленно обретал самостоятельность и еще медленнее завоевывал уважение шариатских улемов. По мере развития связь с метафизикой фальсафы стала его величайшей проблемой. Первоначальная мутазилитская школа калама все еще была представлена и среди суннитов, и особенно среди шиитов-двунадесятников, и развилась даже за рамки ислама: многие иудейские ученые преподавали, по сути, мутазилитский калам. Но более творческий подход применили в школах аль-Ашари (связанных с шафиитским мазхабом) и аль-Матуриди (связанных с ханафизмом). Школы ханбалитов, захиритов и (вначале) маликийцев, как правило, оставались в стороне[229].
Однако именно маликийский кади аль-Бакил-ляни (ум. в 1013 г.) приложил огромные усилия для популяризации ашаритской системы в регионе Плодородного полумесяца. Он выдвинул такие абсолютно четко сформулированные доктрины, как атомическое строение мира в том виде, в каком это понимала его школа. Возможно, его популярность отчасти объяснялась его смелым применением законов логики к ревелятивным событиям, как к уникальным. Ашариты провели тщательный анализ того, каким пересказам тех событий можно доверять: например, насколько распространенным должен быть пересказ, чтобы он принимался без подробной проверки каждого из предполагаемых свидетелей. Ревелятивность самих свидетельств после их должной проверки на подлинность тоже требовала изучения. Аль-Бакилляни в особенной мере ассоциируется с доктриной о доказующих чудесах, которые он считал практическим подтверждением небесного избрания пророков, хотя они не обладали метафизическим статусом.
Памятник Инб-Сине в Душанбе, Таджикистан. Современное фото
В частности, он подчеркивал особую важность неподражаемого стиля Корана — чей литературный стиль, считали мусульмане, был таков, что никто больше не сумел создать ничего похожего — как главного доказующего чуда Мухаммада. Как факт откровения, Коран обладал уникальным статусом, будучи не только безусловным остаточным явлением событий в Хиджазе, но и всегда доступным доказательством. Посредством детального анализа стиля Корана он пытался доказать, что именно обуславливает его непреодолимую силу над человеком.
Но работа аль-Бакилляни была ориентирована на полемику с традиционной позицией калама, и он не ставил задачу бередить умы вне рамок этой традиции. Иногда это выглядит наивно: он даже настаивает, возражая против нетерпимости оппонентов ашаритов, что тот, кто верит без серьезной причины, не является истинно верующим; и, следовательно, тот, кто не принимал (ашаритский) калам, даже не был правоверным мусульманином. Этот момент некоторые ашариты пытались доказать следующим утверждением: как верные доказательства того или иного тезиса демонстрируют, что сам тезис верен, так и неверные доказательства свидетельствуют о ложности тезиса. Следовательно, верные доказательства ортодоксальных положений, которые, как думали ашариты, они нашли, так же важно было доказать, как и сами положения. От этого сомнительного аргумента, похоже, уже отказались ко времени Абу-ль-Маали аль-Джувайни (1028–1085), который применял более искусные методы, чем его предшественники. Его целью также была полемика с традицией, и он продолжал придерживаться атомистической доктрины и всего, что с ней было связано, но делал это в духе рационалистической философии. В его работе нет ничего наивного. Неудивительно, что она стала доминирующей в школе ашаритов того времени. И все же она, вероятно, хуже выполнила свою задачу, чем труды более ранних знатоков калама.
Религиозные вопросы, которыми занимался Джувайни, и даже основные точки зрения, которые он высказывал публично, достались ему в наследство. Его отец, родом из Джувайна, стал главой шафиитского мазхаба в Нишапуре (Хорасан). После его смерти пост учителя в медресе перешел к его сыну, хотя тому было всего восемнадцать — очевидно, не вызывали сомнения выдающиеся способности юноши, которому тоже преподавал учитель-ашарит. Будучи с самого начала признанным ученым, Джувайни главный труд посвятил изучению основополагающих принципов двух своих традиций — шафиизма в фикхе (который он отстаивал в противовес другим мазхабам) и ашаризма в каламе. Но необычайный талант позволил ему продвинуться в решении унаследованных задач до точки, которую можно считать их решением (по меньшей мере, в каламе).
В то же время он стал свидетелем последней масштабной попытки толкователей хадисов подавить калам как течение. Визирь сельджука Тогрул-бека аль-Кундури приказал прекратить все разработки учения мутазилитов (куда он включал и другие направления калама), и Джувайни пришлось уехать из дома. Но, укрывшись в Мекке и Медине, он приобрел такой авторитет (хотя ему не было еще и тридцати), что последователи стали называть его «имам обоих святых городов»: Имам аль-Харамайн. Однако, когда на пост визиря при Альп-Арслане пришел Низам-аль-Мульк, Джувайни и другие представители калама снова оказались в почете; лишь в нескольких городах — в частности, в Багдаде — сопротивление хадиситов оставалось довольно эффективным.
В трудах Джувайни, посвященных каламу, выделяются две особенности. Если сравнить его работу с трудами его предшественников — к примеру, приписываемыми самому аль-Ашари или даже более поздними, — поражает, до какой степени отточены мельчайшие детали его аргументов по каждому спорному вопросу. Но в этой отточенности, в свою очередь, проявляется вторая особенность: знание интеллектуальных стандартов в логике и метафизике, которых придерживались файлясуфы. Несмотря на то что он не спорит с ними открыто, их категории присутствуют повсюду.
К примеру, Джувайни признавал, что давнее стремление ашаритов утвердить всемогущество Бога не выдерживало критики по меркам рационалистов. На их доктрину касба (состоявшую в том, что люди «присваивают» свои плохие и хорошие деяния, единственной причиной которых является Бог) можно было бы возразить, что ее совершенно невозможно понять; и раз уж больше не считалось приемлемым утверждать то, что следует из дедуктивной обработки сопутствующих откровению фактов, вписывается ли это в гармоничную систему или нет, то непонятность утверждения означала невозможность считать его доказанным. Это Джувайни признавал. В качестве решения проблемы он предлагал определить то, что называл золотой серединой между однозначной предопределенностью и неопределенной свободной волей, так, чтобы определение соответствовало требованиям хадиситов (в том, что только Бог способен что-то сотворить или совершить, хотя их условия удовлетворяли утверждению мутазилитов о том, что люди не могут нести ответственность за то, чего они не могут избежать по своей воле).
Часто в его работе (например, в доктрине касба) прослеживается, по сути, возвращение к ранним, более трезвым положениям калама — сформулированным мутазилитами до того, как распространение хадисизма вынудило их внести изменения. Например, говоря о свойствах Бога (скажем, его вечности), Джувайни настаивал, что Бог обладает ими (и в этом хадиситы с ним согласны), и что они являются не просто модусами бытия (как считали мутазилиты). И все же они не основываются ни на чем, кроме его бытия; что, в принципе, одно и то же. (Он признавался, не без смущения, что в этом вопросе отталкивался от более ранних ашаритов.) Джувайни даже допускал метафорическое понимание некоторых свойств, когда в помощь можно было бы прибегнуть к лингвистическим приемам, хотя и не так активно, как это делали мутазилиты[230].
Но в действительности Джувайни кое-что добавил к положениям мутазилитов. Если сравнить его доктрину с учением Ибн-Сины по тому же вопросу, мы найдем довольно схожую озабоченность поиском формулировок, которые определили бы достойного поклонения Бога, не жертвуя при этом, казалось бы, необходимым — для рационалиста — определением Его трансцендентности. Можно предположить последовательность интеллектуальных потребностей: для ранних мутазилитов, все еще сознательно выполнявших миссию по проповедованию Корана в завоеванных землях, достойный поклонения Бог не нуждался в более четких определениях, требовалась только защита основных положений исламского монотеизма. Затем, с точки зрения хадиситов, для которых определенные черты этого монотеизма имели больше нюансов, трансцендентность Бога в достаточной мере гарантировало утверждение о Его непостижимости, в то время как для тех, кто больше склонен к рационализму, как только вопросы были внятно сформулированы, трансцендентность, которой требовала монотеистическая концепция божественности, нужно было примирить с наивысшей рациональной гармонией, которую рационалист пытается увидеть в космосе. Выполняя эту задачу, файлясуфы неизбежно установили самые сложные стандарты из всех возможных. Увлеченность ими со стороны Джувайни следует из его интереса к трехчленному силлогизму Аристотеля, хотя на деле он обычно применял более удобную двухчленную форму утверждения, типичную для калама, в котором некоторые логические приемы оставались имплицитными[231]. Он ввел следующую форму ашаритского трактата, представив серьезные пролегомены о природе абстрактного мышления.
У меня сложилось впечатление, что в самый разгар своего триумфа, в процессе совершенствования собственной традиции, ашаритский калам почти забыл о своем предназначении: рациональная защита нерационалистической керигматической позиции, в которой отдельные ключевые события раскрывают больше смысла жизни и ее устоев, чем любые универсальные закономерности природы. Джувайни не мог понять, например, почему доктрине «повелевай добро и запрещай зло» по-прежнему оказывают особое уважение мутазилиты, а ранее ашариты считали ее главнейшей доктриной наряду с единством Бога и пророчеством Мухаммада. Для них она объясняла историческую преданность верующих; но для Джувайни, что характерно для его времени, она не заслуживала ничего, кроме скромного места в ряду других правил фикха, определяющих то, как один мусульманин должен наставлять другого в повседневной жизни. Возникла точка зрения — ее придерживался не только Джувайни, — которая могла получить полнейшее развитие и выражение только в рамках фальсафы или ее эквивалента. Конечно, все еще широко принимались на веру сопровождавшие откровения события, о которых только «слышали», а не сделали вывод об их истинности на основании повторяющегося опыта. Но даже доказательства пророчества имели налет рационализма.
Мы можем сказать, что с самого появления толкователей хадисов их осторожный взгляд на политические обязательства мусульман, керигматическая сила основанного на шариате благочестия уменьшилась, уступив ритуалистическому «отслеживанию парадигм»: то есть мусульмане были больше склонны формулировать правила жизни по законам шариата в контексте вечного, почти природного космоса, в котором посыл Корана являлся постоянной величиной и бросающим вызов событием. Такой настрой мог привести к вечному преобладанию рационалистического мировоззрения. Но для перемены могла существовать и более непосредственная интеллектуальная причина.
Без более общей теории истории как таковой — то есть без общей формы для эффективных рассуждений о способности событий морально обязывать, а не просто представлять собой примеры естественных возможностей — более удовлетворительный метод рассуждений, подходящий для решения проблем пророчества, не мог возникнуть в принципе. Если такие принципы и находятся, то нетрудно понять, что в любом случае не стоило ожидать их появления в обществе аграрного типа. В этом обществе сильный пророческий тон исламской мысли, в которой определенные исторические события наделялись основополагающими ценностями, вылился в общинный дух, при котором позиции шариата подкреплялись уникальной преданностью социальных групп — так, что событие, описанное в Коране, становилось более изолированным в умах людей, чем в самом Коране, где оно было лишь одним из звеньев цепочки событий, сопутствующих откровению. Никакая общая доктрина о значимых исторических событиях в таком контексте возникнуть не могла. То есть, не мог появиться метод рационального анализа, способный соперничать с отточенной философской доктриной о природе. Следовательно, чем больше рационалисты развивали и дополняли калам, тем активнее он вступал в спор с фальсафой и тем больше была вероятность, что в этом споре он докажет свою несостоятельность. С этого момента и впредь во всех выдающихся представителях калама можно ясно увидеть то, что лишь угадывалось в Джувайни: если они вообще серьезно воспринимали калам, это происходило в форме модификации выводов фальсафы с целью привести ее анализы в соответствие с убеждениями исламского сообщества[232].
Газали: переоценка умозрительных традиций. Калам и фальсафа
Только с началом деятельности ученика Джувайни, Абу-Хамида аль-Газали (1058–1111), калам стал полностью использовать ресурсы фальсафы и соперничать с ней на ее территории. Но именно Газали он обязан тем, что с ним самым бесцеремонным образом перестали считаться как со средством поиска истины. Для Газали кризис в каламе стал поводом выйти за его рамки и найти новый подход к религии в целом как на личном, так и на общественном уровне.
Абу-Хамид и его брат Ахмад (почти столь же знаменитый суфий) родились в деревне около Туса в Хорасане и получили образование благодаря небольшому наследству, оставленному их отцом в доверительное управление. Брат (или дядя) отца был известным ученым в городе. Оба мальчика обладали выдающимся умом, но Абу-Хамид быстрее шел в гору. Когда ему исполнилось примерно тридцать три, в 1091 г., престарелый Низам-аль-Мульк сделал его начальником своей медресе низамийя в Багдаде. Там, преподавая фикх и калам, он завоевал огромный авторитет даже среди строгих последователей шариата. А его нововведения в самом каламе стали настоящим прорывом.
Но его лично перестали удовлетворять собственные весьма достойные изыскания. В итоге его стали постоянно одолевать сомнения, что совпало с политическим кризисом в Багдаде среди друзей Газали после убийства Низама-аль-Мулька (однако этот кризис вряд ли стал единственной причиной творческого кризиса мастера). Внезапно он покинул свой пост в медресе низамийя (в 1095 г.) и ушел в тень, укрывшись в Дамаске и Иерусалиме. (Он даже бросил свою семью, оказывая ей материальную поддержку на средства от публичных вакфов.) Лишь много лет спустя он снова вернулся к просветительской деятельности, обретя веру в собственное предназначение. Тогда он начал и сумел завершить фундаментальный обзор основ исламской мысли, не довольствуясь простым приукрашиванием калама. Авторитет Газали был так высок, что его мнения, разумеется, соответствующие духу времени, имели огромный вес. И, хотя последующие достижения были не во всем обязаны только его работам, их можно попробовать осмыслить, проанализировав его идеи.
Иракская банкнота с изображением аль-Хайсама
Газали написал маленькое схематичное руководство, где подытожил свое отношение (подробно изложенное в других книгах) к каждой из основных традиций философии его времени, посвященных проблемам жизненной ориентации. Называлась она «Аль-мункиз мин ад-далал» (в русском переводе — «Книга, избавляющая от заблуждений». — Прим. ред.)[233]. Книга представляла собой краткий очерк жизни автора, но не являлась автобиографическим повествованием в строгом смысле. Располагающая к откровенности форма автобиографии не согласовывалась с исламской скрытностью в отношении личной жизни, а в «Книге, избавляющей от заблуждений», на самом деле, говорилось о вещах довольно интимных. Сам Газали подчеркивает, что ему кажется невозможным описать все жизненные подробности, имеющие отношение к его философским выводам. И все же в книге описаны некоторые важные моменты его опыта. Но сделано это, скорее, в стиле схематичных автобиографий, популярных среди тех исмаилитов, в опровержение которым он написал множество работ — в качестве динамической декларации веры, подтверждаемой фактами его биографии.
Книга начиналась с демонстрации интеллектуальной беспомощности человека в жизненных обстоятельствах. Автор описал, как в молодые годы стал сомневаться не только во всех религиозных учениях, но даже в возможности каких бы то ни было надежных знаний. На какое-то время ему удалось преодолеть эту трудность, но затем, в период душевного смятения, он усомнился в ценности всех преподаваемых им религиозных доктрин. Из депрессии его могло вывести только решение ретироваться и найти новую опору в жизни через суфийскую практику. Классические улемы, представители хадисов, фикха или калама, обсуждали правила веры (как только она окончательно утвердилась), как будто это был просто долг, который исполняли хорошие люди и которым пренебрегали плохие. Газали подчеркнул, что это вопрос не просто выбора; человек начинает сомневаться независимо от своей воли, и здравое мышление — это как физическое здоровье: состояние, а не произвольное действие.
Страница из трактата аль-Газали
В частности, состояние полного смятения, когда человек сомневается, в состоянии ли он вообще думать, с экзистенциальной точки зрения является не столько логической ошибкой (хотя оно ею все же является), сколько умственным расстройством. Если человек попал в подобное состояние, он должен попытаться выйти из него с помощью нового заряда жизнелюбия от Бога, а не с помощью силлогизма. Но даже для лечения менее глубоких приступов сомнения требуется нечто большее, чем чисто интеллектуальные инструменты. Когда сомнения и ошибки возникают в религии, их следует считать болезнями, которые надо лечить, а не грехами, которые следует проклинать. Нужно исследовать различные интеллектуальные пути, и не только из-за их информативной ценности, но и потому, что они могут стать средством излечения людей от ошибок. Следовательно, в принципе, заявления приверженцев шариата о том, что калам — просто интеллектуальная роскошь, не выдерживают критики; вопрос в том, способен ли калам удержать кого-то от ошибок. Именно по этой причине Газали принизил калам.
Газали оставался крупным представителем калама, но в конце концов, в «Книге, избавляющей от заблуждений» он избрал точку зрения, которая в минимальной степени отталкивалась от мнения по поводу калама таких приверженцев хадисов, как Ибн-Ханбаль (которого автор много и уважительно цитирует в соответствующих контекстах). Он отрицал, что калам способен привести к истине сам по себе. Он совершенно не представлял ценности для обычного человека, если вера его была сильна (а такой человек должен быть защищен от воздействия порождающих сомнения дискуссий). Он мог пригодиться только тем, кто стал сомневаться в истине и выдвигать неверные предположения, которые следует скорректировать. И даже в качестве способа удержать от ошибки его функции были весьма ограничены. Он помогал опровергать различную более или менее тривиальную ересь, демонстрируя ее несостоятельность на ее же собственной территории. Соответственно, он начинал с какого-нибудь суждения, признаваемого еретиками, не задаваясь вопросом, верно ли оно. Но это делало его подходящим только для тех сомневающихся, кто не пытался разрешить свои сомнения истинно философским путем. Калам был бесполезен для по-настоящему независимого ума. Таким образом, Газали оставил для калама необходимую, но не слишком благородную нишу в исламе. (Аль-Ашари видел калам в несколько схожем свете, но не делал настолько же важных выводов.)
И напротив, фальсафе Газали отдавал дань глубокого уважения и отводил ей фундаментальную роль. Это приглушалось на фоне его нападок на предмет наивысшей гордости в ее системе — ее метафизику, которая, как он подчеркивал, являлась неверной и вела к опасным заблуждениям. Но он атаковал метафизику из преданности самой фальсафе. Он настаивал на том, что сам характер рассуждений, способствовавший триумфу натурфилософии, математики и астрономии, к примеру, утрачивал актуальность, если человек заглядывал в поисках абсолютной истины за рамки естественной сферы разума и чувств; что файлясуфы сами пренебрегали своими принципами, предпринимая подобные попытки. (Его труд с превосходными и тщательно сформулированными доводами, «Тахафут аль-фаласифа» («Крушение позиций философов»[234]), призван доказать, что аргументам, которыми пользовались файлясуфы в метафизике, не хватает бесспорной убедительности, которой файлясуфы гордятся в других областях; и что другие здравые аргументы могут привести к другим выводам, даже ортодоксально мусульманским, хотя и не будут в состоянии их доказать.) Отвергая метафизику фальсафы, он заявлял, таким образом, что мусульманам следует принимать выводы наук фальсафы в надлежащей сфере — гуманитарной или естественно-научной, — отличаясь в этом мнении от многих приверженцев шариата. Более того, позже он стал применять ко всей исламской традиции базовый принцип фальсафы: истина должна попадать в сознание любого человека и проверяться там. Однако тогда он не называл этот принцип «фальсафой».
И даже при всем при этом его отношение к фальсафе было навеяно духом хадисов. Приверженцы хадисов были чрезвычайно прагматичными: человек должен думать о том, как жить и веровать правильно, чтобы получить благословение Бога в этом мире и спасение в ином; ему не следует вмешиваться в то, что его не касается, и к знаниям он должен стремиться не из праздного любопытства, а только для того, чтобы они помогали ему жить. Газали применял точно такие же критерии при определении масштабов и ценности отраслей фальсафы: их следовало культивировать до тех пор, пока они приносили пользу, но исключительно ради красоты умозрений их терпеть не следовало. И, соответственно, если опасность фальсафы для того или иного человека превышала ее полезность, такому человеку нельзя разрешать изучать ее, чтобы соблазнительные иллюзии ее метафизики не сбили его с истинного пути в самом главном: в вере. Таким образом, только специально подготовленным ученым дозволительно погружаться в философские и научные изыскания.
На этой основе переживания хадиситов за народ подкрепились тем, что фальсафа была объявлена опасной, поскольку она не поддается пониманию обычного человека, для которого достаточной и наиважнейшей была его религия. И все же, как в случае с каламом, было сделано исключение, найдена ниша для нее. А ввиду неотъемлемой значимости фальсафы эта ниша оказывается временной, поскольку подразумевает, в отличие от исключения для калама, разделение людей на элиту и середнячков: элиту не в каком-то существенном для религии аспекте, конечно, но все-таки интеллектуально привилегированное меньшинство.
Спор между каламом и фальсафой завершился довольно резкой утратой интереса к обеим формам[235]. Но у Газали были более серьезные планы, чем у представителей калама. Он намеревался выстроить всеобъемлющий фундамент для религиозной жизни в эпоху, которая, как он выразился, отошла не только от простой чистоты Медины, но даже от сравнительно высоких моральных устоев, свойственных ученым времен аль-Шафии. Новому веку требовалось новое религиозное сознание и новые обязательства. А этой новой религиозной жизни нужен был новый интеллектуальный фундамент. И вот здесь фальсафа должна была сыграть более важную роль, чем прямо признавал Газали в своем «Избавителе». Тогда ей следовало выработать новый механизм религиозного просвещения и наставничества на этой основе. С точки зрения Газали, разумеется, новым в обоих случаях было следующее: то, что в лучшие времена можно было только подразумевать, но не высказывать, в его дни требовало дополнительных разъяснений.
Полемика Газали с исмаилитами
«Книга, избавляющая от заблуждений» содержит ключевые моменты фундамента новой жизни, сформулированного автором. Если калам дает верные ответы, но при этом опирается на тривиальный фундамент, а фальсафа обладает прекрасным фундаментом, но не в состоянии предложить верных ответов на важнейшие вопросы, лекарство от философских заблуждений и глубоких сомнений следует искать за рамками защитительных или рационалистических анализов. В «Книге, избавляющей от заблуждений» Газали, по сути, предложил решение из двух частей. В конечном счете, ему пришлось прибегнуть к суфизму.
Но для обычных людей, которым выпало несчастье утратить инфантильную безоговорочную веру, он рекомендовал путь, основанный на средних человеческих способностях и ведущий к историческому авторитету. Этот подход он представил посредством опровержения позиции шиитов, а еще точнее — исмаилитов его поколения, которые тогда только разворачивали широкомасштабное восстание против суннитского уклада сельджукских эмиров.
Мавзолей Омара Хайяма в Нишапуре, Иран. Современной фото
Список крупнейших традиций современной для Газали практической философской мысли, которой посвящена его «Книга, избавляющая от заблуждений», с первого взгляда может показаться странным: калам, фальсафа, суфизм и доктрина исмаилитов-низаритов. Он заверяет нас, что истину следует искать либо в одной из этих четырех школ, либо нигде. Три из указанных школ современный человек легко может определить как теологию, философию и мистицизм; но четвертая — это единичное учение, принятое в отдельно взятой секте — и, даже если воспринять его как символ авторитаризма в целом, как будто он был способом поиска истины в рамках, скажем, теологии, возникает предположение, что приверженцев авторитаризма можно было найти и где-нибудь поближе — например, ханбалитов. Другие шиитские и даже суннитские позиции, не говоря уже о немусульманских религиозных традициях, автор проигнорировал. Особое отношение Газали к исмаилитам, присутствующее во многих его трудах, объясняется его неприязнью к авторитаризму — вероятно, совершать прямые нападки на авторитаризм было опасно, хотя он открыто протестовал против требований к профессиональным ученым соблюдать единообразие в решении юридических вопросов.
Но более вероятно, что это была реакция на нависшую угрозу исмаилитской революции. Однако конфронтация с учением исмаилитов носит слишком личный характер и слишком часто сменяет формы своего проявления, чтобы ее можно было объяснить только внешними причинами. Он снова и снова опровергал исмаилизм, как мне кажется, потому что нашел в этой позиции нечто убедительное — настолько же, насколько убедительными являлись три остальные перечисленные им школы.
Полагаю, картина несколько прояснится, если мы охарактеризуем эти четыре школы с позиции формирования ими, с их отличиями друг от друга, общей схемы возможных вариантов жизненной ориентации. Две школы представляют собой общедоступные положения, где ищущий берет инициативу на себя, и его образ мышления может стать примером для кого угодно. В основе калама лежал диалектический спор о способности исторических событий нести в себе откровение; фальсафа зиждилась на демонстративной дискуссии о вечных свойствах природы. Вторые две школы представляли собой эзотерические, понятные только для посвященных учения, в которых часть процесса постижения зависит не только от ищущего истину, и его нельзя воспроизвести по желанию. Исмаилиты апеллировали к особому историческому институту — имамату — и к сообществу, сформировавшемуся вокруг него. Подобно представителям калама, они настаивали на керигматической позиции, но такое представление носило, скорее, эзотерический, а не общедоступный характер. Суфии, будучи мистиками, обращались к привилегированным индивидуалам, но потенциально универсальному знанию. То есть, подобно файлясуфам, они старались описать нормативный опыт, а не пророческое событие, но, опять же, эзотерическим образом.
Каждая из четырех точек на схеме (разумеется, это не Газали, а я ее составил) обозначает традицию, которая ее наилучшим образом представляет. (Например, я бы предположил, что именно с этой целью возникли ханбалиты — насколько в их учении вообще имеет место какая-либо дискуссия — просто как вариант толкования калама, лучше представленный ашаритами.) Наконец, сам Газали не придерживается ни одной из четырех позиций до той степени, чтобы исключить остальные. И керигматические, и неке-ригматические, и экзотерические, и эзотерические — все нашли свое место. Из исмаилизма (не признавая этого, разумеется!) он берет элементы, помогающие показать, как можно подтвердить керигматическое учение на основе непередаваемого (более или менее) личного опыта, в котором исторически выявленный авторитет признается без каких-либо внешних доказательств. Во многом эта точка зрения вырисовывается непосредственно из отрывков, посвященных опровержению исмаилизма, когда он утверждает, что сам Мухаммад исполняет роль непогрешимого имама. Но эта точка зрения сформирована до конца только в отношении роли, которую он отводит суфиям: им надлежит подтвердить пророческое историческое видение, а также присущий этому видению мистицизм.
Обнаружив, что им не удается завоевать признание широких масс, шииты были вынуждены занять две альтернативные позиции: примирительную, особенно характерными представителями которой были двунадесятники, часто пытавшиеся добиться терпимости от суннитов, поскольку не проявляли существенных отклонений от учения последних; и открыто-пренебрежительную, выразителями которой являлись исмаилиты. Именно в последнем варианте учение шиитов могло вызвать интерес с интеллектуальной точки зрения. Исмаилиты, по-видимому, разработали в это время особенно проницательное упрощение всешиитской доктрины талима: потребности в исключительном религиозном авторитете непогрешимого имама. Один из лидеров движения, Хасан ибн Саббах, проницательно и остроумно защищал позицию, которую можно сформулировать так: для абсолютной истины, которая необходима для веры, нужен непререкаемый авторитет (имам); в противном же случае логически обоснованное мнение одного человека так же хорошо, как мнение другого, и все они — не более чем догадки; да и само это предположение целиком — все, чем может снабдить нас разум; и, наконец, поскольку никакие рассудочные выводы не могли помочь определить, кто является имамом (а только говорили о том, что он нужен), имамом должен был быть тот, кто для подтверждения своего статуса должен не предъявлять положительные внешние доказательства, а ясно указывать на важную, но обычно не высказываемую открыто потребность; и, поскольку только исмаилитский имам мог делать такие безоговорочные заявления, он являлся своим собственным доказательством, удовлетворяя эту потребность самим фактом указания на нее[236]. (По сути, речь шла об указании на приверженность исмаилитского сообщества и на его пророческое учение. Поскольку, разумеется, люди находили не имама лично, а его иерархию влияния; затем, истина, которую находит ищущий, была не просто решением логической дилеммы, а моментом экзистенциального изменения жизненных установок.)
Газали отвергал этот случай авторитаризма талима, отчасти подчеркивая в нем скрытые противоречия (он показывал, как в случае с каламом и фальсафой, что они не могут доказать свои идеи, хотя и не опровергают их); но, прежде всего, предлагая несколько иное толкование разума. Он допускал, что рассудок демонстрирует потребность в авторитете, который сильнее рассудка; но он считал, что разум не только устанавливает наличие потребности, но и может хотя бы начать распознавать, когда потребность уже удовлетворена: то есть, он способен узнать настоящего имама не просто с помощью логической ловушки, но благодаря его способностям наставника. Этот истинный имам, заявлял он, был не кто иной, как сам Пророк, чьи наставления всегда актуальны в жизни любого человека. Потребность в авторитете, конечно, возникает из общей потребности человека в духовных наставлениях; и Газали утверждал, что, если человек будет точно следовать советам и примеру Пророка, он обнаружит, что духовные потребности, обнаруженные им, удовлетворяются. Он распознает Пророка так же, как узнал бы врача — человека, способного удовлетворить потребности в лечении. И правда, сама личность Мухаммада с его добротой и заботой, которыми пронизаны Коран и хадисы, является собственным доказательством. (Это должно было безоговорочно внушить людям, что Мухаммад — Пророк, так же как аль-Шафии, но здесь пророк больше был похож на героическую личность в духе «алидского лоялизма», чем на воплощение законопослушности, которое представлял собой аль-Шафии.) Определенным образом с этим отношением к личному опыту было связано и второстепенное обращение к судьбе мусульманской уммы, ставшей доминирующим сообществом (как казалось) во всем мире.
Исмаилиты были правы (Газали признавал это и даже иногда открыто высказывал), отрицая, что то или иное доказательство (например, чудо) способно указать человека, облеченного истинной властью. Правы они были и в том, что подчеркивали, скорее, способность авторитета самому себя подтверждать в спасительном историческом сообществе, которое будет найдено, потому что только оно отвечает внутренней потребности, которая в противном случае останется неудовлетворенной. Но истину распознают не с помощью единственной экзистенциальной дилеммы, а благодаря накопленному опыту, которого исмаилитская доктрина не допускала. Опыт, на который ссылался Газали — как личный, так и исторический (то есть обусловленный историей исламского сообщества в целом), — в той или иной мере получал каждый человек. Следовательно, если любой человек был абсолютно честен с самим собой и серьезен в своих исканиях, он мог обнаружить того, кто представлял нужный ему авторитет, и, следуя его наставлениям, быть истинным верующим. Когда закрадывались сомнения, требовались целительная милость Бога, искренние старания человека и наставления и ободрение тех, кто уже пришел к истине[237].
Здесь исламское сообщество играло центральную роль (ту же, что исмаилитское сообщество для исмаилитов). Оно гарантировало истину тем своим членам, кого не одолевали сомнения и кому не нужно было думать самостоятельно. И оно обеспечивало стимул и руководство тем, кто искал истину сам. (Именно это обращение к обществу стало причиной того, что Газали — и многие более поздние ученые, подверженные влиянию суфизма, — перестал уделять должное внимание точности цепочки иснад при цитировании хадисов. Именно современное ему общество, а не общество Марванидов или даже времен Медины, играло роль гаранта.)
Таким образом, сохранялся популистский настрой хадиситов, равно как и их керигматическое видение, поскольку ни одна религия не может быть существенно лучше другой; а откровение и святое сообщество стали обязательными атрибутами. Но в то же время основному принципу файлясуфов — подтверждению общим опытом человечества — стали автоматически отдавать должное и в элите.
И все же для самых проницательных к накопленному опыту, который подтвердил бы присутствие Пророка, следует прибавить компонент, непосредственно не упоминаемый Газали в «Книге, избавляющей от заблуждений»; его необязательно упоминать заранее ради общих замечаний для удовлетворения самых требовательных читателей, эти читатели сами все поймут из его высказываний о шиизме и пророчестве. То есть необходимый накопленный опыт должен иметь определенный налет пророчества. Необходимо уметь улавливать высшую истину в ее малейшем проявлении, точно так же, как ее понимали пророки — будто бы человек, который в некоторой степени сам врач, должен судить о других врачах. Необходимо знать истину, не просто иметь представление об истине, но быть, как пророки, непосредственно знакомым с ней. В противном случае накопленный опыт даст возможность лишь заниматься превосходным каламом, работать с его выводами. Надо было искать дальнейший путь к истине, за рамками калама, фальсафы, даже за рамками обычного поиска авторитета, который удовлетворял бы потребности, выявленные разумом.
Этот путь подразумевал обращение к суфийскому опыту. Сбежав из Багдада от внимания света и уединившись в Иерусалиме, Газали желал глубже изучить суфийский путь. Его мистический опыт был невелик, но достаточен, чтобы убедить его в существовании знания, которое нельзя свести к аристотелевскому силлогизму, но которое по-своему убедительно. Он обладал достаточными мистическими знаниями, чтобы увериться в том, что заявлениям наиболее выдающихся суфиев можно доверять.
Из этого он сделал вывод, что суфийскому подтверждению пророческого посыла в целом тоже следовало доверять. И, таким образом, он считал суфийский опыт долгожданным ответом на вызов, брошенный исмаилитами. Интерпретировать суфийский опыт подобным образом можно было с помощью психологических учений файлясуфов и, в частности, Ибн-Сины. Газали толковал пророчество не как беспрецедентное событие, а, выражаясь терминами фальсафы, как особый естественный вид знания, которое просто обрело свою идеальную форму в Мухаммаде. Это знание было сродни тем, которыми обладали суфии, но гораздо глубже. Следовательно, суфии обладали способностью распознавать полноценное пророчество при виде его. На самом деле Газали пошел дальше. Подобно тому, как умение распознавать пророчество в незначительной степени было развито у суфиев, оно могло непосредственно отразиться и в аналогичном опыте рядовых людей. Газали особенно любил ссылаться на знание, которое приходит благодаря снам, которые, однако, он (подобно некоторым файлясуфам) считал не способствующими откровению бессознательными силами, как современные ученые, а непредсказуемыми внешними событиями — хотя, вероятно, на практике разница не так велика, как может показаться. Так, несмотря на то что Пророк давно умер, пророчество в той или иной степени всегда присутствовало в обществе — как присутствовал среди исмаилитов их имам.
Интеллектуально миссия основывалась на более глубоком признании заслуг суфизма. Каламу была отведена второстепенная роль, а ценнейшие выводы фальсафы и даже исмаилитской доктрины авторитета (талим) были отнесены к пересмотренному суфизму, который теперь выступал в качестве гаранта и толкователя даже шариатских аспектов исламской веры.
Газали признавал опасности, кроющиеся в суфийской свободе, и предупреждал о них — суфий, несмотря на все его особые дарования, не должен воображать, будто свободен от общечеловеческих обязательств, налагаемых шариатом. Внутренний дух (батин) не должен вытеснять внешний закон и доктрину (захир). Но батин суфиев — категория обязательная. Исламская вера в конечном счете, не могла существовать без постоянного переосмысления мистиками ее наивысших истин. Они не просто знали об истине силы Пророка; они познали ее прямо, лично, внутри самих себя. В каждом поколении они одни могли быть свидетелями для тех, кто желал слушать, свидетелями истины не только о фрагментах, которые отдельный человек желает подтвердить в своей повседневной жизни, но обо всех посылах Пророка. Таким образом, суфиям отводилась принципиально важная роль в поддержке исторического мусульманского сообщества как единого целого и в наставлении отдельных людей на путь истинный. (Это, вероятно, была одна из причин того, почему Газали так настаивал на том, что суфии должны подчиняться законам общества — только так они могли служить ему свидетелями его миссии.)
Духовное наставничество и градация знаний
Сформировав соответствующий его возрасту безукоризненный интеллектуальный фундамент, на котором следовало строить новую религиозную жизнь, Газали должен был выработать новый механизм преподавания и наставничества для воплощения на практике выводов его интеллектуальных переоценок. Это с самого начала было главным предметом его исследовательской деятельности.
Газали давно мечтал стать религиозным и духовным наставником своего народа. Его неустанные поиски разных мнений, попытки усвоить суфийский опыт (который он начал изучать еще до того, как получил пост начальника медресе низамийя в Багдаде), постоянно раздиравшие его сомнения — все, казалось, было направлено не только на обретение личной религиозной определенности, но и на создание прочного фундамента для религиозного наставничества. Перед отъездом из Багдада он говорил о намерении сформулировать собственную самостоятельную суфийскую доктрину.
Чистые братья. Средневековая персидская миниатюра
Но, пожалуй, еще больше соответствует его ощущению собственной миссии настойчивый интерес к интеллектуальному методу, намного превышавшему интерес к системам поиска наивысшей истины как таковым — который в любом случае вряд ли можно было сформулировать доступным для широкой публики образом. Даже его работа, напоминающая суфийские рассуждения о космосе, «Ниша Света», посвящена преимущественно способам понимания слов, символов и доктрин. (Следовательно, попытки свести его мыслительную деятельность к набору космологических выводов обречены на поражение, поскольку из-за них кажется, что он сам себе противоречит.) Одним из достижений, которыми он больше всего гордился, был способ проверки, как далеко может зайти человек в метафорическом восприятии образов Корана (в духе файлясуфов и исмаилитов). Он довольно наивно полагал, что справедливость его метода нельзя отрицать, и он способен разрешить большинство споров.
В период уединения — когда Газали много путешествовал, в конечном счете, осев в Хорасане, — он оттачивал свои идеи о том, какую роль мог бы сыграть в умме. Он так и не вернулся на пост в Багдаде — самый престижный преподавательский пост в исламском мире, — возможно, из-за опасности покушения на свою жизнь со стороны исмаилитов: их восстание развернулось уже в полную мощь; но может быть еще и потому, что его представление о своей миссии больше не согласовывалось с такой выдающейся и спорной карьерой в обществе. Газали, похоже, считал, что Бог наделил его миссией муджаддида — обновителя (реформатора) веры, которого, по убеждению мусульман, Бог посылает в начале каждого нового века Хиджры. В 1106 г. (499 г. Хиджры) он принял предложение сына Низам-аль-Мулька, тоже визиря, вернуться к преподавательской работе. Но сделал он это только в Ниша-пуре, недалеко от его родного Туса, и покинул пост сразу же после убийства своего патрона. В своих учениях он желал не столько ярко опровергнуть оппонентов, сколько добиться того, чтобы очень личное ощущение жизни проникло во все ее сферы. К этому человек мог прийти самостоятельно или с помощью трудов Газали[238].
Его шедевр — «Ихья улум ад-дин», «Воскрешение наук о вере»* (написанный на арабском, как и «Книга, избавляющая от заблуждений»). В ней при ощутимом влиянии суфиев весь комплекс шариатских знаний трактуется как средство обретения внутреннего душевного равновесия. Каждый закон шариата интерпретируется с этической точки ярения и получает религиозную окраску, с тем чтобы стать отправной точкой для внутреннего очищения. Общественное влияние шариата ослабляется по сравнению с прежними временами. (Газали был абсолютно убежден, что политическая жизнь — епархия эмиров, и написал руководство для монархов на персидском в иранском духе.) Газали писал не для судьи или для начальника рынка (мухтасиба), а для обычного человека, озабоченного своей частной жизнью или занятого духовными наставлениями другим. Некоторые его советы предназначались мужчине (не женщине), чья профессия оставляла ему довольно много свободного времени в течение дня: в частности, ученому, хотя при необходимости это мог быть и хатиб или купец, или даже работающий на себя ремесленник. Только человек, который посвящал много времени религии, мог позволить себе применять шариат в полной мере в той форме, в какой его толковал Газали.
Но социальные последствия «Возрождения» тем не менее важны: как указал Газали в «Книге, избавляющей от заблуждений», образ жизни, ведомый религиозными людьми, может стать примером, влияющим на формирование жизней всех мусульман. Таким образом, «Возрождение» косвенно было способно повлиять не только на ученых-теологов. В книге Газали делит общество на три класса: тех, кто верит в истины религии, не ставя их под сомнение; тех, кто выясняет причины своей веры — особенно ученые-богословы (в частности, представители калама); и тех, кто прямо испытывает религиозную истину — то есть суфиев. Это различие не просто в областях и уровне знаний, но и в подразумевающихся моральных функциях. Представители каждого из классов могут наставлять тех, кто находится ниже их, и служить им примером. У суфиев, чье непосредственное восприятие истины считалось близким к знаниям самих пророков, могла быть миссия, как у Газали: вселять в религиозные формы духовную жизнь. У знатоков шариата была обязанность воспринимать посыл суфиев как можно глубже и распространять дух религии, а не просто внешние доктрины, среди простых людей. Так, высокая оценка суфийского опыта как доказательства истины имела общественные последствия, которые не сформулировал Газали, но примером которых служила вся его жизнь.
Может возникнуть подозрение, что в обществе, где личные отношения значили так много, особенно на уровне местной общины, подобный подход приобретал практический статус социальной программы. В существенной степени, полагаю, к этому приблизились в последующие столетия, как мы увидим в следующей главе, хотя суфии часто имели более непосредственное влияние на население, чем на знатоков шариата. В этом смысле работа Газали, можно сказать, дала логическое объяснение духовной структуре, которая поддерживала в обществе децентрализованный политический строй — строй, возникший отчасти в результате деятельности его патрона Низам-аль-Мулька.
Но такая программа предполагала более или менее иерархическое строение религиозной жизни, градацию верующих людей с точки зрения их роли в духовном просвещении мусульманского сообщества. Ее можно было бы доказать с помощью древнего принципа, который делил мусульман на группы в зависимости от степени их религиозности. Но иерархизм, основанный на особого рода знаниях, которые были доступны суфиям, в свою очередь, требовал важного принципа, который поверг бы в ужас первых мусульман. Сами религиозные знания тоже необходимо градировать. Несмотря на то что полное и достаточное подтверждение веры рядового человека тщательно охранялось, очень многие знания, важные даже для сообщества, были ему недоступны; более того, их следовало тщательно скрывать от него, дабы неверное их понимание не заставило его оступиться.
Этот принцип находит широкое применение в «Книге, избавляющей от заблуждений». Таким образом, труды файлясуфов не следует изучать людям с ограниченными способностями, чтобы из уважения к авторам они не прониклись их скептицизмом. Но, что еще важнее, тех, кто еще не вступил на суфийский путь под надлежащим руководством, не следует посвящать в секреты, раскрываемые суфиями; им должно быть известно только об общих свидетельствах суфиев, они должны знать только то, что истина верна. Газали был одним из тех, кто утверждал, что ошибка аль-Халладжа в его заявлении «ана-ль-Хакк» — «я есть истина» — заключалась не в самом этом чувстве, которое представляло собой вполне дозволенное суфийское состояние халь, а в публичном произнесении данной фразы, когда она могла ввести в заблуждение рядовых людей; за это его следовало наказать, чтобы простые люди не считали терпимым богохульство.
На деле, в самом принципе использования любых аргументов, которые могли иметь наибольший вес в глазах определенной аудитории, Газали продемонстрировал, что эта тенденция означала на уровне общих рассуждений. В «Книге, избавляющей об заблуждений», например, он ссылался на предполагаемые чудеса Пророка как на доказательства его пророчества, когда говорил с теми, для кого чудеса были убедительны, хотя из других абзацев следует, что подобные доказательства он полезными не считает. «Избавляющая от заблуждений» была книгой калама в смысле, присущем воззрениям Газали, — то есть инструмент, а не некий объем информации: арабское слово «избавляющая» в названии употреблено намеренно, так как замысел книги заключался в избавлении от ошибок любыми подходящими средствами, а не просто в безапелляционном утверждении истины. К абсолютной истине следует подходить, согласно Газали, не с помощью аргументов, а путем личного роста. В тактических деталях своих аргументов Газали почти никогда не выходил за рамки приема, всегда соблазнительного для диалектического полемиста. Но, оказывая общую поддержку принципу (согласно которому, следует скрывать самую важную истину от всех, кто недостоин ее знать и придает ей вид общепринятой банальности, несмотря на способность человека к более сложному подходу), он подтверждал и существенную неоднозначность религиозной истинности. Не он изобретал принцип сокрытия. Исмаилиты систематически трактовали в этом духе общий шиитский принцип такийя — предупредительное сокрытие веры; и файлясуфы, и особенно суфии разработали практическую форму принципа, который перенял Газали. В своих трудах он обобщил и доказал этот принцип как основу духовного наставничества.
В конце концов базовая позиция приверженцев хадисов подкреплялась определенным фундаментальным образом; и фальсафа, и суфизм переоценивались в свете приверженности шариату. И все же возникновение ашаритского калама было почти пустяком по сравнению с тем, что теперь предлагалось улемам. На исламский популизм накладывалась элитарность в ее крайней форме. Данная тенденция обладала потенциальными последствиями, которые вряд ли мог представить себе Газали. Вкусы и потребности почти каждого могли согласовываться в пределах толерантности такой новой шариатской системы. В лучшем случае закладывалась основа для полномасштабного и разнообразного интеллектуального и духовного развития с благословения ислама. Но она могла открыть дорогу для центробежной свободы действий, поскольку это происходило в ущерб всеобщему и открытому обмену мнениями и информацией, на который опирались улемы в воссоздании (в некоторой степени) внутренней повседневной жизни Медины, и который шариатское движение предполагало в своем поиске божественной воли.
Однако со становлением межнационального исламского общественного строя появились новые способы поддержания единства и даже дисциплины мусульманского общества. Автономные частные институты городов опирались не только на шариат, но и на другие структуры. А среди них (как мы увидим ниже) присутствовали формы организации, которые легли в основу народного суфизма, который в силу своей гибкости отлично подошел к частному и бесконечно многообразному характеру местных институтов. Следовательно, к концу формирующей фазы первой половины Средневековья мусульмане были готовы к механизму, предложенному Газали. Его моральный авторитет был широко признан еще при жизни. А предложенная им форма интеллектуального синтеза калама, фальсафы и суфизма стала, по сути, отправной точкой интеллектуального процветания первой половины Средних веков.
Обскурантизм и эзотерика
Свобода мнений, которая существовала в «век шиитов» в мусульманском сообществе, редко встречалась в аграрную эпоху. Но с приходом к власти людей, имевших те же убеждения, что большинство мусульман, и признававших авторитет одних и тех же улемов, возник сильный соблазн попытаться навязать единообразие. Те, кто не доверял результатам свободных частных исследований людей, которые не имели достаточной подготовки, чтобы приходить к правильным результатам, часто имели возможность не позволять опасным идеям достигать публичных ушей. Тех, кто был не согласен с более популярными позициями, могло постичь наказание. Такое происходило и раньше — например, когда подвергались гонениям кадариты и манихейцы, а позже (и с меньшей жестокостью) — передатчики хадисов, но с этого момента, когда религиозная принадлежность населения, в основной массе принявшего ислам, стала однородной, эта тенденция распространилась.
Стремление к конформизму присутствовало в обществе с глубокой древности (и его социальная польза бесспорна). Для людей, в отличие от животных, вещи нематериальные столь же важны, как и материальные: в отличие от сигналов животных их слова обозначают то, что нельзя увидеть. Символическая картина, которую люди рисуют словами, — это не случайное любопытство, а главная опора их личной ориентации. Следовательно, люди всегда боялись, что будут вынуждены услышать новые идеи, радикально отличающиеся от понятий, на которых до сих пор строилась их жизнь. Даже если они отрицают эти идеи, сам процесс поиска веских оснований для их отрицания трудоемок, но для большинства людей еще хуже вероятность того, что другие примут эти идеи, оставив приверженцев старых понятий без поддержки. Для того чтобы допустить свободную ротацию непопулярных идей в обществе, требуются известная сила духа и социальная дисциплина со стороны тех, в чьей власти их подавлять.
Это правило не знает исключений, но в монотеистических обществах данная естественная тенденция к нетерпимости подкрепляется требованиями общинного уклада. Как уже отмечалось, представление о едином Боге и единственной важной в моральном отношении жизни в монотеистической традиции дополняется понятием о едином определяющем моральные стандарты обществе. А в исламе эта тенденция настолько развилась, что закон религиозной общины, шариат, стал единственным основанием полной легитимации любого социального действия. Именно религиозная община посредством шариата служила гарантом общественной морали и, следовательно, самого существования общества. Но если безопасность и благополучие общества зависели от мощи и спаянности религиозной общины, то все остальное при необходимости должно быть принесено в жертву ради этого. Даже жалость к честному, но запутавшемуся человеку не должна отвлекать от выполнения долга — избавить общество от червоточин неверных идей. По практическим причинам моралистический подход монотеистической религиозной традиции вел к коммунализму: к повышению значимости преданности общине и ее признанным символам (и особенно доктринам), даже в ущерб всем остальным ценностям.
В подобной атмосфере даже благородные люди, умеющие сопротивляться инстинктивному желанию обеспечить собственную интеллектуальную безопасность, заглушая угрожающие голоса, могут превратиться в гонителей. Они могут посчитать своим долгом поддерживать нетерпимое отношение к инакомыслящим ради тех, кто не способен легко противостоять угрозе. Следовательно, общества, усвоившие монотеистические традиции, необычайно подвержены склонности к преследованию всякого, кто осмеливается высказывать непопулярные идеи. Такой точки зрения в целом стали придерживаться и мусульмане, и теперь ее реализации уже не так сильно мешали сомнения и фрагментация общества, раньше делавшие ее невозможной. Богоугодным считалось сжигать книги, содержавшие опасные идеи, и высылать или даже казнить тех, кто писал эти книги или проповедовал их содержимое другим людям.
Однако запрет распространялся всегда на разные категории людей даже в кругах суннитов, когда одна группа одерживала верх над другой. В Багдаде в XI в. общественными массами все еще заправляли ханбалиты. Они в большей степени, чем позже, во времена великого халифата, были способны помешать инакомыслящим проповедовать свои учения публично. Так было, когда несогласные с ашаритами толкователи шариата убедили султана Тогрил-бека попытаться подавить ашаритский калам — тогда ашаритов проклинали в мечетях, наказывали их лидеров, таких как Джувайни. Ханбалиты даже сумели усмирить тех своих единомышленников, кому любопытно было послушать проповедников других учений. Обладавшего серьезным авторитетом в Багдаде ханбалита, который инкогнито поехал послушать мутазилитов, не разделяя при этом их взглядов, заставили (не без угрозы насилием) публично покаяться в подобном поведении. Ему пришлось унизиться перед его конкурентом, учителем-ханбалитом, который сумел настроить толпу против «нововведений» человека, который всего лишь послушал своих оппонентов. Но ханбалиты не слишком отличались от остальных в степени своей нетерпимости. Когда ашариты сами были в почете, они так же (в случае, если обладали достаточной властью) стремились подавлять инакомыслие. Упрекая ханбалитов Багдада в нетерпимости, которая привела к распрям между ханбалитами и некоторыми дружественными ашаритам шафиитами, когда некий известный ашарит-шафи-ит попытался читать публичные лекции в Багдаде, Низам-аль-Мульк отметил, что в Хорасане ханафиты и шафииты, признав друг друга, объединились, чтобы не дать возможности публично распространяться никаким иным учениям. В Багдаде ханоалитов вынуждены были терпеть из-за их популярности в народе, которой сочувствовали и халифы. Но Низам-аль-Мульк, очевидно, сожалел о невозможности бороться с ними. В других городах развивались иные тенденции. Говорят, что в Хорезме улемы-мутазилиты пользовались таким влиянием, что сумели запретить немутазилитам оставаться в городе на ночь.
Если бы самым рьяным толкователям шариата удалось настоять на своем, ни одному мусульманину не было бы позволено знать ни о чем, что считали религиозными наставлениями сами улемы. Или, выражаясь недоброжелательно, человек должен был знать только то, что связано с самыми необходимыми практическими навыками, общество зиждилось бы только на некритических знаниях, и даже летописям и художественной литературе было бы позволено существовать при значительных ограничениях. Спектр приемлемых знаний был, вероятно, уже, чем в любом другом крупном городском обществе: даже на христианском Западе церковь, превратившаяся (в монотеистической манере) в блюстительницу моральных устоев и защитника общества от опасных идей, позволяла своим служителям (особенно в более поздние эпохи) заниматься довольно обширным кругом сравнительно бесполезных знаний, откровенно проистекавших из дохристианского язычества. Но на практике, при условии соблюдения определенных правил, мусульмане могли свободно обучаться почти всему с минимальным риском быть наказанными; они рисковали гораздо меньше, чем жители Запада. Это стало возможно благодаря механизму градации и сокрытия знаний, который предлагал Газали. После развала высокого халифата он быстро стал общим механизмом для всех мыслителей, не желавших сковывать себя узкими рамками научных областей, одобренных официальными улемами. То есть все наиболее творческие стороны интеллектуальной культуры в исламе, как правило, становились эзотерическими.
Эзотерика не претендовала на соперничество с обычной, общепринятой истиной. Скорее, она ее дополняла. В экзотерической культуре — культуре приверженных шариату кругов, благодаря которым сохранялось единство исламского сообщества, — никто не пытался бороться с прозаизмом, обязательным при популистской, моралистической ориентации. Только неоспоримые, подтвержденные историческими документами данные, которые, в принципе, мог усвоить каждый отдельный человек, считались «ильмом» — «значительными знаниями». Знания можно было бесконечно оттачивать и обогащать деталями, как это происходило с отчетами о хадисах и их критикой, которая требовала энциклопедической эрудиции, превосходной памяти и острого критического ума. Их можно было чрезвычайно усложнять, вдаваясь в академические тонкости, как это часто бывало в процессе гипотетических упражнений в правоведении — фикхе. Можно было развивать длинные цепочки логических рассуждений, делать весьма абстрактные предположения, как делали те, кто считал аргументацию калама одним из направлений шариатских наук; но такие предположения должны были быть свободны от пространных рассуждений, нужно было предлагать только четкие альтернативы — да или нет — и в любом случае (разумеется) выводы должны были соответствовать положениям, принятым сообществом на основании четко подтвержденных документами исторических откровений.
Признать, что одни и те же словесные формулировки могут иметь разные значения в разных контекстах, что они могут выражать разные, но одинаково значимые взгляды, или что тонкости хорошего вкуса в сравнении с простой информацией и правилами о том, что хорошо и что плохо, могут играть роль в поиске истины и мудрости, означало бы повергнуть всех в смятение, и для подобного признания не оставалось места. Все неочевидное в фиксированной формулировке идеи не подлежало рассмотрению. Даже поэзия (которую в кругах толкователей шариата признавали в ее строго ограниченной классической форме) считалась набором заявлений о фактах — достоверность и техническая формулировка которых подлежали обсуждению.
Эзотерические истины, напротив — те, что недоступны широкой публике. В то время как ильм толкователей шариата должен был обладать принципиальной доступностью для любого, кто был в состоянии выслушать и запомнить услышанное, в соответствии с популистскими моральными стандартами, доступ к эзотерическому ильму можно было получить только в результате посвящения — частных отношений наставника и ученика. Посвящение могли пройти только специально обученные люди, которые, в свою очередь, не могли раскрывать свои секреты всем подряд. Посвященные сталкивались с трудностями в поиске эзотерической истины, поскольку она была непонятна в принципе, хотя они и могли неосмысленно воспроизводить написанное. Здесь был простор для всевозможных хитростей и двусмысленностей, если это не противоречило традиции. На самом деле эзотерические знания были не всегда мудренее экзотерических, но зачастую более занимательными.
В принципе, любая истина, которую можно назвать эзотерической, по своей природе являлась избирательной: независимо от того, насколько усердно наставник старался помочь неподготовленному ученику понять ее, усилия могли оказаться напрасными — ученик должен был обладать способностями для восприятия истины, иначе объяснения были бессмысленны. Но мастера эзотерики предпринимали усилия для того, чтобы в случае попадания труда в неподходящие руки его наиболее тонкие моменты не были понятны даже наполовину и, следовательно, неверно истолкованы. Они писали так, что преграды, расставленные природой, укреплялись с помощью искусства. Это делалось для того, чтобы избежать не только преследования, но и нежелательных последствий для самих посвященных. Область публичных знаний и истин однозначно отдавалась на откуп экзотерическим учителям, и их экзотерических учеников защищали от заражения эзотерикой сами эзотерические мастера.
Мусульмане культивировали три основных вида знаний, которые теперь считались эзотерическими: метафизику и некоторые естественные науки файлясуфов; шиитские толкования откровений; и личный опыт суфиев, наряду с их представлениями и умозрениями. Все эти виды наук и раньше считались в некоторой степени эзотерическими. Но в исламском мире Средних веков им стали чаще придавать эзотерический статус, чем это происходило в прежние времена или даже в других обществах того же периода. Для понимания многих научных знаний требуются особые способности — хороший вкус в музыке, к примеру, или особая проницательность в метафизике и физике, или даже интуитивная восприимчивость к медицине и астрологии. И все же такие знания можно было расценивать как экзотерические, открытые для всех желающих потратить время и приложить усилия, или хотя бы не скрываемые от посторонних. Не только эти несколько сфер, но и многие другие знания, доступ к которым был довольно легким, считались эзотерическими и, следовательно, привилегированными, если не вписывались в рамки, определенные толкователями шариата. Их обычно охраняли, делая их мене доступными.
Разница между научными и оккультными знаниями до наступления технической эпохи была огромной. Разница между уровнем широких масс и представителей наук объяснялась не просто популистским утилитаризмом, но и дерзостью и элитарностью самих ученых. Эзотерическое понимание природы возникло очень давно и связано с древним магическим искусством. Еще с осевого периода как минимум к нескольким наукам файлясуфов всегда относились как к эзотерическим; например, химия — связанная в умах народа с созданием искусственного золота и с магией вообще — была облачена в символические термины и сокрыта от публичных глаз. Более того, самую абстрактную из наук — метафизику — начали преподавать в более или менее эзотерическом ключе, чтобы защитить ее от ревностных приверженцев монотеистической традиции; как минимум в том смысле, что позиции, не приемлемые большинством мусульман, предусмотрительно старались спрятать. К началу исламского Средневековья науки как вид частной деятельности могли иметь два статуса. Все они были частными в общем смысле: книги часто писали, недоговаривая, а изложенные в них учения не преподавали в общественных местах — например, медресе — но в частном порядке наставник мог рассказать ученику об этих знаниях, и это помогало выяснить подготовленность и надежность ученика. Затем, некоторые науки — а именно химию и магическое искусство — не только держали в тайне, но и ревностно охраняли, а иногда они подвергались гонениям со стороны менее эзотерически настроенных файлясуфов. Но на деле никто никогда не проводил четкой границы между этими двумя степенями скрытости, и люди, которым приоткрылась хотя бы какая-то часть фальсафы, обычно начинали копаться в ее самых тайных закоулках.
Суфизм, в принципе, накладывал еще больше ограничений. (Именно всепроникающее влияние суфизма способствовало приданию исламской культуре эзотерического уклона.) Самоанализ требовал почти обязательного присутствия наставника, который должен был руководить опасным процессом и предохранять от преждевременной переоценки новичком своих достижений. Без институционального контроля церкви этим процессом приходилось руководить эзотерически, и мюрид считался посвященным, которому не дозволено обучать других тому, чему он обучался сам, пока его не благословит на это наставник. И опять здесь проявлялись степени эзотеричности. Теософские космологические доктрины, разъяснявшие более глубокие уровни самовосприятия, держались в особенно строгом секрете, и менее смелые суфии часто ими пренебрегали. Но даже в отношении внутренней дисциплины самые рьяные суфии стали активно отказываться от постоянно пересматриваемых правил традиционного суфизма, ставшего экзотерическим, и предпочитали усугублять эзотеричность суфизма.
Эзотеризм шиитов не был связан с анализом или манипуляцией природой и не помогал глубже понять собственное «я». Скорее, он драматизировал историю и современный мир в исторической перспективе. Эта драматизация, как мы уже отмечали, была проявлением социального протеста: она имела хилиастическую природу — то есть шииты считали, что будущие события изменят текущую историческую ситуацию в пользу притесненных или тех из них, кто сохранял преданность своим идеям и не отказался от них в угоду официально признанной доктрине. Таким образом, текущая ситуация в обществе постоянно подвергалась переоценке из-за подобных не высказываемых явно соображений. Это стремление к постоянному сопротивлению и заставляло сохранять эзотерический характер таких изысканий, что происходило и с хилиастическими движениями в монотеистической традиции прежних времен. Широкая публика воспринималась как враг или как сборище болванов, одураченных врагом, и от нее следовало защищаться. Ответом на постоянную тенденцию ранних хилиастических течений образовывать закрытые и часто тайные общества избранных стала шиитская доктрина такийя — сокрытия истинных убеждений из предосторожности.
Разумеется, шиизм в целом, даже джафаритский шиизм, необязательно был эзотерическим: шиитские толкователи шариата, даже включая доктрину такийя в свою правовую систему или признавая некоторые скрытые ссылки на имамов в Коране, могли в той же степени придерживаться эзотеризма, что и любые сунниты. Но дух преданности Алидам — по крайней мере, среди шиитов и, возможно, среди некоторых суннитов — если к нему относились серьезно, требовал атмосферы посвященности, когда истину следовало открывать только тем, кто обладал необходимыми для посвященного способностями. У шиитов существовала тенденция проповедовать настоящие истины (например, космическую роль Али) под прикрытием внешних доктрин двунадесятников и исмаилитских улемов — и хранить их в тайне даже от шиитских представителей официальной власти. При всем при том весь джафаритский шиизм — в той мере, в какой ему было присуще понятие о гонениях и страданиях Мухаммада и его последователей, — посредством такийя приобрел, по меньшей мере, внешние признаки эзотеризма.
Все три формы эзотерических знаний, как правило, наслаивались одна на другую и проникали друг в друга. Шиитский подход к осмыслению истории проявился не только в алхимии (в учении последователей Джабира), но и в астрологии, и шиитские драматизация истории и оккультные знания наиболее радикальных файлясуфов обеспечили терминологией и символизмом как минимум суфиев. Более того, общественные группы, которые в некоторой степени существовали обособленно от официальной системы влияния эмиров, айя-нов и улемов — в частности, развивающиеся ремесленные гильдии и другие городские объединения по интересам — как правило, сами были тайными, требовали посвящения и практиковали те же знания (или их часть), что и более масштабные эзотерические движения.
Но в то же время приобретала эзотерический статус и относительную недоступность для людей со стороны и творческая жизнь общества. В исламском мире это происходило так: важнейшими каналами социальной мобильности были обычно военный институт эмиров или шариатский институт улемов — и оба они были повсеместны. Например, только с помощью особой харизмы простой странствующий суфий, даже если он становился пиром и обзаводился собственными учениками, мог обрести высокое положение в обществе. Именно обыденная, экзотерическая культура служила основной дорогой наверх. Как раз от неодобрения преуспевающих людей охраняли себя представители разного рода эзотерических знаний, когда писали или преподавали в манере, призванной сбить с толку случайного человека. Но величайшие произведения по-прежнему было трудно понять и более поздним поколениям читателей, пытавшихся оценить исламскую культуру.
Эзотерический характер этих нескольких элементов культуры лишь отчасти объяснялся защитой от преследования. Но какими бы ни были мотивы, по большей части все-таки удавалось защититься от ретроградных шариатских улемов. Если нетерпимые фанатики желали устранить инакомыслящего, сделать это было нелегко. Нужно было убедить не одного облеченного официальной властью человека, как это было на Западе, а целый ряд представителей власти, у каждого из которых могли быть причины сомневаться, стоит ли предавать анафеме тот или иной труд такого-то автора. Один шариатский улем мог вынести свой приговор (фатва), но если другие равные ему улемы отказывались это сделать или даже воздерживались от обсуждения, решение первого не имело законной силы. В любом случае, после вынесения улемами решения о законности казни конкретного инакомыслящего, эмир должен был решать самостоятельно, будет он казнить его или нет. Если среди его придворных находились те, кто сочувствовал обвиняемому, они могли предложить практические причины для снисхождения. Когда все учения, идущие вразрез с официально принятой линией, облекались в эзотерические формы, открыто признававшие правоту общепринятых доктрин (которым эзотерические знания служили лишь дополнениями или способами толкования), было проще найти повод усомниться в виновности приговоренного. Никто не отрицал официальной точки зрения; вопрос был только в том, противоречило ли ей то, что говорил человек, помимо поддержки официальной линии. Но если автор умел изъясняться туманно, вину было невозможно доказать наверняка.
Отдельных суфиев, файлясуфов и шиитов наказывали на протяжении всего исламского Средневековья, иногда очень жестоко; но обычно такое случалось в результате неблагоприятного для обвиняемого стечения политических обстоятельств. Большинство же выдающихся представителей эзотерической культуры умерли в своих постелях. Между тем преданных шариату охранников единства общества, живущего по нормам религиозной морали, сложная культура исламского мира держала в постоянном сильном напряжении: они имели возможность порицать, но не в состоянии были разрушить ее. Возникшее в итоге ощущение угрозы целостности ислама из-за компромиссов между течениями высокой культуры присутствовало во всех экзотерических аспектах жизни мусульман. Там, где влияние улемов становилось особенно сильным, высокая исламская культура испытывала затруднения[239].
Глава IV
Суфийские тарикаты (около 945–1273 гг.)
Пока интеллектуальная деятельность обретала новые средневековые формы, суфизм готовился сыграть роль еще более важную, чем во времена высокого халифата — как в социальном, так и в интеллектуальном плане. Как предсказывал Газали, новое направление интеллектуальной жизни дало результаты, отразившиеся в суфийском контексте.
Популяризация мистицизма
Популярность суфийского мистицизма среди жизни мусульман была частью более общей востребованности мистицизма в Афро-Евроазиатской Ойкумене. Зрелый мистицизм, каким мы знаем его по суфизму, вряд ли можно считать культурной практикой, имевшей место до осевого периода (хотя, конечно, элементы мистической практики присутствовали в религиозной жизни всегда, насколько можно судить по имеющимся данным). К концу осевого времени четко выраженные мистические течения обладали огромным влиянием в Греции, Индии и даже в Китае, а также в ирано-семитском ареале. Везде, кроме Индии, они в основном не отличались масштабами и пребывали в тени основных культурных тенденций. Но возникшие тогда традиции продолжали развиваться.
В постосевой период развитый мистицизм постепенно начал восприниматься как должное, как нормальная составляющая популярной религии. В книге II мы отметили, что развитие суфизма приблизительно совпало с развитием мистицизма высокой любви у христиан и индусов. Развитие подобного вида мистицизма даже в Индии соотносится с растущей популярностью мистики среди крупных секторов населения, а не просто среди специалистов с весьма воздержанным темпераментом. Но сама популярность данного явления была более широкой, чем упор на божественную любовь. В Китае популярность мистицизма, по-видимому, достигла пика в период правления династии Сун — примерно в первой половине исламского Средневековья. В Западной Европе христианский мистицизм получил широкое признание и оказывал значительное влияние на интеллектуальную жизнь вплоть до XVI в. включительно. Затем технический прогресс заставил его отступить в тень. Наибольшей популярности мистицизм достиг в регионах, где преобладало индийское культурное наследие, и в исламском мире. Здесь он сохранял свои позиции вплоть до XIX в., оставаясь признанной основой популярных культов и духовной творческой деятельности.
Нам относительно мало известно о христианском мистицизме в исламском мире данного периода и почти ничего не известно о мистицизме иудейском. Однако общее представление о еврейских достижениях в этой сфере у нас все-таки есть. Оно свидетельствует о тесной связи с общим развитием мистицизма, особенно исламского. Религиозная жизнь евреев развивалась одновременно и в исламской, и в христианской цивилизациях; документы, которыми мы располагаем, относятся в основном к западной части христианского мира, но многие ее направления берут начало в регионе между Нилом и Амударьей. В первые века осевого периода и на протяжении значительной части расцвета исламской цивилизации еврейский мистицизм развивался в рамках течения, которое принято называть «меркаба». Оно представляло собой описание захватывающего внутреннего путешествия к величественному трону Бога. С возникновением в XIII в. каббалы (то есть ее христианской линии в Испании и Италии) мы обнаруживаем нечто намного более близкое к зрелому суфизму. Мистицизм меркаба уже включал в себя многие элементы, лежавшие в основе исламского мистицизма — например, гностические идеи и понятия. Но в мистицизме каббалы традиция меркаба была связана с огромным значением, которое придавали любви человека к Богу. Вместе с тем здесь, хоть и позже, чем в исламе, проявились многие (но не все) элементы, характеризующие суфизм в Средние века: в частности, использование философской терминологии, несмотря на то что каббалисты оставались гораздо ближе к Торе и Галахе, чем еврейские философы, так же как и суфии были ближе к Корану и шариату, чем файлясуфы. Кроме того, только с XVI в. у евреев началось формирование фундамента религиозной жизни народа (например, народного фольклора), которое получило мощный импульс в Палестине. Насколько велико было здесь влияние исламской модели, сказать трудно. В какой-то степени, по крайней мере, они демонстрируют самостоятельную эволюцию[240].
Танцующие дервиши. Средневековая персидская миниатюра
Некоторые ученые попытались соотнести расцвет мистицизма с крахом великих империй и связанной с ними политической нестабильностью; или, выражаясь точнее, с отстранением культурной элиты от политической власти и ее погружением во внутреннюю компенсаторную деятельность после того, как она перестала реализовывать себя во внешней среде. В некоторой степени такое соотношение присутствовало до тех пор, пока мистицизм укреплял свои позиции после краха великих империй первых постосевых веков. Но остается неясным, действительно ли к мистицизму обращались преимущественно потомки отстраненной политической элиты. Среди мусульман многие мистики по происхождению были ремесленниками. До тех пор, пока техническая эпоха Нового времени не принесла с собой спад интереса к мистицизму, сначала на Западе, а потом и везде, легче соотнести подъем мистицизма в свете с растущим усложнением и модернизацией цивилизации в целом, какими бы ни были причины ее периодических взлетов и падений. Одни традиции, подобно еврейским, продемонстрировали более высокую сопротивляемость ему, чем другие. Но в целом, чем больше население интегрировалось в традиции высокой культуры, возникшие в осевом периоде (часто за счет местной природы и племенных культов), и чем больше эти высококультурные традиции подвергались влиянию других цивилизаций, тем сильнее расцветал мистицизм[241].
В ирано-семитских традициях мистицизм закрепился с приходом ислама, хотя и не стал доминирующим течением. В первые века ислама он получил новый стимул к развитию (как и другие стороны ирано-семитской религиозной жизни), и к началу Средневековья был готов к решению любых поставленных перед ним задач.
Один из самых мощных импульсов к переориентации на базе суфизма, религиозная жизнь ислама получила в период правления Сельджуков. После окончания периода высокого халифата интерес к историческому контексту постепенно ослаб. В то же время поддержка вневременной традиции суфизма становилась все ощутимее. Время формирования интернационального сообщества явилось и периодом создания нового, народного суфизма. Народные массы раньше многих улемов стали следовать в религиозных вопросах наставлениям суфийских пиров.
Затем благодаря деятельности таких людей, как Газали (ум. в 1111 г.), в которых сочетались владение учениями улемов о шариате и каламе и уважение к независимой мыслительной деятельности суфийских мистиков, суфизм приняли и сами улемы. К XII в. он был неотъемлемой частью религиозной жизни и даже религиозного учения ильм. Так постепенно суфизм, будучи вначале лишь одной из форм религии, причем далеко не самой признаваемой властью и народом, стал доминировать в религиозной сфере не только среди суннитов, но, пусть и в меньшей степени, и среди шиитов.
С этого момента ислам обрел две главные формы выражения. Первая — шариат; его толкователи — улемы — занимались внешним, социально определяемым поведением. Вторая — мистицизм; и его представители, суфийские пиры, сосредоточились на внутренней, частной жизни человека. Зачастую один и тот же человек мог одновременно быть пиром и шариатским улемом или, как минимум, серьезно занимался обеими сторонами ислама, равно как и большинство мусульман уважали и слушали наставления и пиров, и улемов. Однако всегда находились те, кто считал одну из сторон ислама истинной и не доверял второй или даже отвергал ее как ложную. Третье направление религиозной мысли тоже брало начало из высокого халифата — это алидизм с его хилиастическим видением. Иногда он сливался с шариатским учением в интерпретации шиитских улемов; иногда он становился дополнением суфизма, когда оказывались полезными его эзотерические понятия; время от времени он выделялся в самостоятельное направление. Но почти никогда он не получал социальной легитимации независимо от шариата и никогда не смог составить конкуренцию суфизму в долговременности народного признания.
Суфизм этого периода уже не был просто индивидуальной формой поклонения склонных к мистике мусульман. Сначала он выработал детально продуманную доктрину и обычаи, основанные на отношениях ученика и наставника, а затем, после 1100 г., сформировалась целая сеть тарикатов — суфийских орденов, существовавших параллельно мечетям с проповедовавшими там обычными улемами. Опыт и учения первых суфиев высокого халифата, начиная с X в., легли в основу новой, более сложной суфийской модели с ее собственными традициями. А на этом фундаменте (с более или менее легитимными вариациями) была выстроена всеобъемлющая система теософии и религиозной деятельности. Именно она приобрела популярность в XI в. В ходе ее последующего развития, в период расцвета раннего Средневековья, все формы поклонения Богу, мистические или нет, нашли свое место в новой системе, если только их можно было привязать к тому или иному аспекту мистической практики.
Влияние мистиков на умы людей
Может показаться парадоксальным, что субъективный, неизъяснимый, чрезвычайно личный опыт суфизма мог стать основой жизни общества и приобрести историческое значение, что самая личная и эзотерическая форма поклонения стала наиболее популярной. Отчасти это объясняется эффективностью, с которой мистические формы и язык объясняют и оправдывают определенные элементы религиозной жизни, значимость которых принижал строго керигматический подход. Древние культы природы и человека довольно легко перерастали в форму веры, которая — иногда в весьма замысловатой манере — признавала особую близость святых людей к Богу. Здесь вновь появляются святые (и даже низшие божества) ранних религиозных традиций. И мыслители получили возможность вернуть с помощью мистицизма некоторую гибкость взглядов, которую отрицал керигматический морализм.
Но мистицизм обладал социальным потенциалом и помимо особых обстоятельств, связанных с керигматической концепцией. Характер спорадических столкновений с мистицизмом мог быть таким сложным, что человек испытывал затруднения, пытаясь заниматься им или хотя бы говорить о нем. Но если барьер был преодолен и мистицизм становился сознательным объектом исследования, тогда, насколько личными ни были бы мистические переживания, это могло иметь далеко идущие последствия. Моменты жизни человека, когда исчезали искажения восприятия действительности, вызванные гневом, похотью, усталостью или просто предвзятостью, помогают трезво оценивать реальность (по любым критериям трезвости оценки). Такие детально объясненные моменты лежат в основе повседневного мистицизма и более захватывающего экстатического мистицизма (по меньшей мере в той степени, в какой они включены в исторические мистические традиции), хотя здесь мистический опыт иногда превозносился из-за переживаемых сложных эмоций. Невозмутимость, широкие взгляды, даже непосредственное восприятие того, чем мы являемся, разумеется, не приносят должных знаний (хотя часто о подобном опыте говорят так, будто он действительно служит источником знаний). Но он дает точку зрения, моральную установку, сквозь призму которой можно оценивать смысл любых точных знаний. Если подобные мистические переживания обладают весом и актуальны для повседневной жизни — это решающий критерий мистицизма с исторической точки зрения — их последствия будут непредсказуемыми и могут повлиять на любую сферу деятельности человека. Как только их вескость подтверждается, они начинают определять всю жизнь.
Те, кто преуспевает в прояснении и очищении своего сознания и жизни вокруг себя, сумеют трансформировать свои отношения с окружающими их людьми. В случае с отшельниками в любой религиозной традиции это подразумевало погружение либо в полное безразличие к судьбе преходящих людей, либо (несомненно, гораздо чаще) в острое осознание собственной ничтожности и неготовности к служению окружающим. Одной из наиболее распространенных форм такого ухода был целибат (обет безбрачия), который сам по себе уже предполагает определенную степень социальной изоляции. Религиозные люди обращались к целибату по разным причинам, от предубеждения против пугающей сексуальности, когда она подавлялась в обществе жесткими табу, до разумного признания того факта, что страсть и самомнение, проявляющиеся в половом акте, несравнимы с постоянным самоконтролем и бесстрастной ясностью ума.
Многие суфии становились абсолютными отшельниками. Те, кто не заходил так далеко, все же давали обет безбрачия — следуя если не общепринятому идеалу, то как минимум собственной духовной потребности. Но ни уединение отшельников, ни просто целибат не стали для суфизма нормой. Как правило, обет безбрачия подразумевает отказ от семейных обязанностей и от совершенно несущественной обязанности участвовать в экономическом производственном процессе в обществе (часто речь идет о нищенстве). Следовательно, люди, для которых важен стабильный общественный уклад, обычно относились к нему скептически. Не поощряла его и чрезвычайно влиятельная исламская традиция: по словам Мухаммада, переданным в одном из хадисов, в его общине нет монашества; это означало, что целибат противоречит исламу. Соответственно, хотя безбрачие среди правоверных мусульман исключить было нельзя, в исламском религиозном контексте оно играло второстепенную роль. Даже те суфии, кто соблюдал целибат, часто стеснялись в этом признаться. Согласно проповедям многих суфиев, любая форма полного отречения от социальных отношений должна быть лишь временным дисциплинарным средством, а не постоянным образом жизни.
Если же мистик не отказывался полностью от социальных отношений, то, независимо от того, давал ли он обет безбрачия, самым легким для него способом соотнести свой опыт с жизнью окружающих было проповедование. Кого-то сдерживало отчаяние из-за того, что они не могли просветить других людей, сами находясь в плену невежества и предрассудков. Чаще всего к проповедованию приходили те, кто стремился разобраться в себе. Они монотонно или красноречиво напоминали себе и окружающим о тщетности повседневных тревог и стараний перед лицом жизни и смерти, используя для убедительности весь доступный им образный ряд — в частности, образы ада и рая. Но различные традиции дали начало более специализированным способам овладения умами слушателей. Манихейские святые, к примеру, были учителями, но осуждали большую часть человечества, считая их достойными жалости и доброты, но безнадежно погруженными во тьму до тех пор, пока они не сделают решающий шаг и не станут манихейцами. Следовательно, они могли читать особые наставления только преданным последователям своего учения, помогая им стать такими же чистыми, как и сами святые.
Суфии унаследовали популистские взгляды хадиситов и их твердую убежденность в достоинстве обычных людей и их понятий. Некоторые из них проявляли это в своей социальной активности. По мере роста влияния суфизма становилось все больше вождей, которые от суфийских размышлений вырастали до руководства народными движениями, стремившимися реформировать правительство и нравы общества. Но рядовые суфии шли иным путем. Вероятно, осознание ими собственных слабостей помогало проявлять терпимость к слабостям других, когда те признавались в них (терпимость, которая не мешала им осуждать заносчивость власть имущих). Подобно манихейцам, они хотели проповедовать выборочно, только отдельным людям. Но сектантами они не были: реформы доктрин интересовали их не больше, чем реформы институтов.
Суфийское духовенство, пиры и мюриды
Многие суфии уделяли время не только публичным проповедям, но и помощи людям в решении моральных проблем по мере их поступления и в поиске чистой жизни, насколько они были на это способны. Поступая так, эти суфии иногда не обращали внимания на разницу в вероисповедании. Так, например, великий пир (наставник) Низамад-дин Авлия в Дели в конце XIII в. выступал в роли исповедника для мусульман всех классов и даже для некоторых немусульман (поскольку был готов признать и достоинства индуизма). Он подчеркивал важность прощения врагов, настаивал на умеренности в наслаждении благами этого мира (но не на аскетизме, который практиковал сам), на ответственном выполнении взятой на себя работы (запрещая при этом выполнение заданий правительства как средоточия коррупции) и на деятельном раскаянии, если человек совершил грех. Его считали вторым по влиянию человеком в государстве после султана, и, находясь в Дели, он располагал преданностью суфийских пиров значительной части Северной Индии.
Такие мужчины и женщины постепенно приобрели огромное уважение в народе. Самые восприимчивые ценили трогательность их проповедей, но еще больше — моральную чистоту, воплощением которой служили сами наставники. Живя в бедности (многие принимали за правило либо употребить, либо раздать к ночи все заработанное торговлей или полученное от учеников за прошедший день), пренебрегая прелестями придворной жизни и борьбой за финансовые и социальные преимущества городского ремесленника, они привлекали заинтересованных людей тем же, чем ранее манихейские священники: они олицетворяли собой ирано-семитские мечты о чистой жизни на фоне несправедливости городского уклада в аграрном обществе. Более того, их чистота не всегда была основана только на отрицании существующего мира. Некоторые суфии взяли за правило попытки воплотить мусульманские общественные идеалы в жизнь. В частности, они увековечили дух протеста, который в свое время заставлял ранних наследников «духовной оппозиции» публично напоминать халифам об их долге. Иногда они проявляли больше настойчивости и агрессивности, ругая правителей, которые не выдерживали сравнения с идеалом, чем состоятельные и, следовательно, более осторожные юристы.
Однако суфизм, терпимый к человеческим слабостям, в целом не отделял себя от распространенных верований и чувств простых людей. В отличие от манихейцев суфии принимали (по крайней мере, внешне) любые встречавшиеся им религиозные концепции. Отчасти вследствие этой терпимости народ выказывал уважение к суфиям, слагая волшебные сказки. Почтение к ним трансформировалось в умах широких масс, которым требовались более простые формулировки, в благоговейный трепет, отразившийся в сказках о суровых испытаниях и чудесах. Как правило, хотя ни один суфий не утверждал в своих писаниях, будто творит чудеса, любому заслужившему уважение окружающих вскоре приписывали всевозможные чудеса (причем радиус их действия от места жительства данного суфия мог быть абсолютно любым), от необычайной восприимчивости душевного состояния других людей до исцеления, телепатии и телекинеза, а также более изощренных фантазий вроде паломничества из Дели в Мекку в течение одной ночи. С такими сказками соглашались и сами суфии (как они соглашались с другими популярными вероисповеданиями) — то есть, в отношении своих почитаемых предшественников.
Абд-аль-Кадир Гилани (1077–1166) — суфийский пир и проповедник, превзошедший по глубочайшему уважению в народе всех других суфиев. Он происходил из рода сайидов, предположительно потомков Али, жившего в Гилане на южном побережье Каспийского моря, и, подобно многим сайидам, он с детства занимался теологией (к тому же ему стали являться видения). Еще в молодости он получил от матери свою долю наследства (в виде восьмидесяти золотых монет, зашитых в халат), а затем женщина отправила его в Багдад получать дальнейшее религиозное образование. Он отправился в дорогу с караваном, и по пути случилось нечто типичное для проявлений его святости в глазах следующих поколений. Его мать перед отъездом взяла с него обещание никогда не лгать. Караван окружили грабители, но Гилани был одет так бедно, что на него почти никто не обратил внимания. Один из грабителей все же спросил его между прочим, есть ли у него с собой деньги. Гилани тут же рассказал о своих восьмидесяти золотых монетах, хотя те были надежно спрятаны. Потрясенный подобной честностью грабитель привел его к главарю банды, и Гилани объяснил тому: если бы он начал свой путь к духовной истине со лжи, его дальнейшие искания стоили бы немногого (здесь он уже, в присущей суфиям манере, ассоциировал истинное знание с нравственной чистотой). Говорят, будто главарь тут же проникся его учением и бросил свой грязный промысел, став первым из многих людей, чьи души спас этот святой.
В Багдаде Гилани избрал своим духовным проводником человека, который торговал сиропом и оказался очень строгим учителем. Закончив курс у наставника, он продолжил учиться самостоятельно: проводил ночи в молитвах (такой образ жизни обычно предполагал обеденный сон). В такие ночи он часто читал Коран наизусть от начала до конца (что было нормальной практикой для набожных людей). Иногда он уходил блуждать в пустыню. Он продолжал вести аскетический образ жизни, сначала в одном из городов Хузистана (на юге Месопотамской долины) и затем снова в Багдаде, примерно до пятидесяти лет. К тому моменту он уже приобрел широкую известность в Багдаде. Достигнув духовной зрелости, к которой стремился и к которой его привели божественные наставления, он начал проповедовать другим. Ему предложили собственную медресе, где он читал лекции по всем стандартным религиозным предметам — Корану, хадисам, фикху и т. д. Между тем он женился; до этого момента он считал брак помехой в духовном поиске, но теперь семья виделась ему общественным долгом, пример которому подал Мухаммад, и обязательным атрибутом публичного человека. За свою долгую жизнь он имел четырех жен и, в общей сложности, сорок пять детей; четверо из его сыновей тоже стали известными теологами. Несмотря на публичность, он продолжал придерживаться аскетизма: так, он обычно постился днем, согласно правилу месячного поста Рамадан, в течение всего года.
Страница из трактата «Бустан» Саади
Его учение и особенно публичные проповеди стали чрезвычайно популярны в Багдаде. Вскоре медресе пришлось расширить, а по средам и пятницам он начал проповедовать на молитвенной площади мусалла за городом, где обычно проходили массовые молебны и праздники, — другого места, где вместилась бы толпа такого размера, просто не было. Там тоже выстроили здание специально для Гилани. Гости Багдада, по традиции, приходили послушать его. После обеденной молитвы он выносил фетвы — решения по вопросам, связанным с шариатом и этикой. Иногда просьбы о вынесении фетв присылались ему из отдаленных земель. (Он придерживался ханбалитской школы фикха, все еще популярной в Багдаде и связанной с неукоснительным следованием шариату и заботой о набожности простых людей.) Он получал большие деньги от тех, кто через него занимался благотворительностью, а также земельные пожертвования — вакфы. Кроме денежных подаяний, каждый день перед вечерней молитвой он раздавал хлеб всем нуждающимся.
По слухам, Гилани обратил в ислам очень многих людей и наставил на путь истинный многих мусульманских грешников. В своих проповедях он рассказывал о повседневных моральных проблемах простого человека; они почти не содержали рассуждений, на которые могли бы обидеться приверженцы шариата. Идеальный святой, описываемый им, был скромным человеком, довольным тем, что Бог послал ему в этом мире или в следующем. Его сын собрал несколько проповедей в сборник под заголовком «Откровения невидимого». В одной из них перечислены десять добродетелей, которые, если прочно утвердятся в сознании человека, приведут к наивысшей духовности. Каждая из добродетелей на первый взгляд очень проста и доступна любому. (Однако шариат не требует обязательного выполнения ни одной из них.) Но все они обращены во внутренний мир человека и способны помочь ему на жизненном пути, если он будет строго их соблюдать. Первая из заповедей — не клясться именем Аллаха, ни искренне, ни ложно — могла бы разрушить весьма распространенную у мусульман практику (и часто считавшуюся благочестивой) упоминать Бога при любом удобном случае и потребовать постоянного самоконтроля, который, по словам Гилани, придавал человеку благородства, но и заставлял его серьезнее относиться к упоминанию Бога. Вторая добродетельне лгать даже в шутку. Третья — не нарушать обещаний. С этого момента заповеди становятся более общими, хотя и не лишены конкретности: не проклинать и не причинять вред (и это — в среде, где проклятия в адрес всего, что может не понравиться Богу, считались богоугодными); не желать зла никому, и в связи с этим не винить никого в безбожии; не совершать греховных поступков; не отягощать бременем ближних (и здесь Гилани замечает, что, если это войдет в привычку, человек обретет силу для честного исполнения мусульманского долга: напоминать людям о важности хороших поступков и предостерегать против дурных); не ждать от людей ничего; и, наконец, замечать в них только достоинства, превосходящие достоинства его самого. Если человек будет жить по этим законам, его сокровенные мысли будут соответствовать речам и поступкам.
Толкователи шариата, только и ждавшие возможности обвинить инакомыслящего в безбожии, тоже иногда становились популярными проповедниками, но всеобъемлющий гуманизм суфийских проповедей наделял это учение несомненным преимуществом. Однако ведущую роль суфизму обеспечили не только проницательные проповеди или даже личные примеры, но и то, что он превратился в институт. Прочной основой популярности суфизма в народе и его социальной роли в раннем Средневековье стали отношения пиров и мюридов — наставников и учеников. Они обеспечили необходимую дисциплину и способ достичь умов широких масс.
Мистицизм как образ жизни обеспечивает свободу в ее самой чистой форме: свободу от запретов, предрассудков, необходимости соблюдать обычаи или предписания. Разумеется, настоящая свобода диктуется одновременно широтой взглядов и истиной, которые являются ее источником. Но поверхностное знакомство с принципами суфизма без предполагаемого ими настоящего внутреннего роста могло привести не к свободе в следовании истине, а к свободе в следовании страстям. Чтобы направлять правоверного мусульманина, который обязан лично и непосредственно предстать перед Богом, не существовало контролирующей иерархии или сектантского братства. Следовательно, чтобы не скатиться от свободы к вольностям, человек должен был исключительно сам себя дисциплинировать. Отношения наставника и ученика развивались во многих религиозных традициях; в суфизме они стали ведущим принципом всей системы.