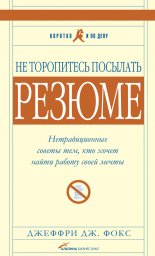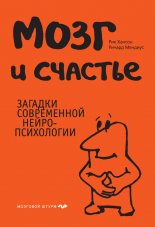История ислама: Исламская цивилизация от рождения до наших дней Ходжсон Маршалл
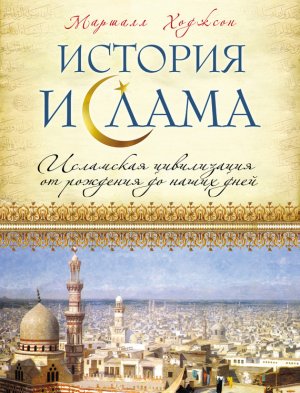
The Venture of Islam
Conscience and History in a World Civilization
MARSHALL G. S. HODGSON
Volume One. THE CLASSICAL AGE OF ISLAM
Volume Two. THE EXPANSION OF ISLAM IN THE MIDDLE PERIODS
Volume Three. THE GUNPOWDER EMPIRES AND MODERN TIMES
THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
CHICAGO AND LONDON
Marshall G. S. Hodgson THE VENTURE OF ISLAM Licensed by The University of Chicago Press, Chicago, Illinois, U.S.A.
© 1974 by The University of Chicago. All rights reserved
Перевод с английского A. H. Гордиенко, И. В. Матвеева, Н. В. Шевченко
Научный редактор перевода Т. К. Ибрагим, доктор философских наук, профессор Института востоковедения РАН
Библиография на русском языке А. Н. Гордиенко.
Предисловие к русскому переводу
Предлагаемая читателю «История ислама» знаменитого американского исламоведа Маршалла Ходжсона — новинка, давно ожидаемая как российскими специалистами и студентами, так и всеми, кто интересуется исламом и его культурой. Эта книга представляет собой фундаментальный труд по истории исламской цивилизации, который охватывает события от зарождения ислама до начала 60-х гг. XX века. В этом произведении, сделавшем Ходжсона непререкаемым авторитетом в исламоведческих кругах США, автор всесторонне исследует исламское общество на всех этапах его эволюции, детально анализирует не только исторические события, но и развитие религии, философии, культуры в самом широком смысле этого слова, экономических отношений и даже влияние природных и климатических факторов. Все это, вкупе с поистине фундаментальным подходом к исследованию, в котором ученый охватил все области Старого Света, где в той или иной степени получил распространение ислам (в том числе и Россию), делает данную книгу совершенно уникальной, не имеющей аналогов в современном востоковедении.
Особую ценность этому труду придает тот факт, что Ходжсон, являясь специалистом по истории ислама и прекрасно владея восточными языками, опирался при его написании на первичные источники, что позволило ему создать полностью оригинальное произведение. Используя собственную оригинальную историческую периодизацию и терминологию, которая помогла ему отказаться от европоцентризма, Маршалл Ходжсон практически стал первым, кто описал мусульманскую цивилизацию как одну из основополагающих частей мирового исторического процесса. Это стало основой того равноправного отношения к неевропейской вообще и исламской истории в частности, которое все более становится характерным для подлинно научных исследований.
Проведенный автором исчерпывающий анализ не только исламской цивилизации, но и общеисторических процессов, в условиях которых она развивалась, помогает лучше понять как историю мусульманских обществ, так и те события, в том числе и глобального масштаба, которые не ограничивались их рамками, а иногда протекали и за их пределами. В частности, несомненный интерес представляет трактовка Ходжсоном событий западноевропейской истории Нового и Новейшего времени. Более того, многие аналитические выводы, к которым автор пришел в середине XX в., полностью подтвердились последующим ходом исторических событий и позволяют прогнозировать их будущий ход.
В оригинале труд Ходжсона состоит из трех томов, в русском издании, объединив их под одной обложкой, мы отказались от такой разбивки произведения, но сохранили авторскую сквозную нумерацию книг, таким образом, сама структура монографии осталась в первозданном виде. При переводе мы старались максимально сохранить присущий автору стиль изложения, который не всегда прост и понятен. Некоторые используемые Ходжсоном термины не имеют точного соответствия в русском языке, это касается главным образом исторической периодизации, поэтому там, где это необходимо, после перевода в скобках приведено оригинальное слово. Небольшой переработке подвергся и глоссарий, что также было вызвано особенностями русскоязычной терминологии. При передаче арабских и других восточных имен и терминов мы ориентировались на принцип транскрипции, а не транслитерации, без использования дополнительных диакритических знаков, принятых в специальной литературе. Чтобы облегчить читателю знакомство с культурой и историей ислама оригинальные авторские сноски в книге дополнены ссылками на имеющиеся русские переводы источников и монографий, надеемся, что нам удалось сделать их если не полностью исчерпывающими, то максимально полными и актуальными на сегодняшний день.
Давно назревшее русское издание этого произведения, помимо несомненной практической пользы для отечественного исламоведения, станет настольной книгой для каждого, кто интересуется историей исламского мира и желает получить всеохватывающее представление об этом вопросе.
Генеральный директор издательства «Наше слово» Гордиенко А. Н.Доктор философских наук, профессор Института востоковедения РАН Ибрагим Т. К.
Рубен У. Смит о Маршалле Ходжсоне и его «Истории ислама»
Маршалл Гудвин Симмс Ходжсон скоропостижно скончался 10 июня 1968 года в возрасте 47 лет. К сожалению, он не успел закончить данную работу и еще ряд исследований. К моменту его смерти уже были готовы четыре из шести частей этой книги (оставалось только провести окончательное редактирование и добавить сноски). Ходжсон также успел обработать Книгу V и собрать материал для будущей Книги VI. Для многих хронологий и диаграмм существовали только черновики, а необходимые карты представляли собой лишь общие описания. Кроме того, за несколько лет до этого была издана более краткая версия книги «История ислама». Ею активно пользовались как студенты, так и выпускники высших учебных заведений. Эта книга послужила своеобразным очерком для будущей работы, многие главы состояли из двух-трех страниц, некоторые из них не существовали вовсе. Ходжсон постоянно писал, редактировал свой материал и переписывал его заново. Он прислушивался к критике коллег. Одновременно с этим Маршалл работал над всемирной историей. Он искренне надеялся, что в один день читателям будут доступны обе его работы. Ходжсон был убежден, что любое историческое развитие стоит воспринимать как единое целое и любое событие облечено в канву всемирной истории. Несмотря на то что автор успел написать несколько сотен страниц всемирной истории, их издание не представляется возможным. Если придать им логическую законченную форму, то эта работа уже не будет непосредственно трудом Ходжсона. Хотя определенные положения и умозаключения можно обнаружить и в «Истории ислама», в частности в разделе «Введение в изучение исламской цивилизации». Изначально Ходжсон планировал издать эту часть книги как приложение к общей работе. Он был неутомимым тружеником и во многих вопросах имел свое собственное мнение. И хотя Ходжсон всегда прислушивался к советам, во время редактуры он яростно боролся против любых изменений своего текста.
Лично я с великим трепетом согласился после его смерти принять эту работу к изданию. При жизни Маршалла Ходжсона мы работали вместе, порой даже занимали один кабинет. Сейчас в Университете Чикаго я преподаю курс истории исламской цивилизации. Этот курс когда-то создал Ходжсон, и в течение двух лет мы вели его совместно. Первоначально «История ислама» создавалась в помощь в изучении этого курса. Но в ходе работы Ходжсон осознал, что его исследование выходит за рамки обычного учебника. Он надеялся, что его книга будет понятна и дилетанту, и специалисту, и начинающему студенту. Он всегда хотел, чтобы его работы были полезны для читателей любого уровня.
Ходжсон вел многочисленные записи. Лично для себя он делал множество заметок. Среди них были и полные диаграммы, и их наброски, и общие описания. Не менее интересны были его личные иллюстрации, которые мы, к сожалению, не имеем возможности опубликовать. Свою задачу я видел в том, чтобы оставить текст максимально приближенным к изначальной рукописи Ходжсона. По сути оригинальный текст был более детализированным, первые две трети работы содержали гораздо больше диаграмм и карт, чем последняя треть. Авторский стиль письма практически не был изменен. В некоторых разделах рукописи Ходжсон умышленно переходит на более сложный стиль, в отличие от раннего, менее подробного. Его целью было вложить как можно больше смысла в каждое предложение, в каждый параграф. При этом для выражения он использует только актуальный и необходимый материал. Некоторые неологизмы Ходжсона довольно сложны для восприятия. Однако так читатель может быть уверен, что не спутает слово или концепт одной культуры с похожим понятием из другой. В основном вся его работа была сосредоточена вокруг всемирной истории. И по возможности я также следовал заметкам Ходжсона. В тех местах, где он апеллирует к различным типам произношения и различной терминологии, я постарался внести некоторую конкретику. В некоторых случаях Ходжсон меняет традиционную датировку в соответствии с собственной, менее принятой хронологией. В итоге я оставлял даты Ходжсона. Только в Книге VI я позволил себе сделать некоторые уточнения в скобках. Надеюсь, что эта работа соответствует тому, как ее видел Ходжсон.
Все, кто был в какой-то мере знаком с Маршаллом Ходжсоном, не могли не оценить его человеческие и профессиональные качества. Среди известных ученых он казался скромным тружеником. Причастность к квакерской церкви наделила его особыми качествами: с одной стороны, мягкостью характера и, с другой стороны, решительностью в принятии важных решений. Он, возможно, лучше других ученых понимал предметы, о которых писал, в частности Коран и суфизм. Ходжсон вел широкомасштабную работу в Комитете социальных исследований при Университете Чикаго. Практически ни один специалист в узкой области преподавания и изучения ислама не мог соперничать с Ходжсоном.
К сожалению, теперь уже невозможно получить подтверждения моих слов, так как автора нет с нами. С выдержками из данной работы ознакомились ведущие специалисты по исламу со всего мира. Всего несколько листов из его преподавательской и административной деятельности могли полностью составить научное исследование. Однако такая бесценная возможность представилась лишь пару раз. Помощь в этом оказали его друзья и некоторые студенты. Я с огромной благодарностью перечислю поименно коллег и учеников, оказавших посильную помощь: профессор Уильям X. МакНейлл, профессор Мухсин Махди; ценные консультации были получены от Гюстава фон Грюнбаума. Серьезное содействие оказали выпускники Гарольд Роджерс, Мэрилин Робинсон Уолдман, Уильям Оксерворлд и Джордж Чадвик, все они уже ведут собственную научную деятельность. Существует еще немало людей, которым стоит выразить свою благодарность.
Вне всяких сомнений, особой признательности заслуживает уважаемая супруга Маршалла Ходжсона, Филлис, которая в течение нескольких лет часами трудилась над этой книгой. Ее авторитет, как и авторитет Ходжсона, останется для нас непререкаемым.
РУБЕН У. СМИТКолледж КаллисонТихоокеанский университет
Введение в изучение исламской цивилизации
О значении исламских слов, имен и дат
Познать образ мышления людей, отделенных от нас временем и пространством, невозможно, не познакомившись с понятиями и идеями, которые были важны для них и которым нет аналога в наше время. По возможности мы хотим самостоятельно изучать труды, в которых отражены мысли этих людей; в подобных работах (и даже в переводах) особые понятия и категории, которые использует автор, а также личности и места, к которым он обращается, должны передаваться в формах (если перевод серьезный), чуждых естественной английской речи. И не важно, насколько английские источники были адаптированы с целью передать чуждые понятия.
То же самое в некоторой степени относится и к изучению чуждой цивилизации. Серьезный читатель должен быть готов мыслить в новом направлении. Для этого ему придется по возможности впитать в себя как можно больше из целого ряда новых понятий и терминов. В противном случае ему не стоит рассчитывать на серьезный успех в изучении культуры, максимум придется довольствоваться впечатлением от экзотической эксцентричности, романтизма или ощущением неуместности в человеческой действительности. Несмотря на то что исламская культура отражена во многих абсолютно не родственных языках, большая часть терминологии является общей. Например, термины, связанные с религией, а также некоторыми другими областями, обычно заимствуются из арабского языка или в особых случаях из персидского, аналогично на Западе распространились термины из латинского и греческого языков. Так же, как и в случае с христианскими именами, мусульманские имена в большей степени представляют собой определенный перечень имен, который встречается в разных вариациях во всех мусульманских странах. Метод датирования событий или озаглавливания писем также является неизменным, и, конечно, следует помнить об использовании арабской письменности. Очень важно ориентироваться в этих реалиях настолько легко, насколько это возможно.
Ситуацию осложняет тот факт, что во многих случаях авторы так же, как и переводчики, очень непоследовательны в передаче исламских имен и понятий. Читатель может увидеть один и тот же термин в совершенно разных вариантах. В некоторых разделах в данном Введении приводятся способы, помогающие разобраться в сложившейся путанице. Так, для различных исламизированных языков выделены транслитерации с вариациями, если читатель переходит с одной системы на другую, обращаясь к разным авторам. Мусульманские имена сгруппированы по общим типам, чтобы выделить их отдельно; более того, даются объяснения к мусульманскому календарю; приводятся небольшие эссе, посвященные проблемам изучения цивилизации; дается краткое объяснение наиболее часто встречающимся терминам. Опуская некоторые детали, я считаю необходимым отдельно выделить причины использования точной транслитерации. Также я предлагаю рассмотреть, как эти системы действуют в данной работе и помогают установить правильное произношение.
Зачем нужна транслитерация
Транслитерация — это передача написания слова с одного языка на другой. В данном случае с «арабского» алфавита, используемого в языках исламской культуры, на «латинский» алфавит английского языка. Транскрипция — это передача звучания слова, чтобы носитель другого языка мог произнести его. В идеале транслитерация должна по возможности включать в себя транскрипцию. Если письменный язык оригинального языка существенно отличается, то транслитерацию необходимо использовать для передачи имен, которые, естественно, невозможно перевести. И в то же время эти имена должны быть узнаваемы и четко отличаться от схожих слов. Другой случай касается технических терминов. Если они передают концепт, не существующий в другом языке, очень важно отнестись к нему с особым вниманием.
В вопросе, касающемся технических терминов, стоит отметить степень различия между транслитерацией и грубым переводом. У разных авторов существуют свои критерии этой границы. Так, например, если один автор использует транслитерацию слова, другой постарается подобрать более-менее близкий эквивалент из английского языка. Причины могут быть разными: либо в отдельно взятом случае писатель не придает значения точности перевода, либо он надеется выразить значение термина через специализированное слово или группу слов английского языка. Так, концепт, который выражается в исламских языках как , не существует в английском. Если перевести его словом «закон», то мы многое опустим в его значении и в то же время не полностью раскроем смысл понятия «закон». Если же использовать целое выражение (как это обычно рекомендуется) «Священный закон», то оно может ввести читателя в заблуждение вместо того, чтобы разъяснить значение. Термин «Священный закон» в понятии читателя существенно отличается от того явления, с которым он столкнется. В «Истории ислама» этой проблеме уделяется особое внимание. Для точности передачи арабского звучания здесь приводится транслитерация (максимально приближенная к транскрипции). Например, приводится термин Shanah (шариат) и детально объясняется его значение. Подобная операция проводится и с другими важными терминами. Таким образом, слову дается объяснение, при этом оно не связывается с подтекстом ныне существующих английских терминов. Более того, оно безошибочно передает оригинальный термин, в то время как различные переводы нередко вводят внимательного читателя в заблуждение.
Если система транслитерации построена четко и последовательно, она помогает сэкономить немало времени и усилий. К тому же любая система должна быть двусторонней. с)то означает, что, во-первых, оригинальное написание символов (которое является более постоянным, чем произношение) должно с легкостью восстанавливаться из транслитерации. Во-вторых, оно должно быть обратимо в транскрипцию, чтобы читатель при необходимости смог правильно произнести его в устной речи. И, наконец, система должна содержать минимум диакритических знаков, чтобы в случае, когда они опущены, не возникало путаницы. Рекомендуется использовать простые диакритические знаки, принятые в академических кругах и доступные профессиональным наборщикам текста.
Но тем не менее, диакритические знаки необходимы, так как буквы одного языка часто не имеют эквивалента в другом. Так, выбор букв английского алфавита для передачи арабских или персидских символов зачастую довольно условный. Некоторые иностранные буквы, по счастью, можно передать символами английского языка: например, арабская буква по звучанию схожа с английской «т». Существуют буквы, произнесение которых не имеет аналогов в английском. Однако они находятся в той же фонетической категории, что и некоторые английские звуки, как, например, «g» в слове gave соотносится с «с» в слове cave. Иногда мы можем использовать диграфы, как «th» для греческой . Но иногда нам приходится изобретать новый символ, который относительно схож с уже существующей английской буквой, передающей необходимый звук. Например, для арабской мы создаем новую букву Т, так как носитель английского языка воспринимает на слух эту арабскую букву примерно как Т. Стоит заметить, что Т и различаются между собой как G и С (фактически, изначально G даже возникла таким же путем, просто за счет добавления черточки к С). Дополнительная часть, будь то точка или черточка, новой буквы называется диакритической меткой. Нередко ее опускают во время печати (как, например, в некоторых латинских рукописях G и С писались одинаково, как С). Но, строго говоря, диакритическая метка — это не излишнее добавление, а существенная часть новой буквы. Поэтому ее нельзя опускать просто по желанию.
Может показаться, что точная реконструкция первоначального источника важна только для ученых, владеющих языком оригинала[1]. Но фактически она необходима и рядовому читателю. Ему нужно различать, является ли scharia из работы одного автора тем же концептом, что и shareeah, с которым он сталкивается в работе другого автора (в действительности это один концепт). Кроме того, читатель, возможно, захочет разобраться, является ли Hassn и Hasan одним человеком, или это две разных личности. (Hassan и Hasan — это два абсолютно разных имени; однако журналисты, не придерживающиеся определенной системы, обычно пишут оба эти имени как «Hassan».) С другой стороны, даже образованные люди иногда оказываются бессильны, столкнувшись с точной транслитерацией. И неумение плодотворно работать с ней доказывает не то, что человеческое сознание слишком запутанно, а то, что западное образование еще не вполне совершенно. Исправить ситуацию можно только собственным положительным примером ученых и формированием правильных навыков у читателя.
Если бы все авторы использовали единую последовательную систему, то проблема определения транслитерированных имен исчезла бы вовсе. Но так как это невозможно, то будем принимать системы авторов как более-менее точные. В примечании или в предисловии писатель должен пояснить (как это делают ответственные авторы) свою систему. В итоге, опираясь на ссылки к предисловиям из двух работ, читатель сможет понять, является ли написание одного слова эквивалентным другому или нет.
Строго говоря, достаточно, чтобы автор разместил точные формы только в указателе, и, таким образом, ему не нужно оставлять лишние диакритические знаки. Однако в итоге мы лишаемся возможности научить читателя воспринимать правильные формы. Ведь велика вероятность, что читатель не захочет отрываться от чтения и обращаться к указателям в конце книги. Именно поэтому некоторые авторы пишут Czanne, Tbingen, Saint-Sans, Charlotte Bront, faade, Provenal, Potmkin. Персидские и арабские слова тоже стоит писать с диакритическими знаками. Хотя поверхностный читатель не обратит внимания на подобную точность. Тем не менее бывают случаи, когда уже прижившиеся известные имена обрели в английском языке универсальную форму, вполне естественно, что подобные слова не нуждаются в четкой системе транслитерации. Например, англизированные формы слов Cairo (Каир) или Damascus (Дамаск) настолько же однозначны, как Naples (Неаполь) или Quebec (Квебек). Это особенно уместно в тех случаях, когда английский термин употребляется в обычном контексте, а не в узком обсуждении исламского материала. Проще говоря, это те моменты, которые не требуют особых научных познаний. Английское, широко употребляемое название всегда сохраняется, когда речь идет об узнаваемых объектах, существующих по сей день. Например, о великих городах[2]. (В англизированной форме, если слову добавляется английская терминология, диакритические знаки иногда опускаются; это происходит настолько часто, что точное написание уже может передаваться в простой форме.)
Общие вопросы произношения
Транслитерация обусловлена в этой работе наличием четырех языков: арабского, персидского, османского турецкого и урду. Все эти языки изначально основывались на арабском алфавите. Именно поэтому арабская лексика встречается в этой работе наиболее часто. Для придания однородности технические термины (вне зависимости от лингвистического контекста) будут использоваться исключительно в форме, соответствующей языку-оригиналу. Зачастую им является арабский.
Новичок сможет произнести буквы, используемые в транслитерации арабских и персидских слов, если будет следовать нескольким правилам. Гласные произносятся как в итальянском (a=ah, е как в bet, i=ee, o=oh, u=oo), согласные стоит произносить практически как в английском. Долгие гласные (, , ) звучат более протяжно, с некоторым усилением. Более того, нужно неизменно произносить все согласные в слове. При этом s звучит более свистяще, a h читается во всех случаях, даже в таких словах, как Mahdi или Allah (исключение составляют диграфы th, sh, ch, которые читаются так же, как в английском). Подчеркнутые буквы или буквы с точкой можно произносить как обычные, однако стоит отметить про себя, что они являются отличительными знаками. Иначе можно перепутать схожие слова. Звуки aw произносятся как в слове house, dh как th в then, ’(ham zah) и ‘(‘ayn) — это согласные, которые не всегда различимы для слуха носителя английского языка, поэтому их допустимо опускать в произношении.
Аналогичные правила применимы и к другим языкам, за исключением урду (и индо-персидского). В этих языках короткая а произносится, как и в слове but. А сочетание h с согласной не является диграфом, а произносится полностью и с придыханием; в итоге th звучит не как в слове nothing, а примерно как в сочетании at home, a dh как в adnominem. Османские турецкие имена читаются как персидские, исключение предтавляют только и , которые произносятся как в немецком (или французские eu и и). Современный язык Турецкой Республики использует латинский алфавит, который включает несколько букв, рассмотренных выше. В остальном здесь работает общая система: гласные как в итальянском, согласные как в английском. Подобное руководство можно отчасти использовать и для прочтения других иностранных имен.
Для новичка было бы полезным совсем не использовать ударение, а произносить каждый слог с одинаковым усилением (если только он наверняка не знает, что этот слог является ударным).
Некоторые мусульманские имена состоят из двух частей, которые, по существу, неразделимы. Однако многие новички (и журналисты) опускают первую часть, расценивая вторую как фамилию. Это равносильно тому, чтобы изменить фамилию MacArthur (МакАртур) на Arthur («Артур»). К примеру, Ab-Yazd (Абу-Язид) и Yazd (Язид) — это два разных человека так же, как lbn-S‘ad (Ибн-Саад) и S‘ad (Саад), ‘Abd-al-Malik-Абд-аль-Малик) и Mlik (Малик). (Еще большим нарушением, чем сокращение ‘Abd-al-Malik до Malik, является усечение имени до ‘Abd-al-: расценивать формы Abdul, Abul или Ibnul как отдельные имена считается варварством, подобные формы не существуют в оригинальном написании, не говоря уже об их употреблении.) В данной работе подобные составные имена пишутся через дефис. Однако некоторые авторы пишут их по отдельности. Поэтому начинающему исследователю следует мысленно восстанавливать в этих именах дефис, чтобы избежать путаницы.
Транслитерация
В научных работах на английском языке все больше возрастает тенденция к униформизму транслитерации исламских языков, особенно арабского. Хотя даже сейчас многие авторы расходятся во мнениях. В книгах, написанных в прошлом столетии и в начале этого века, представлено огромное разнообразие систем (и в то же время существует недостаток единой системности). Серьезный читатель, ознакомившийся не с одним и не с двумя трудами, должен уметь использовать как вариации старых систем, так и новые[3].
Как уже упоминалось в предыдущем разделе Введения, в транслитерации существуют три практических требования: письменная обратимость, когда оригинальная письменная форма может быть восстановлена из транслитерации; устная узнаваемость — читатель должен следовать руководству по произношению, чтобы слово было узнаваемо в устной речи; и устойчивость — это означает, что изменения слова должны оставаться минимальными, а оно — узнаваемым при опущении диакритических знаков. Для соблюдения всех трех требований нужно создать отдельную систему перевода с каждого языка. Например, в арабском и персидском не просто различается произношение, это два абсолютно разных языка. Следовательно, для них требуются не только различные транскрипции, но и отдельные транслитерации[4]. Некоторые ученые, заинтересованные только в письменной обратимости, постарались создать единую систему транслитерации написании, не говоря уже об их употреблении.) В данной работе подобные составные имена пишутся через дефис. Однако некоторые авторы пишут их по отдельности. Поэтому начинающему исследователю следует мысленно восстанавливать в этих именах дефис, чтобы избежать путаницы. всех языков с использованием латинского шрифта. Но они сталкиваются с той же проблемой. Буквы латинского алфавита по-разному расцениваются в различных языках, например в английском или французском. И хотя ученые могут работать с международной системой транслитерации, простой читатель столкнется с некоторыми трудностями. Поэтому было бы полезно создать раздельные системы транслитерации для самых распространенных языков. По возможности, эти системы должны включать в себя как можно больше элементов транскрипции. Ученые смогут работать с французской или немецкой системой транслитерации так же, как, например, с обычными нововведениями в языках. А у рядового читателя не возникнет трудностей при дальнейшем изучении материала.
Скрупулезный автор создаст общий список букв, которые он использует для транслитерации в соответствии с их порядком в арабском (или персидском и др.) алфавите. Также он может указать ссылку на другие публикации, где есть подобный список. Для корреляции термина из одной работы с термином из другой читателю потребуется вновь найти эти буквы в указанных списках. В зависимости от их позиции читатель сможет сказать, формируют ли они тот же самый термин или другой. В приведенных ниже таблицах используется этот регулярный порядок. Там же указаны наиболее предпочтительные транслитерации и добавлены некоторые альтернативы.
Транслитерация с арабского языка
Транслитерация, обозначенная в таблице как «Английский», обычно используется в англоязычных научных публикациях[5]. В эту систему включены несколько диграфов (например, th или sh). В некоторых публикациях эти диграфы объединяются чертой, проведенной под парой. В редких случаях, когда пара не образует диграф, эти знаки стараются разделить, например, апострофом[6]. (Так, символами t’h будет означаться произношение, аналогичное at home.) Наиболее серьезные отклонения от этих букв можно найти в английских научных работах. Некоторые пуристы, выражая свою неприязнь к диграфам, заменяют их «международными» буквами, широко распространенными в Европе. В Энциклопедии ислама, переведенной на несколько языков, представлено сочетание двух «английских» вариантов j и q. В ранних работах и в журналистской практике существует бесчисленное множество вариантов транслитерации. Очень часто даже в английских работах они опираются на французские фонетические модели. Научная система других западных языков довольно схожа с английской, исключение составляет только вариативность диграфов. Так, например, английский sh во французском обозначается как ch, а в немецком как sch; или английский j во французском будет dj, а в немецком dsch.
Помимо неизменяемых согласных, присутствующих в арабской письменности, и гласных, стоит упомянуть и другие особенности арабского правописания. Здесь вариативность возникает благодаря природе арабского письма. Обычная форма написания в арабском дает слишком мало информации, необходимой для идентификации термина. Например, при написании опускаются «короткие» гласные, необходимые в любой системе транслитерации. Более того, транслитерация с тщательной транскрипцией может смутить обычного читателя некоторыми фактическими элементами слова. Без сомнения, каждая система должна быть компромиссной, но еще важнее подчеркнуть в ней элемент обратимости.
Существует два самых важных пункта научного компромисса. Так, некоторые арабские согласные не включены в алфавит как отдельные единицы. Например, символ h с определенной пометкой может означать t, поэтому иногда его произносят как h, а иногда как t. Подобное происходит только, если он стоит после а в конце слова. В данной работе мы подчеркиваем, что после короткого а идет h, а после долгого а читается t. Многие просто опускают звук после короткого а или лишь отмечают, что если следующее слово начинается с артикля, то следует произносить t[7]. Так, вместо Kfah они пишут Kfa. Второй компромисс связан с вопросом артикля. В определенных случаях арабский артикль al- (ал-) «ассимилируется» с идущим за ним существительным. В результате l (а) исчезает, а первая буква слова удваивается[8]. Авторы, соблюдающие наиболее точные транскрипции, обычно записывают артикль как ar- или as-, перед r или s и т. п., чтобы обеспечить правильное произношение. Другие авторы, и мы следуем именно этой системе, оставляют в артикле l, даже если она не произносится. Веь в случае исчезновения этой буквы новичок может оказаться в затруднительном положении, так как многие из них воспринимают артикль только с l (также эта форма отвечает арабскому написанию, которое библиотекарь должен уметь распознавать). Именно поэтому я пишу (аль-Шафии), а не (аш-Шафии), как это слово произносится.
Также следует перечислить менее значительные детали. Некоторые конечные гласные, записанные в арабском как долгие, но произносимые как краткие, здесь транслитерируются как долгие. Хотя некоторые авторы помечают их как краткие. Что касается конечной a, которая в арабском пишется как y, я предпочитаю обозначать ее . Существуют авторы, которые записывают ее как долгий . Следуя правилам для гласных и согласных, я пишу сочетания iyy- и uww-; другие писатели могут использовать y- и w-. Исключение представляет только окончание, которое по правилам пишется как iyy-. Здесь я употребил . чтобы соответствовать наречиям персидского, турецкого, урду и арабского языка, где эти окончания неизменно присутствуют. Например, я записываю al-Bukhr (аль-Бухарии) вместо al-Bukhriyy (аль-Бухарии). Есть авторы, которые используют просто i; некоторые восстанавливают частичную последовательность, употребляя iy. Хамза (’) в начале слова всегда опускается. Грамматические окончания, опущенные в паузе, всегда понижаются.
Транслитерация с персидского, турецкого и урду
В данной работе я транслитерирую технические термины в единой форме, обычно арабской. Но если оригинальная форма слова является персидской или турецкой, то в форме этих языков. Так, например, в разных языках варьируются имена и названия местностей[9]. У отдельных авторов нередко встречаются изначально арабские термины в персидской или других формах. Бывают случаи, когда эти технические термины возникают в современной романизированной турецкой форме. Например, в таких работах hadth упоминается как hads. Соответственно, читатель может учитывать эти примечания при работе с подобными материалами. В ходе работы он может столкнуться со словами как из арабского, так и из других языков.
Транслитерация других исламизированных языков представляет некоторые трудности. Они недостаточно систематизированы учеными. И в первую очередь это касается персидского языка, из которого (а не напрямую из арабского) турецкий, урду и другие языки заимствовали алфавит. Некоторые исламисты, чаще всего арабисты, обращаются с персидскими словами так, словно они арабские. При этом они добавляют лишь четыре буквы: р, ch, zh, g. (Zh произносится как s в pleasure; ch звучит как в church; те, кто избегают диграфов, используют для этого звука , а для zh употребляют .) И все же в персидском языке очень много слов и имен, заимствованных из арабского. Иногда бывает сложно разобраться, к какому языку отнести контекст слова. В подобной ситуации такая тактика арабистов помогает избежать многих вопросов, и также с точки зрения обратимости алфавита (не принимая во внимание транскрипцию) их система работает довольно хорошо.
Но не стоит забывать, что персидский — это самостоятельный отдельный язык. Его алфавит строится по собственным правилам, и лучше его рассматривать как отдельную систему. Но желательно, чтобы эта система минимально отличалась от арабской. К сожалению, ни одна система идеально не подходит для транслитерации персидского языка, особенно с использованием частичной транскрипции. Приведенный ниже список включает наиболее предпочтительные системы и некоторые альтернативы. (Стандартные формы из арабского языка указаны в круглых скобках.)
В первом ряду представлена самая распространенная система, отличающаяся от вышеупомянутой арабской. Однако она создает определенные трудности при прочтении z (в дополнение к тому, что диакритические метки неудобны при печати, особенно если необходимо подчеркивание), так как характер ее использования значительно отличается от арабской z. Во втором ряду показана более новая система. В ней t и s используются так же, как и в арабском. Так удается избежать конфликта, связанного с z. (Формы, заключенные в скобки, представляют собой альтернативы z.)[10]
В новой системе все диакритические знаки (исключая а, означающий долгий гласный) представляют нефонетические различия. Эти различия указывают на вариативность персидского правописания, а не на произношение. Отсюда вытекает определенная тенденция транслитерации с персидского, в которой игнорируются все нефонетические различия в персидском произношении. В итоге, будучи своего рода транскрипцией, эта транслитерация может игнорировать диакритические знаки в целом. Первый ряд гласных демонстрирует транслитерацию, близкую к арабскому. Во второй строке представлена транслитерация, схожая с транскрипцией. В третьей строке указаны возможные варианты.
В данной работе я следовал новой системе (s, z и т. д.), в соответствии с ней я передавал согласные и выбрал z вместо z. Однако гласные новой системы довольно редко появляются в научных трудах, и для передачи индо-персидского они крайне неуместны. В результате я оставил систему гласных, близкую к арабской (используя также и для индо-персидского), исключение составили лишь соединительные персидские гласные, которые я обозначил e и ye. В целом персидские слова я передаю как арабские заимствования с учетом различия четырех букв (w: v, th: s-, dh: z-, d:). Сочетания из арабского пишутся слитно (при этом артикль ассимилируется), а не через дефис[11].
Все персидские согласные произносятся примерно как английские, невзирая на диакритические знаки (которые не важны для персидского произношения). Однако стоит отметить, что kh и gh произносятся как в арабском, a q обычно звучит как gh (иногда его так же транслитерируют). S — всегда свистящий, g — всегда твердый, как в слове go, zh — как z в azure, w после kh — всегда немая. Гласные произносятся так же, как в арабском языке, за исключением долгого , который звучит примерно как а в all; краткого е, который похож на е в bed; и aw как au в слове bureau. В конечном ah h — немая, а само сочетание звучит как е bed. В некоторых словах передается как , и , . Эти слова до сих пор так произносятся в Индии и соответственно передаются с индо-персидского.
Исконно турецкие имена, а также слова из урду, встречаются в этой работе крайне редко. После республиканской реформы 1928 года современный турецкий язык перешел на латинский алфавит (тюрки Советского Союза используют при письме сочетание латиницы и кириллицы). Практически все согласные произносятся так же, как в английском. Исключение составляют лишь с, который звучит как английский ); 9 похож на ch; слегка приближен к арабскому звуку gh; j схож с французским j (z в слове azure); произносится как английский sh. (S, конечно, более свистящий, a g более твердый). Гласные а, е, i, о, и сходны с итальянским вариантом; , звучат как в немецком (или французские ей и и); i без точки (иногда этот знак помечен кружком или полукругом) — слегка приглушенный гласный, такой же, как в русском языке.
Однако республиканский алфавит не распространяется ни на другие тюркские языки, ни на османский турецкий. В частности причиной является то, что в его характеристике конфликтуют особенности английского языка и система персидского и арабского. В результате за рамками узкого контекста может возникнуть путаница.
Османский турецкий язык использует арабоперсидский алфавит. Здесь в качестве основы для согласных мы можем воспользоваться нашей персидской системой. Однако ее стоит дополнить формой g, которая произносится как п (в оригинальном звучании как ng), в данной работе этот звук передается знаком п. Также q мы заменим к, что позволит избежать многочисленных аналогий с нормами современной латиницы и кириллицы. В зависимости от местности и периода произношение еняется. Поэтому в некоторых словах g произносится как у или , a может звучать как d, и т. п. Конечные взрывные обычно не произносятся. Кроме того, написание тоже варьируется. В подобных случаях разумнее следовать стамбульскому произношению, но не написанию. Довольно часто различие между при транслитерации передается контекстным гласным. В подобных случаях допустимо опускать диакритические знаки. Гласные лучше всего представлены в республиканском латинском алфавите. Здесь арабский aw превращается в ev, а ау становится еу. Хотя три долгих гласных из персидско-арабского продолжают сохранять свои качественные (но не количественные) свойства и могут иметь соответствующие пометки, особой необходимости в этом нет. (Редакторы турецкой версии Encyclopaedia of l slam разработали специальную систему для османского турецкого:
Другие тюркские языки, использующие персидскую письменность, в данной работе при необходимости уподобляются либо османскому турецкому, либо персидскому языку. Отчасти причиной стала трудность воспроизведения имени в его оригинальной турецкой форме.
Транслитерацию с урду (исламский язык в Индии) невозможно рассматривать без учета системы хинди, опирающейся на санскритский алфавит. Но не стоит забывать, что это разные самостоятельные языки. Более того, урду нуждается и в более ранней персидской транслитерации (в которой арабский d заменен на z). В основном урду опирается именно на эту систему. Помимо букв, характерных для персидского, транслитерация урду включает в себя гласные ё и 6, а также пять согласных: четыре «ретрофлексивные» согласные, которые записываются (как и в хинди) t, d, г (все они совершенно отличны от арабских), и знак назализации гласного п (или п, или тильда над гласным). Многие согласные в урду произносятся с придыханием, этим обусловлено появление h. Стоит помнить, что h означает выдох после паузы, а не формирование фрикативного звука. Поэтому th нужно читать как сильную t, аналогично с dh, th, ah, ph, bh, kh, gh, chh, jh, rh. Следовательно, если рассматривать kh и gh как диграфы, то в рамках индийского контекста каждый из них может означать два разных согласных: фрикативный kh и gh в персидском и арабском и kh и gh, произнесенные с придыханием. (Дублирование th и dh не встречается в данном контексте.) Когда диграфы передают фрикативный звук, они могут быть объединены снизу черточкой, соответственно, если они звучат как аспираты, черточка отсутствует. (В хинди английский ch часто записывается как с, а ch с придыханием, который транслитерируется chh, выглядит как ch.)
В ходе данной работы удобнее будет при необходимости транслитерировать урду по той же системе, что и персидский. Однако ее стоит дополнить ретрофлексиями t‘, d‘, r’ (как в Энциклопедии ислама), п (и назальной п). (Также можно отметить фрикативные kh и gh; так различаются одни диграфы от других, так как аспираты kh и gh являются равнозначными диграфами, и их не стоит путать со знаками k’h, g’h, которые обсуждались в разделе об арабской транслитерации.) За исключением ретрофлексий, аспират и назальных звуков, произношение в общем схоже с персидским (звучит как упрощенный английский, диакритические знаки при этом игнорируются). Гласные читаются, как в арабском языке, за некоторыми исключениями: а звучит как и в cut, ау как а в слове bad, aw произносится как awe, как в they, а звучит как в слове over.
Что касается других языков, в данной работе мы редко сталкиваемся с необходимостью их транслитерации. Но при необходимости мы можем осуществить транслитерацию, основываясь на уже рассмотренных системах. Иногда мы можем ссылаться на общепринятое научное соглашение. Например, в таких случаях, когда стандартная романизированная форма уже давно стала устойчивой, или когда транслитерация может быть записана кириллицей. Порой имена и названия ассимилируются со словами одного из четырех приведенных выше языков. В данной работе используется следующая транслитерация этих языков (по причинам, приведенным в тексте и примечаниях):
Если следовать данным системам, то транслитерация с каждого указанного языка будет обратимой (за исключением некоторых элементов турецкого). Более того, не возникнет конфликта с арабским языком (исключение составляют аспираты из урду th, dh). Данная система обеспечивает высокий уровень устной узнаваемости. Также она позволяет избежать многих трудностей при выборе шрифта и наборе текста; при утрате диакритических знаков слова останутся узнаваемыми. Системы, используемые в этой работе, отклоняются от второго издания Encyclopaedia of Islam в следующем:
во всех языках: ah заменяет a, q вместо k (исключение турецкий), j заменяет dj; диграфы не подчеркиваются (исключение урду);
в персидском, урду, турецком языках: s заменяет th, z вместо dh, заменяет d, v заменяет w, ch заменяет , е (уе) вместо i, артикли и сложные слова ассимилируются (uddn и т. д.);
в индо-персидском и урду: , ;
в турецком от арабского: турецкие гласные.
Мусульманские имена собственные
Многие имена собственные, с которыми новичок сталкивается в материалах об исламе, могут показаться слишком длинными, сложными и трудно определяемыми. Это естественное явление для чуждой цивилизации. Единственным средством в борьбе с этими трудностями является продолжительная практика. Тем не менее, читателю следует принять во внимание определенные классы имен, что поможет в некоторой мере идентифицировать их. Для начала, определив для себя общие черты имен, читатель сможет сконцентрироваться на их различиях. Таким образом, ему удастся разобраться в них.
Большинство мусульманских имен носят арабское, персидское или турецкое происхождение. Даже несмотря на то, что во всех этих странах распространен разный язык. Но, конечно, арабский элемент является наиболее существенным. Черты местных языков также, несомненно, присутствуют, например, в Малайзии или Африке. Основной подход к формированию личных имен практически везде одинаковый. Вплоть до современности очень немногие мусульмане имели «семейные» имена. Существовал простой тройной принцип присвоения имени. Первое — это «данное» имя, которое давалось при рождении. Второе — это имя отца. И третье, при необходимости, человек получал описательное имя. Оно могло происходить от названия места его рождения, от рода деятельности или передаваться от предков. Более того, если человек занимал высокое положение, то от правителя он получал дополнительное почетное имя. Вне зависимости от времени или местности человек мог носить только два типа дарованных имен. Например, чисто мусульманское имя, обычно арабское, и имя, указывающее на место рождения; либо простое имя и почетное; или, что было распространено у арабов, кунйа (объясняется далее) и просто имя. Обычно только одно из двух имен становилось часто употребляемым.
Ни одно из этих имен не использовалось для «регистрации», как, например, сейчас можно найти человека по каталогу или в телефонной книге. По самой нераспространенной части имени можно было быстро отыскать человека. Например, предположим, что человека зовут Ахмад, его отца звали Али, и он известен как Зинджани, так как приехал из Зинджана. В любом мусульманском городе живут десятки Ахмадов, и у многих отцов звали Али. Однако из маленького местечка Зинджан приезжает не так уж много народу. Итак, разумнее всего обращаться к человеку (естественно, не для земляков) Зинджани. Иногда у людей было два и более имен, по которым их могли узнать. Возможно, они пользовались ими в разных кругах. Соответственно, новичку лучше всего следовать тому имени, которое по определенным причинам указывает автор. В случае сомнения нужно назвать максимально полную комбинацию имен человека.
Определенные виды имен, в частности арабского происхождения, включают в себя некоторые элементы, образующие неделимую часть. Эти элементы обязательно нужно уметь распознавать. Ал-(аль-) представляет собой опредленный артикль и встречается в подавляющем большинстве имен. Перед определенными согласными л ассимилируется с первым согласным слова и произносится как — р, с, д и т. д. Встречаются имена, которые могут употребляться как с ал-, так и без. Эта часть обычно опускается в указателях. Абу изначально означало «отец кого-то». Однако со временем это слово превратилось в элемент мужского имени: к данной части можно прибавить любое дарованное имя, и новая комбинация будет представлять собой новое единое имя. У древних арабов к личному имени нередко добавляли эпитет или почетное звание, кунйа, например, Абу-Бакр. (В персидском и турецком Абу- иногда превращалось в Бу- или Ба-.) В женских именах Умы- выполняло те же функции, что и Абу в мужском, к примеру, Умм-Култум.
Ибн- означает «сын кого-то» (или бинт, «дочь кого-то»). Арабы часто используют эту вставку между дарованным именем и именем отца, иногда они идут дальше и указывают ее между именами отца и деда, деда и прадеда и далее по родословной линии. Нередко цепочка полного мужского имени бывает очень длинной. «Ибн-А…» порой становится просто семейным именем. В языках, отличных от арабского, и в современных арабских странах ибн обычно не используется. С другой стороны, в персидском место этого элемента может занимать суффикс заде; в тюркских оглы, что тоже формирует семейные имена. Иногда имена меняются в зависимости от местности; как Ибн-Таги = Таги-заде.
Прим.: Такие элементы, как Ибн- или Абу-, а также другие префиксы (и суффиксы), как Абд-, нельзя опускать. В противном случае изменится все имя. В данной работе они будут писаться через дефис[12].
I. Имена пророков.
Многие библейские герои признаны мусульманами как пророки. И их имена, обычно в арабской форме (в дальнейшем преобразованы и в другие языки), являются очень распространенными. (Особые варианты этих имен носят христиане и евреи, живущие в исламских странах.) Примеры подобных имен: Ибрагим=Авраам; Исмаил=Исмаэль; Исхак=Исаак; Якуб=Иаков; Юсуф=Иосиф; Муса= Моисей; Харун=Аарон; Дауд=Давид; Сулейман=Соломон; Йахья=Иоанн; Марьям=Мария; Иса=Иисус. Более того, некоторые пророки, чьи имена являются очень распространенными, не упомянуты в Библии, например, сам Мухаммад.
II. Имена от распространенных арабских корней.
(a) в корне ХМД присутствуют три согласных, которые являются основой слов, главный смысл которых связан с понятием «хвала». Например, Мухаммад, Ахмед, Махмуд, Хамид и т. п.;
(b) слова с корнем ХСН связаны с понятием «благо», например, Мухсин, Хасан, Хусейн, Хассан и т. п.;
(c) слова с корнем СД связаны с понятием «счастье», как Сад, Саид, Мае уд и др.;
(d) корень ЗИД является основой слов, передающих понятие «рост», например, Зайд, Язид и т. д.;
(e) корень ‘МР является основой для слов, связанных с понятием «жизнь», как Амр, ‘Умар и т. п.
VI. Имена, содержащие Абд (’Адб):
Слово абд означает «раб кого-то». Будучи префиксом к эпитетам Господа, оно формирует неделимые цельные имена. Так, например, Аод аль Кадир означает «Раб Всевышнего». (Соответственно, такие имена нельзя разбивать, как это нередко происходит в прессе.) Другие распространенные имена подобного типа: Аод ар Рахман и Абд Аллах.
Другие слова, означающие «раб», используются таким же способом: превращаются в префикс Мамлюк- и Голам- или в суффикс — банде и — голи. Обычно они прикрепляются к имени Господа, Пророка или имама.
VII. Имена, содержащие Аллах:
Эти имена строятся по тому же принципу, что и предыдущая группа. Они заканчиваются на Аллах (или другие божественные имена) и включают в себя различные первые элементы (или иногда суффиксы); например, Хамд-Аллах означает «Хвала Богу». Иногда подобные составные имена формируются из имен пророков: Нур-Мухаммад, «Свет Мухаммада».
VIII. Имена, содержащие ад-дин (al-din), ад-даулях (al-dawlah), аль-мульк (almulk):
Раньше эти слова передавали титулы, но со временем просто стали частью имен. Например, ад-дин (или еддин) означало «от религии»: то есть Кутб-ад-дин, «Столп религии»; ад-даулях (или ед-дауля) означало «от династии»: Муизз-ад-даулях, «Оплот династии»; аль-мульк означало «от царства»: так, Низам-аль-Мульк, «Добрая воля царства». Прим.: Каждый из этих трех постфиксов иногда может опускаться, при этом имя не искажается и остается узнаваемым.
IX. Имена, содержащие му- (Ми-):
Большинство арабских причастий начинаются на М, в частности на Му. Между тем от причастий образовывалось множество имен, означавших почетные звания. По этому принципу создавались многие царские имена, например, халифов династии Аббасидов: Мансур, Мамун, Мутасим, Мутаваккил, Мутадид, Мустансир. Довольно часто имена начинаются с Мут- или Муст-, эти элементы формируют причастия от целой группы глаголов.
Для того чтобы выделить подобные имена в отдельный класс, следует обращать внимание на буквы, идущие после формообразующего сочетания му-.
X. Имена, содержащие и:
Это естественный элемент терминологии в исламских языках. Он передает понятие родства или происхождения. Например, человек из городка Шираз будет Ширази, из Индии (Хинд) — Хинди. Более того, если человек является чьим-то протеже, например, некоего Саада, то его будут звать Саади; потомок Утмана будет Утмини; а член племени Кинда будет ал-Кинди. (Турецким эквивалентом являются окончания ли или лии (-1х), лу или лю.)
Также существует множество распространенных имен, которые непросто определить с первого взгляда. Они могут быть арабского происхождения (мужские: Али, Джафар, Хабиб, Хамза, Салих; женские: Фатима, Зейнаб, и т. д.), персидского (Фируз, Бахрам и т. д.), турецкого (Арслан, Тимур и т. д.) и из других языков.
Иногда разные звания могут составлять части одного имени личного. Например, в имени Малик-шах малик означает «царь» на арабском, а шах — на персидском. Титулы или их элементы могут полностью заменять имя, а могут быть неразрывны с ним. К таким титулам относятся мир (амир), бег, хан, мирза, шайх, шах, ага и т. д. Некоторые из этих званий обладают особым значением: шах в качестве префикса означает «святой», а в качестве суффикса «царь»; мирза в виде префикса означает «господин», а в виде суффикса «принц»; сайид или шариф употребляется по отношению к потомкам Мухаммада; хадж или хаджи — для тех, кто совершил паломничество, причем не обязательно в Мекку.
Порой в разных языках одни и те же имена изменяются до неузнаваемости: так Мухаммад становится Мехмедом (или Мехметом) в турецком или Махмаду в Западной Африке. В Российской империи мусульмане нередко сами заменяли и, оглы, заде на ев и ов; или прибавляли русское окончание к полному имени. Индийские мусульмане часто англизировали свои имена, подстраивая их к нормам английского произношения, например, Syed для Sayyid, Saeed для Sa’d. В более общем смысле звуки менялись следующим образом: ау=у, =ее, =oo, короткий а превращался в и. Во французских колониях мусульмане также меняли звучание своих имен: s=ss, =ou, g=gu и т. д.
Исламский календарь
Эра представляет собой совокупность лет, начиная с первого года летоисчисления. Так, первый год христианской эры датируется с предположительного дня рождения Христа. Первый год исламской эры ознаменовала Хиджра (х.), то есть тот момент, когда Мухаммад переселился из Мекки в Медину и основал мусульманскую общину. Этот год относится ко второй половине 622 — первой половине 623 года христианской, или нашей эры (н. э.)
В отличие от классического летоисчисления исламский «год» является не совсем солнечным, то есть не составляет полный сезонный цикл. Мусульманский год считается «лунным», он состоит из двенадцати «истинных месяцев», другими словами, из двенадцати периодов от новолуния до новолуния. И так как истинный месяц длится только 29 или 30 дней, то и лунный год оказывается короче солнечного примерно на одиннадцать дней. Большинство лунных календарей, в которые включены истинные месяцы, соотносятся с солнечным календарем. Примерно каждые три года к нему прибавляют несколько дополнительных дней. Следуя запрету Корана, числа исламского «года» не имеют конкретной связи с сезонами. Например, некий праздник может проходить летом, потом сместиться к весне, затем к зиме, потом к осени и снова к лету, за всю жизнь можно проследить примерно три таких цикла. Наравне с исламским календарем, который не пользовался в ритуальных и исторических целях, существовал «светский» календарь. Он основывался на солнечном летоисчислении и использовался в финансовой и других практических сферах. Существовало бесчисленное множество исламских светских календарей, однако они не пользовались особым авторитетом. Только некоторые из них считались систематически организованными и долго служили в исторических целях. До недавнего времени, пока не появился международный григорианский календарь, ни одно солнечное летоисчисление не могло составить конкуренцию исламскому лунному календарю.
Исламская эра даже приблизительно не соответствует солнечным годам. Невозможно, как в случае с другими летоисчислениями, просто добавить к исламской дате разницу в годах между ключевыми датами (622) и сопоставить ее с христианской эрой. Конечно, если под рукой нет сравнительной таблицы, то этим методом можно воспользоваться и получить примерную дату с диапазоном в пару лет. Исламские «годы», как мы уже говорили, короче, и, следовательно, исламский век заканчивается примерно на три года раньше, чем солнечный. В итоге на каждую сотню лет в исламской датировке приходится отставание на три года. Например, первый год Хиджра отличается от христианской даты (622 н. э.) на шесть веков и 21 год. Исламский 100-й год отличается от христианского на шесть веков и 18 лет (100+618=718 христианский год). В 200-м году разница составила шесть веков и 15 лет (815 г. н. э.). Следовательно, к 700-му году разница составляет ровно шесть веков — 1300-й христианский год.
С этого периода разницу в датах рассчитывают следующим образом: шесть веков минус определенное количество лет. Итак, приблизительную христианскую дату можно получить, добавив к исламской 600 лет плюс по три года за каждый век до 700 года по исламскому летоисчислению (х.) или минус три года за каждый век после 700 по исламскому летоисчислению (х.).
При более точном арифметическом расчете необходимую дату можно установить по следующей формуле Г = х — х/33 + 622 (Г= григорианская дата, х= дата Хиджра)[13]. И, наоборот, исламскую дату, исходя из григорианского календаря, можно получить так: х = Г — 622 + (Г-622)/32. Однако следует помнить, что эти формулы позволяют установить только тот год, с которого начинается необходимый период из соответствующего календаря. Если нам нужно найти дату во второй половине года, то, возможно, в другом календаре она попадет уже на следующий год.
Месяцы в исламском году по традиции определялись фазами луны. Следовательно, в месяце может быть разное количество дней. Оно меняется как каждый год, так и в течение одного года в зависимости от места наблюдения. Кроме того, неопределенность дня недели также затрудняет точное датирование (поскольку исламский календарь оперирует семидневной неделей так же, как и месяцем). Чтобы сделать календарь более предсказуемым, используются разные математические средства, например, чередование дней в месяце: тридцать, двадцать девять, тридцать и добавление «високосных годов» в соответствии с различными системами. Месяца идут в следующем порядке: Мухаррам, Сафар, Раби I, Раби II, Джумаада I, Джумаада II, Раджао, Шабан, Рамадан, Шавваль, Зуль-када, Зуль-хиджжа.
Так как месяц начинался вечером с приходом новолуния, то день должен был начаться на закате.
Более того, существуют названия и для солнечного исламского календаря (эквивалентные григорианским), самые распространенные из них следующие,
для арабов:
Нисан — Апрель, Иййар — Май, Хузайран — Июнь, Таммуз — Июль, Аб — Август, Айлюль — Сентябрь, Тишрин аль-авваль — Октябрь, Тишрин аль-сани — Ноябрь, Канун аль-авваль — Декабрь, Канун аль-та-ани — Январь, Шубат — Февраль, Азар — Март;
для персов:
Фарвардин — Март-Апрель, Урди-бихишт — Апрель-Май, Хурдад — Май-Июнь, Тир — Июнь-Июль, Мурдад — Июль-Август, Шахривар или Шахрир — Август-Сентябрь, Михр — Сентябрь-Октябрь, Абан — Октябрь-Ноябрь, Азар — Ноябрь-Декабрь, Дей — Декабрь-Январь, Бахман — Январь-Февраль, Исфанд — Февраль-Март.
Исторический метод в изучении цивилизации
Исторический гуманизм
Если ученый не желает основываться (то есть ставить вопросы и приходить к определенным выводам) на случайностях, то он должен обоснованно выбрать метод исследования. Таким образом он докажет свою точку зрения. Подобное обоснованное доказательство поможет ему как ученому отстоять свои позиции. Если бы для данных вопросов существовало единое мнение, удовлетворяющее конкретного ученого, то можно было бы не уделять им столько внимания. Но, к счастью, современная наука предлагает нам множество разных вариантов изучения истории в целом и исламской цивилизации в частности.
Исторические исследования принято считать «идеографическими», так как они основаны на данных об определенных местностях и датах. К подобному типу относят некоторые стадии геологических и астрономических исследований. Противоположным типом исследований являются «номотетические» науки, например физика или химия. Датировка не оказывает на них основополагающего влияния. Однако эти различия обладают особой ценностью, только если принимать во внимание определенные понятия, о которых иногда забывают. Во-первых, датируются ли предметы стоящих перед нами вопросов. Сами вопросы (как и следует в сложной общественной дисциплине) должны обладать бесконечным значением для человечества. Иногда поиск ответа становится манипулирующей силой, но этот процесс всегда ведет к пониманию важных для человечества явлений[14]. Более того, в идеале дисциплина не должна делиться по категориям изучаемых предметов или по методам исследования и уж тем более по форме полученных результатов. Хотя эмпирически подобные результаты могут быть полезны в качестве указателей, особенно в интерпретации тех сфер, которые возникли из исторической случайности. В идеале дисциплина должна формироваться до тех пор, пока не будет представлять собой ряд взаимосвязанных вопросов. По крайней мере в перспективе данные вопросы стоит обсуждать с относительной автономностью от других. Подобная дисциплина не требует немедленных ответов, в какой форме надо ставить вопросы, или какой метод решения будет наиболее эффективным. С этой точки зрения, если существует область исторических исследований (как я полагаю), а не просто группа из нескольких областей, мы можем представить целый ряд вопросов о человеческом культурном развитии. И здесь мы не можем проигнорировать необходимость вневременных обобщений, например, о том, к чему приведут культурные изменения. Эти обобщения вытекают из различных дисциплин и являются важным элементом в изучении человеческой культуры. Они поднимают вневременной аспект точно датированных событий.
Разобравшись в этом вопросе, можно утверждать, что историческая наука является преимущественно «идеографической» в том смысле, что даже самые широкие обобщения все равно связаны с некой датой. С подобной точки зрения естественные науки и даже социальные исследования человеческой культуры отличаются от истории, они нацелены на усовершенствование анализа данного общества вне зависимости от времени. Более того, при любом раскладе исторические вопросы связаны исключительно с датой и местом события. И когда в пределах исторического контекста поднимается (как положено) вопрос, не поддающийся датировке, он все равно служит для уточнения сведений, которые, в свою очередь, датированы и определены в пространстве. Конкретные события — это не просто примеры и не просто сырой материал для вневременных обобщений.
Однако я заинтересован в более глубоком исследовании. Даже если всеобщее внимание сосредоточено на времени и месте, в рамках ряда вопросов о культуре и ее непрерывности во времени можно выделить аспекты, не связанные исключительно с датировкой. Решение этой задачи и является целью данного исследования. Нам предстоит узнать, какой тип получения информации будет вторичным, а какой поможет ответить на основные вопросы. На этой основе мы можем выделить два типа историков — занимающихся обобщениями и изучающих исключения. На практике их различие определяется следующим: вторые занимаются всем, чем заинтересованы или должны быть заинтересованы первые; а первые, вопреки своим принципам, исследует те аспекты, которые, по их мнению, должны касаться только вторых. Как бы то ни было, обе точки зрения помогают определить разделы и категории в определении области исследований. Я убежден, что при изучении цивилизаций до начала эпохи Нового времени, когда перед нами встают наиболее важные общечеловеческие вопросы, нельзя опускать более содержательное представление, создаваемое историками второго типа. Именно на этом принципе я строил данную работу.
Некоторые историки, принадлежащие к первому типу, прежде всего стараются четко сформулировать выбранную ими часть общей культурной сферы, как того требуют исследования взаимодействий событий. Они склонны структурировать окружающую среду во времени и пространстве (задаваясь вопросом, как возникло настоящее положение вещей) так же, как астрономы упорядочивают время и пространство в соответствии с Солнечной системой. Со стороны может показаться, что их работа строится исключительно на вневременных аспектах культурных изменений и не связана ни с датами и ни с местоположением (исключение составляют лишь определенный промежуток времени и место, подразумеваемые человеческой культурой). Если серьезно подходить к вопросу, то данным историкам в первую очередь стоит обратить внимание на типичные черты и лишь затем на исключения. Только так можно выделить типичные обобщения. Изучая любой предмет, будь то государство, роман или секта, они в первую очередь рассматривают этот объект как тип или по крайней мере как общую политическую, эстетическую или религиозную модель. Это может быть модель определенного времени, но предпочтительнее, чтобы она была вневременной.
С другой стороны, с так называемой гуманистической точки зрения, изучение типического позволяет нам лучше оценить исключительные аспекты, увидеть, в чем заключается их исключительность. Нам нужно ознакомиться с реалиями, типичными для определенного периода, например, с работами художников или заявлениями выдающихся политиков. Таким образом, мы сможем понять, какую нишу занимают выдающиеся аспекты[15]. В целом мы изучаем исламский мир как великое сложное историческое событие, а также как совокупность менее серьезных событий. При этом они являются примером не чего-то общего, а чего-то неизменного и неповторимого, что и придает им особую ценность. Впоследствии мы можем сосредоточиться как на великих поражениях, так и на великих успехах, как на моральном значении действия, так и на непосредственном результате.
Поскольку выдающиеся события происходили в контексте человечества в целом, а не только для частных групп и лиц, то подобное рассмотрение остается законным общественным исследованием, а не частным антикварианизмом. Все события проходят через этот тест в тот момент, когда меняют контекст повседневной человеческой жизни. Ведь в конечном счете ни один регион или период человеческой жизни не был настолько изолирован, чтобы не оказывать на нас воздействие. На этой стадии цели историков первого и второго типа сходятся. Однако историк, изучающий исключения, готов продолжить рассмотрение дальше.
Исключительным значением обладают не только те события, которые могут изменить естественный или социокультурный контекст. Поскольку среди людей, кроме физической конфронтации в определенный момент, существует еще моральная или духовная солидарность. Судьба каждого народа независимо от внешних последствий имеет отношение ко всему человечеству. Затем, что вероятно важнее всего, события и действия, изменившие моральный контекст человеческой жизни, приобретают колоссальное значение. Они устанавливают непоколебимые стандарты и нормы, определяют наши цели и моральные принципы, которые люди не смеют игнорировать. Увековечивая память великих деяний греков и персов, Геродот писал в своей «Истории»: «Это неповторимые деяния, достойные нашего безграничного уважения. Эти поступки нельзя сымитировать, но им можно подражать и в определенной степени даже превзойти. Однако даже теперь мы не посмеем назвать человека, равного по величию прежним героям. Один раз узнав об их подвигах, мир уже не будет прежним. И причина не в том, что они могу сказать нам, какие мы, статистически рассказать о потенциальных возможностях человека; причина в том, что мы осознаем, кто мы, что нам, людям, нужно, что вызовет у нас восхищение и слезы».
В данный момент мы говорим о событиях и действиях, формирующих культурные институты на уровне общественности. Мы имеем дело с людьми, точнее с группами людей, которые занимают в культуре относительно автономную позицию. Чисто индивидуальные действия обладают теми же качествами, но их нужно рассматривать на совершенно другом уровне. Так, исследователь, изучающий эти действия, является скорее биографом, чем историком. Идеалы и ожидания людей, а также особые индивидуальные видения крайне важны в «исключающей» перспективе. Поскольку, когда в повседневной модели складываются исключительные обстоятельства и необходимо создать нечто новое, они становятся основной движущей силой творчества. Таким образом, предполагаемый историк, занимающийся обобщениями, оказывается втянут в вопросы, связанные с изучением исключений.
Если историк, исследующий исключения, серьезно подходит к вопросу — мы не рассматриваем сомнительных ученых-сказочников, — то ему необходимо разбираться в «соционаучном» предмете, который изучают «обобщающие» историки. Хотя, конечно, получается оперировать только тем мировоззрением и идеалами, которые предоставлены нам далеко не совершенными человеческими интересами (материальными или воображаемыми). В конечном счете ответы на исторический вопрос «почему?» нужно искать (и обычно в форме «как сработал этот механизм?») в человеческой природе и культурной экологии. Эти обстоятельства определяют, что впоследствии можно считать индивидуальными «случайностями», которые, формируя историю, не просто сменяют друг друга, а разрастаются и создают единое сложное течение[16]. Несмотря на то что человек — существо иррациональное, в целом иррациональные действия чаще всего оказываются случайностью. Только рациональный расчет объединяет группы людей и подталкивает к дальнейшему усилению и развитию. Причем даже когда расчет строится на неверных предположениях[17]. Следовательно, групповые интересы обладают способами самоутверждения. В конечном счете интересы группы в основном базируются на экологических обстоятельствах и, в частности, на взаимосвязанном развитии культурных ресурсов. Это развитие обусловлено внутренней нестабильностью культурных традиций, и в дальнейшем, вероятно, потребуются новые изменения.
Однако подобные экологические обстоятельства просто устанавливают границы возможного. В пределах этих границ личное мировоззрение получает хороший шанс. Когда привычный, повседневный образ мышления уже не действует, всегда появляется человек с богатым воображением, который может предложить новую альтернативу. При подобном стечении обстоятельств в игру вступает заинтересованное сознание. Однако оно может как провалить задачу так и удачно справиться с ней. Но в любом случае это мировоззрение является гуманистической составляющей человеческой истории.
Соответственно, историк-гуманист должен заинтересоваться обязательствами человечества и тем, как они выполняются, в результате нормы и идеалы станут для него очевидны. Кроме того, ему следует обратить внимание на взаимоотношения и диалоги, в которых выражены данные обязательства. Следовательно, для историка, занимающегося исключениями и придерживающегося подобной тенденции, исламский мир представляется как моральный и гуманистический комплекс уникальных и неповторимых традиций. Однако уже не важно, «привело» ли подобное видение к каким-либо ощутимым результатам в наше время. Что действительно важно для нас, так это качество превосходства — живая реакция и неизменная составляющая человеческой деятельности. И пусть в определении культурной взаимосвязи во времени и пространстве и формировании современного мира это качество сыграло не настолько важную роль, как нам казалось. Но оно все равно требует нашего человеческого уважения и признания.
О научных предубеждениях
Ввиду большого значения личного отношения и лояльности в исторических исследованиях, ориентация историка играет здесь гораздо большую роль, чем в других научных дисциплинах, и эта роль облегчает исследование исламского мира.
При исторической оценке событий нельзя игнорировать основные интересы изыскателя. Особенно этот фактор важен при академических исследованиях на высшем уровне, когда поднимается вопрос, какое место занимает человек в культурных традициях: религиозных, творческих и даже государственных. Хотя порой присутствие этого фактора необязательно: ведь рассмотренный выше вопрос возникает, только если мы глубоко по-человечески заинтересованы. Изыскания многих сухих специалистов заключаются в обсуждении глобальных проблем и поиске тех или иных неточностей, которые допустил гуманистически заинтересованный великий исследователь. Эти изыскания нередко вносят ясность в вопрос, но в них упущен самый главный момент. Предубеждение может заставить рассеянного, а порой и внимательного ученого составить для себя необъективное мнение. Необъективность выражается в вопросах, которые он ставит, и выбираемых им категориях. Причем обнаружить эту необъективность крайне сложно, поскольку она скрывается порой в нейтральных и невинных терминах. Тем не менее, можно предотвратить появление подобных предвзятых суждений, вызванных гипертрофированной приверженностью. Это решение не избавит нас от всех последствий предубеждений, но поможет обойти их ловушки и извлечь выгоду из подобного глубинного подхода к вопросам.
У многих действительно серьезных ученых чувство приверженности нередко болезненно обострено. И чем сильнее они вникают в суть, чем глубже стараются укорениться в одну из культурных традиций, тем больше становятся их предубеждения. Фактически многие из описанных традиций предстают перед нами только в соответствии с мировоззрением великих исследователей исламского мира. При этом эти ученые сделали все, чтобы поместить проблемы в рамки, в которых работали другие исламисты. Я могу перечислить пять подобных традиций, три старые и две новые. Христианская традиция, не важно, католическая или протестантская, явилась основополагающей для западных ученых. В то время как иудейская — для всех остальных. С недавних пор среди ученых появляется все больше приверженцев исламской традиции как шариатского, так и суфийского толка, они, несомненно, вносят свой вклад в данную научную сферу. Подводные камни, которые ждут ученых, приверженных той или иной традиции, очевидны по крайней мере для представителей конкурирующего направления. Нет гарантии, что мусульмане смогут найти внутренний баланс, или что немусульмане смогут составить объективное мнение. Наравне с данными старыми традициями существуют новые исследователи, марксисты и западники. Их ошибка заключается в преследовании исламских или христианских приверженностей. «Западниками» я называю тех последователей западной культуры, которые убеждены в ее уникальности и превосходстве, а также в том, что она является воплощением идеалов свободы и правды. В некоторой степени они разделяют христианский взгляд на ислам, поскольку христианская традиция явилась основой западной культуры. Хотя на более личном уровне западники отрицают понятие преданности христианству. Не все исламоведы подвержены влиянию этих направлений. Хотя это не означает, что их мнение будет абсолютно независимым и объективным. Обычно подобные альтернативные взгляды страдают от ограниченности мировоззрения и узости понимания. Более того, неосознанно эти ученые тоже оказываются подвержены влиянию скрытых, а значит непроанализированных предубеждений. И к ним стоит относиться с еще большим вниманием.
Соответственно, проблема, как изучать ислам, не уходя в сторону предубеждений или традиций, особенно к христианской приверженности, интересует практически всех, за исключением лишь нескольких религиозных ученых. Этот вопрос ключевой для всей науки. Жан-Жак Ваарденбург (Jean-Jacques Waardenburg, in «L’Islam dans le miroir de l’Occident: comment quelques orientalistes occidentaux se sont penches sur l’Islam et se sont forms une i de cette religion» (The Hague, 1963)) продемонстрировал, как в работах исламистов Игнаца Гольдциера (Ignaz Goldziher), Кристиана Снук Ургронджа (Christiaan Snouck Hurgronje), Карла Бекера (Carl Becker), Дункана МакДональда (Duncan MacDonald) и Льюиса Мэссинона (Louis Massignon) глубоко укоренились приверженности самих авторов (хотя он не использовал концепт «западник»). Культурная приверженность ученого играет важнейшую роль в его работе. Кто-то может подумать, что в рамках одной традиции нельзя объективно изучать другую, это не так. В конечном счете понятие объективности и истины очень личное. Порой при позитивном настрое проще понять противоположную культурную или религиозную традицию, чем при негативном принять чужую истину, даже если вы исповедуете один культ и следуете одному кредо. Прежде всего мы живые люди и только во вторую очередь — последователи некой традиции. Тем не менее, не только научная культурная среда, но и личные привязанности заставляют великих ученых так или иначе расставлять критерии в своих исследованиях. Только осознав и тщательно продумав границы своих приверженностей, а также определив свои возможности за пределами привязанностей, мы сможем надеяться на свою человечность. И в итоге сумеем оценить чужие культурные традиции, а в некоторых случаях и свои.
Когда мы сравниваем исламский и западный мир, в частности христианство и ислам, подобное понимание является ключевым для нас. Одно время среди христиан, желающих постичь духовную ценность ислама, существовала тенденция принимать его в качестве усеченной версии христианства. По их мнению, любую исламскую истину можно найти в христианстве, но христианство пошло дальше в увенчании истинной правды, а мусульмане отклонились от нее. Соответственно, мусульмане исторически видели в христианстве сокращенный или даже извращенный вариант ислама. Однако подобное сравнение, по крайней мере на первый взгляд, не обосновывает исторические цели. Этот подход едва ли понятен даже тем христианам и мусульманам, которые придерживаются подобной точки зрения. Что говорить о мыслящих, чувствительных и прямолинейных личностях, которые понимают обе религии.
В действительности, в чутких руках подобный подход может принести свои плоды. Так, в статьях Льюиса Мэссинона можно обнаружить намек на довольно интересную христианскую интерпретацию ислама (Louis Massignon, «Salmn Pk et les prmices spirituelles de llslam iranien», Societe des Etudes Iraniennes, vol. 7 (1934) и несколько статей о Семерых Спящих). Он полагал, что исламске сообщество находится в духовном изгнании, что оно скрыто от божественного присутствия. Именно из-за этого изгнания им нужен особый свидетель, который принесет истину. (Джулио Басетти-Сани (Giulio Basetti-Sani, «Mohammed et Saint Francois» (Commissariat de Terre-Sainte, Ottawa, 1959) в своей прекрасной, поучительной, но не совсем научной книге частично развил идею Мэссинона, чем оказал огромную услугу современной мифологии.) Эрик Бетман (Eric Bethmann «Bridge to Islam») и Кеннет Крэгг (Kenneth Cregg) предложили менее поэтичный, но вполне изящный подход к исламу в христианских терминах. Но все же остается неоспоримый факт, что итоговые суждения, основанные на подобных подходах, вызывают некоторое подозрение. Серьезное всестороннее исследование любой религиозной традиции может занять не одну жизнь. Более того, мало кто может рассмотреть проблему с двух позиций одновременно. Считается, что многие мыслящие личности не видят истины так, как ее видит апологет. Однако вышесказанное доказывает, что и апологет глубоко заблуждается, если считает себя вправе судить чужую традицию. Огромный скептицизм вызывает исламское понятие о недостойности христианства и наоборот, даже если эта идея элегантно оформлена.
Для желающих найти истину в чужой традиции предлагаются уже готовые альтернативы, однако и они в равной степени неудовлетворительны для сравнения. Можно обратиться к синкретической ассимиляции, как если бы в двух традициях идентифицировались два поверхностно схожих элемента. Но это непременно связано с фальсификацией одной или даже двух традиций, если только не признавать подлинность за исключительную историческую приверженность. Например, в обеих традициях существуют требования к поведению в соответствии с божественным откровением, а не с обычаями людей. И на обширных территориях, по крайней мере, моральные нормы, отвечающие этим откровениям, схожи в обеих традициях. И все же для христиан откровение заключается в ответе на искупительную любовь, которая сопоставлена с божественным присутствием в человеческой жизни и сакраментальным общением, вот ее источник. Для мусульман откровение заключается в ответе на моральный призыв, который соотносится с божественным посланием, переданным избранному сообществу. Эти два понятия откровения не только контрастируют, они категорически исключают друг друга. И все же абстрагироваться от них означает отказаться от христианских и мусульманских нравственных требований в пользу людских обычаев.
Чтобы избежать сверхъявной идентификации синкретизма, можно постараться свести обе традиции к некоему минимальному общему знаменателю — к бесформенному мистицизму или неопределенной доброжелательности человечества. Однако на практике это означает, что мы обращаемся к престижу великих традиций исключительно с частной и индивидуальной позиции, потому что только так можно возвыситься над бессильной банальностью.
Обе эти традиции стоит признать несовместимыми по уровню запросов. Исключение составляет только некий действительно более высокий синтез, который, по-видимому, еще не доступен нашему сознанию. И мы должны принять это чувство напряжения между двумя традициями и не стараться интерпретировать одну из них через призму другой. В некоторой степени этот анализ можно дополнить сравнением двух структур, рассмотреть, какие типы элементов вторичны, а какие стоит выделить. При подобном восприятии и люди, принадлежащие к определенной традиции, и те, кто не привержен ни к одной из них, по-человечески инстинктивно ощущают, что можно ставить на карту в определенный момент, а что нет. Однако это станет возможным только тогда, когда избранные элементы получат независимую оценку. В лучшем случае это только приблизительный идеал. Следовательно, даже самое точное сравнение не может гарантировать нам объективное мнение, чтобы окончательно рассудить традиции. Но все же благодаря этому сравнению мы лучше поймем сильные и слабые стороны ислама в определенных исторических условиях.
Более подробно тему несовместимости двух традиций я изложил в работе «Сравнение ислама и христианства как основ религиозной жизни» (A comparison of Islam and Christianity as Frameworks for Religious Life). Однако там мне не удалось наглядно показать то, что я считаю основой сравнения двух религиозных традиций — напряженный рост через непрерывный диалог. (Эта статья была опубликована в Diogenes в 1960 г. Но она вышла в свет в таком искаженном виде, что ее нельзя рекомендовать для прочтения. Новое издание {Chicago Committee on Southern Asian Studies, reprint № 10) этой статьи содержит более полный материал и список опечаток, допущенных в тексте.)
Об определении цивилизаций
Исследование цивилизаций — это учение о великом культурном наследии (которое преимущественно относится к эпохе до начала Нового времени). То, что мы называем «цивилизацией», является первичной единицей этих исследований. Хотя спецификация таких единиц только частично определяется хронологией. В частности, они зависят от целей исследователя.
С тех пор как общество стало представлять собой сложный комплекс, каждый народ, даже каждая группа населения, которую можно назвать народом, обладает культурным самоопределением. В то же время даже самые многочисленные народы никогда не были полностью самостоятельными. Даже культурные модели, принятые определенной крупной группой людей, имеют связи с отдаленными народами. Общественные группы интегрировались и перемещались по всему Старому Свету еще задолго до ислама. Если мы постараемся упорядочить общества в соответствии с их культурным состоянием, наличием достижений, институтов, технологий, то мы обнаружим интересный факт — границы между всеми цивилизованными сообществами до начала Нового времени имеют значение, а границы между регионами Старого Света — нет. Тому существует явное доказательство, основанное на культурных технологиях и ресурсах этого региона. Из этого следует, что все земли от Галлии до Ирана начиная с древних классических времен сформировали единый культурный мир. Те же аргументы могут привести нас к ощущению, что существовал еще более обширный индо-средиземноморский союз или даже (в меньшей степени) союз афро-евразийских городов. В подобных условиях любая попытка охарактеризовать «цивилизацию» как нечто менее обширное требует серьезной доказательной базы, только на ее основе можно будет отделить один народ от другого, назвав их цивилизацией. Однако очень часто подобное разделение по группам проводится без доказательной базы. И в итоге характеристики не имеют отношения к той основе, на которой проводилось формирование группы.
Для исследования городских сообществ до начала Нового времени нам нужно провести анализ культурных форм. Антропологи приобрели бесценный опыт, работая с аграрным обществом, и некоторые из них применили аналогичные методы к городским сообществам. Социологи научились анализировать Новое техническое общество и сообщества, возникшие на заре Технической эпохи. Но очень немногие со времен Макса Вебера систематично исследовали период от шумеров до Французской революции. Возможно, причиной является отсутствие в мировой истории надежной структуры, которая сформировала бы элементарное чувство пропорций и взаимосвязей в данной области. В противном случае проведение компаративистских исследований крайне затруднительно. Сравнить можно что угодно и с чем угодно. Но для плодотворного сравнения требуются сопоставимые единицы, которые можно подтвердить, только озвучив общий контекст. В противном случае вопросы, касающиеся цивилизации до начала Нового времени, в частности исламского мира, окажутся нерелевантными и введут в заблуждение. А ответы на них будут либо заведомо ложными, либо не по теме.
Стоит заметить, что подобное несовершенство всемирной исторической структуры могло возникнуть из необходимости создать структуру, подстроенную под академическое сотрудничество. То, что мы называем «Восточными исследованиями», составляет большую часть «изучения цивилизаций».
В это изучение входит как европейское наследие, так и все остальные, более того, во всех случаях применяются одинаковые методы, а исторические проблемы взаимосвязаны. Для ученых, занимающихся изучением ислама, абсурдно принимать участие в конференциях по вопросам Китая в ущерб встречам, посвященным средневековой Европе.
По сути именно филологи по умолчанию определили для нас категорию «цивилизации»: цивилизация использует в литературе один определенный язык или группу культурно родственных языков. Это определение поддерживали Карл Бекер (Carl Becker), Гюстав фон Грюнебаум (Gustave von Grunebaum) и Йорг Кремер (Jrg Kraemer). Если сопоставить это определение с моим и выразить в терминах литературной традиции, то оно в сущности не дурно. Однако оно не совсем отвечает тем критериям, которые я хотел бы предложить. Его еще стоит усовершенствовать. Грубо говоря, из этого определения следует, что все, создававшееся на арабском языке, включая доисламские языческие традиции бедуинов, является праосновой для будущей цивилизации, которая большей частью использовала арабский. В то же время, получается, что материалы, написанные на сирийском языке, которые пользовались огромным авторитетом у ранних мусульманских правителей и сформировали основные черты урбанистической культуры, считаются «иностранными». И когда практически весь регион перешел на арабский язык, эти материалы были попросту «заимствованы». В итоге складывается ошибочная, на мой взгляд, картина культурного развития. В принципе такая область исследования, как «культуры, засвидетельствованные в арабских документах», имеет право на существование. Однако ее уместность довольно спорна. Если бы мы имели дело не с исламом, а с арабской культурой, тогда можно было бы отнести иранцев к пришлому народу. В таком случае мы бы рассматривали бедуинов как «выживающий» народ, который в период поздней культуры находится под внешним «влиянием» иранцев. Тогда арабская культура Великого халифата приобретает две основные черты: (а) внезапность; (Ь) производный, «заимствованный» характер. И как меняется тон, если смотреть на проблему с позиции замещения арабскими «заимствованиями» иранских и сирийских «пережитков»! Нам следует отдать должное человеку по фамилии Тойнби, который определяет цивилизации по критерию, основанному на внутреннем развитии. Когда он разделил так называемую «исламскую» цивилизацию на три разных цивилизации, я решил, что это провал. Но он напомнил нам, что если мы хотим выделить лишь одну единую цивилизацию, мы должны объяснить, почему.
С другой стороны, для определения «цивилизации» должна существовать не одна универсальная причина. Для каждого случая необходимо свое особое объяснение. Из всех критериев только язык может показать, нуждается ли определенная группа в тщательном изучении и представляет ли она собой широкомасштабную культуру. Даже локализованную культуру, по крайней мере на уровне образованных горожан, нельзя определить, опираясь на составные черты или на непосредственных участников. Если рассматривать культуру в поперечном сечении, то она представляет собой жизненную модель, принятую в определенном кругу семей. Со временем более полно ее можно определить как относительно автономный комплекс взаимозависимых кумулятивных традиций. Важную роль в этом комплексе может играть случайная группа семей. Так формируются общие установки, в рамках которых развивается каждая определенная традиция. Но даже в относительно независимой локальной культуре некоторые традиции, например конкретная школа живописи или некий культ, могут иссякнуть. Им на замену приходят новые. В любом случае в культуре невозможно отличить подлинные или жизнеспособные черты от ложных и быстротечных. Более того, даже в традиции сложно определить настоящая она или нет. И все же культура обладает некой целостностью. Последствия и значимость данной новой или заимствованной черты зависят в определенный момент от того, как она повлияла на настоящее взаимодействие. Способствовала она диалогу (нескольким диалогам) или мешала. В свою очередь последствия и значимость данной традиции зависят от того, что она привнесла в культурное устройство в целом. Чем больше разветвленных признаков культуры охватили традиции, тем существеннее их влияние. В течение времени именно культурная непрерывность определяет культуру как цельную единицу.
На более широком глубинном уровне так называемой «цивилизации» определить культурную идентичность намного сложнее. Более того, довольно трудно сформулировать, как складывается культурная непрерывность. По сути, чтобы прояснить вопрос, мы можем в общих терминах описать наиболее типичные ситуации. Можно предположить, что «цивилизация» — это крупное объединение культур, в которые сознательно включены взаимозависимые кумулятивные традиции (вероятнее всего, это уровень «высокой культуры», объединяющий различные культурные формы: городская жизнь, уровень грамотности, степень утонченности). В таком случае общие традиции наверняка объединятся на основе «высокого» культурного опыта, к которому они все стремятся. Это может касаться литературы и философии, политики и правовых норм, выраженных в письменной традиции. Они могут составлять как явный союз с религиозным сообществом, так и быть самостоятельными. (Обычно письменная традиция неразрывна с понятием преемственности письменного языка. Но тем не менее, если две группы используют один язык, они не обязательно должны быть идентичны, тем более в разные периоды времени. Многие согласятся, что античную Аттику и христианскую Византию нельзя помещать в одну группу, даже несмотря на то что обе группы говорили на греческом и читали Гомера. Независимо от языка существенной является только письменная традиция с сопутствующей ей ориентацией.) Когда серьезные письменные традиции сводятся к единому знаменателю, в социальной или экономической сфере обычно обязательно образуется преемственность. Все культурные традиции обладают тенденцией к взаимозависимости. Зачастую, если интеграция в определенной области становится слишком явной, а разница с другими регионами усиливается, то в определенный момент граница становится очень четкой и со временем увековечивает себя. Подобную ситуацию мы можем наблюдать в Старом Свете.
Но эта очевидная ясность не дает историку право принимать свои категории как должное. В крупных группированиях всегда существуют такие понятия, как «граница» и «аномалия». Например, очень сложно определить место таких народов, как грузины или армяне в великих «цивилизациях». В любом случае невозможно знать заранее, какие жизненные модели передавались народами друг другу в так называемой «цивилизации». Каждая цивилизация, как и религия, имеет свои границы. И в этом диапазоне несколько преемственных традиций могут накладываться друг на друга. Так, опираясь только на одну точку зрения, можно подумать, что византийская культура стала продолжением эллинской традиции или является широкомасштабным, но коротким эпизодом христианской традиции. И в каждом из этих случаев мы видим настоящую и эффективную преемственность на «высшем» культурном уровне. Следовательно, на каждом промежутке времени появляется выбор, какое из возможных разграничений будет наиболее подходящим. Этот выбор отчасти зависит от того, какую письменную традицию исследует ученый. Поэтому академическое определение «цивилизации» должно определяться в соответствии с темой исследования.
О детерминированности традиций
Хотя цивилизация — это понятие определенное, не стоит считать, что оно существует независимо от деятельности человека. Культурные ожидания переходят по наследству, и в определенный момент времени из них формируются реалии, с которыми вынуждены считаться члены данного общества. Они способны ограничить наиболее опасные, по мнению членов общества, объекты окружающей среды. Но эти реалии работают только в определенной среде и при непосредственной заинтересованности людей. В конечном счете определенность традиции ограничена необходимостью быть уместной при текущих обстоятельствах.
Релевантность является ключевым моментом, особенно при проведении межкультурного сравнения. Например, стараясь понять, почему техникализированное общество развилось именно в западном мире, ученые изучают перио, предшествующий западным преобразованиям. Это можно сделать двумя способами: изучив особые условия, при которых начались преобразования, или коренные различия между западной и другими культурами. В последнем случае основой является исследование Высокого Средневековья на Западе и деятельности современников того периода.
Ранее считалось, что последний способ наиболее легкий. Существующая структура всемирной истории недостаточно совершенна, чтобы стать основой для изучения особенностей периода преобразований. В то же время другие важнейшие сообщества рассматривались как изолированные единицы, чтобы глобально обобщить их культурные особенности. Эти особенности сопоставимы только с утонченными чертами, и проследить их можно только при более глубоком понимании Западного мира. Более того, изучение коренных особенностей Запада, бесспорно, имеет отношение к вопросу, который нередко путают с другим — почему именно на Западе началась Новая история. Конечно, особый вид новой техникализации обязан своим появлением Западу с его своеобразными чертами. Безусловно, без подробного всемирного исторического анализа сложно выявить, что было существенным, а что случайным в технический период. Исследования особенностей западной культуры как таковой, несомненно, отчасти объясняют нам, как возникла подобная форма эпохи Нового времени. Но эти изыскания нередко ошибочно приписывают к объяснениям, где и когда возникла Новая история. Соответственно, принимая во внимание возникновение Новой эпохи, ученые поддались искушению сослаться на удачное влияние традиционной позиции или на комбинацию позиций в западном мире до Нового времени. В дополнение к сказанному раньше довольно часто ученые ссылались на «мертвую хватку традиции», объясняя «провал» других сообществ, таких как исламское. Сравнивая эти сообщества с западным миром перед Новым временем, они обычно подчеркивали их недостатки. С наступлением эпохи Нового времени обстоятельства времени уже перестали приниматься в расчет.
Я встречал немало попыток выделить основополагающие черты Западного мира до начала Нового времени. Но при более глубоком историческом анализе, когда другие сообщества изучались не хуже западного, все эти попытки проваливались. Это можно сказать и о великом Максе Вебере, который старался доказать, что Западу свойственны прирожденные рациональность и активность. Однако в данной работе повсеместно можно увидеть, что рациональность и активность свойственны и другим культурам. Или, иначе говоря, будучи уникальными (а все культурные черты в известной степени уникальны), западные черты не обладают такой сверхъестественной «рациональностью», как полагал Вебер. Это относится и к западному праву, и к западной теологии, обращаясь к которым он частично сделал рациональность формальной, а частично просто не учел степени рационального движения среди мусульман. В итоге, если определенные черты не являются исключительными, то и вся комбинация Вебера об уникальности ставится под сомнение.
Стоит также заметить, что используя подобный метод, Вебер не всегда углублялся в суть. Порой он представлял существующую позицию так, словно это был неоспоримый факт с автоматическими последствиями. Хотя на самом деле эта позиция являлась процессом, который никогда не повторялся и постоянно обновлялся. Соответственно, он иногда пренебрегал историческим вопросом, что заставило определенную позицию возникнуть. В результате Веберу не всегда удавалось охватить всю область взаимодействия вещей и проследить дальнейшие последствия.
Вопрос отношения западной культуры до начала эпохи Нового времени и непосредственно Нового времени интригует еще одной проблемой: какова родственная связь в историческом развитии традиционной культуры и настоящей игре интересов. В определенный момент становится ясно, что исторические изменения не могут всегда обуславливаться деятельностью великой личности или географической и расовой принадлежностью. Более того, нам нужны объяснения, почему моральный уровень высших классов или текущие экономические интересы воплощаются определенным образом, а не иначе. На все эти вопросы можно ответить, обратившись к неявным, но основополагающим культурным признакам. Эти признаки проявляются скрыто и незаметны на ранних этапах развития общества, их последствия дают о себе знать на более поздней стадии социального развития, конечно, если полагать, что общество проходит определенный порядок развития. Среди основополагающих черт самыми распространенными являются наследуемые понятия. Например, понятия о добре и зле. Так, западную склонность к рациональности и приумножению можно сопоставить с вечной китайской склонностью к дао и желанием стать землевладельцем. Таким образом, неудачу Китая в индустриальной революции можно объяснить тем, что успешные семьи не проявляли особого интереса к промышленности, а предпочитали другие, более престижные профессии. (Если бы китайцы все же пошли по пути индустриализации, то они могли бы сыграть на желании богатых семей стать землевладельцами; например, можно было продавать промышленные мануфактуры тем, кто желал развивать их далее.)
Я убежден, что основополагающие признаки существуют, несмотря на то что их сложно вычленить. Но при оценке их исторического воздействия стоит учитывать общую окружающую обстановку определенного поколения. То есть все условия, которые отвечают за положительный эффект возможных путей развития и, следовательно, за новые подходы. В идеале необходимо определить те пункты, в которых при определенных условиях, дополнительных затратах денег, времени, сил и т. д. доходы все равно сократятся. При подобном расчете следует принимать во внимание естественные, то есть рукотворные и демографические ресурсы, технические и научные альтернативы, социальные институты, которые определяют надежды определенного поколения. Также нужно учитывать, от чего в определенный момент времени зависят чаяния людей (возможно, именно это меняет людей в данный момент). В этот список необходимо еще включить последствия позиции предков. Однако в условиях, в которых существует отдельно взятое поколение, последствия подхода предков и непосредственно их позиция представляют собой разные вещи. Возьмем, к примеру, область, в которой бессознательное прошлое считается тяжелым пережитком, — воспитание детей, даже здесь результат может варьироваться.
Такие позиции, как «индивидуализм», «чувство личного призвания» или «всемирного отрицания» очень сложно определить в подобных целях. Намного проще проследить определенную символику этих подходов. И может оказаться, что в новой структуре они приобретают крайне противоположные значения. Так, например, в США господствовал сомнительный тезис о том, что домик с лужайкой является для каждой семьи оплотом личной независимости. Этот подход привел к возникновению так называемого «организованного» пригорода, который является показателем социальной причастности и соответствия. Другим примером может быть уникальность Корана, который поставил под сомнение неоспоримость иудейской и христианской религиозной мудрости. Коран внес свой вклад (через самобытное кораническое толкование) в универсализм и толерантность к расхожим традициям и не только к Народам Книги), это, в свою очередь, стало характерной чертой при деформации суфизма.
Действительно, как бы ни складывалась ситуация в необразованных общественных классах, в любом общественном комплексе наиболее уместные подходы чаще всего обнаруживаются в практических традициях и при обширной вариативности или в пределах образованного, более престижного общества. Самые яркие и наиболее вероятные аспекты практического опыта великой традиции можно увидеть и в других соответствующих традициях. Следовательно, традиция может основываться практически на чем угодно. Одно время считалось, что именно семейные традиции мешают китайцам воспринимать коммунизм. Но теперь китайское бюрократическое наследие сделало китайцев необычайно приверженными идеям коммунизма.
Соответственно, будет вполне разумно огласить основной принцип, что каждое поколение принимает собственные решения, а любое отклонение требует основательных доказательств. (Вполне вероятно, что это дополнение перекликается с принципом Ранке, по которому все поколения духовно равно приближены к Господу.) Позиции предков не должны ограничивать в действиях следующие поколения. То есть потомки не должны основываться на последствиях, иначе они действительно окажутся скованными ими, а выбор решений для них будет предельно ограничен.
Разница между великими традициями заложена не в определенных внутренних элементах, а в их ценности и структуре, которую они формируют в общем контексте. Если эта структура относительно неизменна (по самой природе традиций они не могут быть абсолютно постоянными), то она таковой и останется. Поскольку условия предпосылок также будут неизменными, более того, дальнейшая институализация только усилит их. Институализация необходимых подходов является ключевым моментом для эффективности условий: например, меркантильные черты ирано-семитской культурной традиции стали явными при развитии монотеизма, но только под покровительством ислама они раскрылись во всю силу. Триумф ислама, в свою очередь, был возможен только благодаря адаптации к этой расчетливости. И в то же время именно этот триумф позволил ирано-семитской расчетливости определить ход их истории. Тем не менее последствия институализации не дают полной независимости условиям предпосылок. Только уже самая сильная тенденция может с помощью этих последствий стать наиболее эффективной. Помимо этого, данные последствия могут сократить колебания, вызванные вариативностью базовых условий, в итоге полное или местное отклонение от общей нормы не закончится тотальным культурным разрушением. Однако если измененные базовые условия упорно сохраняются, то соответствующие подходы и их институализация довольно быстро коренным образом изменятся.
Историческое движение непрерывно, а все традиции открыты и находятся в постоянном движении, можно даже сказать, что они существуют в постоянном дисбалансе. Сознание человека всегда стремится к граням дозволенного. Но, даже если абстрагироваться от этого, все мы обычные люди и в первую очередь преследуем личные интересы. И только потом мы являемся участниками той или иной традиции. Любая традиция должна подпитываться текущими условиями, только тогда она сможет отвечать настоящим интересам или просто изживет себя (или трансформируется во что-то более уместное). Любые модели, которые мы устанавливаем для себя либо в качестве главных ориентиров, либо в качестве важных норм организации, любое чувство единства, которое мы находим в культуре, могут быть довольно жизнеспособными. Но в то же время по сути они остаются очень хрупкими. Как только открываются новые возможности, принятые ранее модели становятся крайне уязвимыми. Даже если эти модели приобрели однородный и совершенный стиль, к ним стоит относиться как к нежному цветку, а не как к сильному корню. Несмотря на мощный потенциал, данные модели продиктованы не культурной необходимостью, а скорее желанием творчества.
Отдельно стоит отметить одну из наименее изученных, хотя очень распространенную форму гипостатизации культурной традиции или в нашем случает целой серии. До сих пор удивительно распространено мнение, что «Восток» лишь недавно очнулся от «тысячелетнего сна». Это понятие (впрочем, как и определение самого «Востока») родилось в результате пренебрежения мировой историей современными западными (и не только) учеными. Восхваляя древность своих институтов, они все равно ищут одобрения Запада.
Мы можем выделить два типа ученых, усиливших это ложное понимание. Западные туристы, чей настрой учитывается даже в научном мире, нередко принимают экзотику за древность, но остаются слепы к более тонким аспектам организационных изменений. В результате некоторые ученые, уверенные в превосходстве и прогрессивности своей западной культуры, выдают эти туристические впечатления за научные тезисы, нередко расистского характера. Они готовы записать все чуждые им сообщества как неуместные. Эти ученые сравнивают теперешние темпы развития Запада и его деятельность в прошлом через призму современности. Они не желают осознавать, что и в других сообществах, помимо Запада, происходило не менее активное развитие. В итоге западные ученые приходят к выводу, что причина технической и интеллектуальной заторможенности иностранного мира возникла в XIX веке. Затем эти страны больше не развивались, то есть причиной различий является раса и местность, а не только возраст страны.
Также существует другая группа западных ученых, в основном «регионоведов». Их стойкое заблуждение строится на противоположной ошибке. Они признают сопоставимость западного общества до начала Нового времени и обществ других регионов. Однако эта группа ученых охватывает все области периода до начала Нового времени одним термином «традиционные». Таким образом, они упускают одну тенденцию, которую мы разбирали ранее. Если в этот период все страны находились в состоянии сна (за исключением периода бесспорного процветания), то и очнуться они должны были вместе. Как мы уже упоминали, степень того, как народы в период до техникализации и даже до просвещения были связаны «мертвой хваткой традиции», крайне преувеличена. В любом случае в мусульманском обществе возникновение основных институтов в каждый период времени функционально оправдано. Все социальные решения, даже конспиративного толка, мусульмане принимали не для того, чтобы противостоять прошлому, а только ради практических конкретных целей, отвечающих интересам основных социальных групп. Хотя считается, что именно на «Востоке» или «в странах до начала эпохи Нового времени» постулат о неизменности затеняет важный вопрос о том, как особое положение различных народов в период Преобразований повлияло на их дальнейшую судьбу. На вопрос, почему не удались «реформы», существует уже готовый ответ: землями, «опутанными традициями», управляли слепые консерваторы. Этот ответ избавляет от необходимости изучать, насколько практичными и готовыми к переменам были эти «опутанные традицией» государственные деятели… Исключение представляют только японцы, получившие стереотип «великих имитаторов».
Об истории исламских исследований
Многие ученые лишь отчасти осознают необходимость научной перспективы в расширении границ исследований. Достаточно лишь осознать эту перспективу и тем самым взять ее под контроль. Исторически так сложилось, что научные упоминания об «исламе» как об области исследований сводятся к ряду политических и иных посторонних условий. Последствия таких упоминаний ощущаются до сих пор. Практически все стадии исторического развития современных исламских[18] исследований представлены в работах, которые исследователь может свободно найти в библиотеках. Что интересно, многие из этих стадий описываются даже в работах середины XX века. Следовательно, любой средний студент, изучающий тему ислама, осведомлен об истории исламских исследований. Это помогает ему по достоинству оценить интересующие его частные научные исследования. Более того, он сможет избежать частых, но преодолимых ошибок, с которыми многие сталкиваются в этой области исследований.
До недавнего времени западная академическая наука обладала преимуществами в современных исследованиях ислама. Возможно, этому способствовали культурные условия Технической эпохи Нового времени. Западная наука вела работу в этой области исламских исследований в трех направлениях. Во-первых, изучение Османской империи, сыгравшей важнейшую роль в истории Европы. Обычно эта группа ученых подходит к изучению османов с точки зрения европейской дипломатической истории. Они видят весь исламский мир с политической перспективы Стамбула, столицы Османской империи. Во-вторых, это взгляд на исламский мир через Индию. Эти ученые, преимущественно британцы, смотрят на индусов как на добропорядочных гражданских подданных или по меньшей мере просто разделяют индийские интересы. Имперское преобразование Дели является для них кульминационным моментом в истории ислама. В-третьих, это семитские исследования. Большей частью, это ученые-гебраисты, соблазнившиеся арабской культурой. Многие из них полагают, что основная жизненная сила исламской культуры сосредоточена в Каире, в XIX веке это был наиболее яркий мусульманский город. Есть также исследователи, которые обращаются к Сирии или Магрибу. Обычно эти ученые скорее филологи, чем историки. Они воспринимают исламскую культуру через поздних египетских и сирийских суннитских авторов, особо известных в Каире. Также существуют другие, менее крупные направления, это испанское и отчасти французское направление, сосредоточенное на изучении средневековой Испании, и русское направление, занимающееся северными мусульманами. Все эти пути исследований, как одно, уделяют мало внимания центральной области Плодородного полумесяца и Ирана и их склонности к шиизму. Эти земли оказались меньше остальных подвержены западному влиянию. В России одно время уделялось внимание центральным регионам ислама, однако эти исследования были заброшены, за исключением эпохи раннего Средневековья. И в перспективе мало кто воспринимает исламский мир именно с этой позиции.
Независимо от направления исследований современная западная наука долгое время занималась в основном переводом мусульманских работ до начала Нового времени и их адаптацией к реалиям западного мира. Совершенствование западной науки началось с движения от поздних, второстепенных мусульманских источников к ранним, более существенным. Редактирование древних текстов стало самым важным научным событием. В то же время западное научное видение изменилось в связи с тем, что в течение XIX века мусульмане сами стали по-другому себя оценивать. Они стали подчеркивать значимость раннего арабского периода и ассоциирующегося с ним шариата (более поздние персидские и суфийские тенденции стали отрицаться как декадентские). Эти перемены повлекли за собой интерес к ранним периодам и арабским документам. Они стали объектами лучших исследовательских работ и предметом научных толкований. Со временем (особенно после ослабления международного влияния Стамбула с 1918 г.) каирская линия исследований стала доминирующей, в то время как остальные приобрели уровень местного значения. Например, стамбульская линия важна для османских исследований, но не для ислама в целом.
Все это усилило арабистские и филологические предубеждения, которые являются неизбежной европейской тенденцией. Под интересом к семитской «расе» (противопоставлявшейся индоевропейской «расе» Запада) подразумевалась семитская библейская основа. Более того, западный научный мир XIX века оказался одержим интересом к особому «происхождению» изолированной культурной единицы. Подчеркивалось средиземноморское (следовательно, преимущественно арабское) географическое положение, которое было наиболее близким к Европе и, значит, оказывало на нее влияние. Также следует отметить филологическую тенденцию к изучению арабского языка, считалось, что это самый существенный лингвистический ресурс и в серьезном изучении других языков нет необходимости. Эти арабистские и филологические заблуждения повторялись из книги в книгу, от статьи к статье. Не стала исключением и Encyclopaedia of Islam, где во многих разделах особое внимание уделяется слову (обычно в арабской форме, даже если оно произошло, скажем, от персидского), а не содержанию. Также в энциклопедии даты, связанные с историей Египта или Сирии, обобщаются как всеобщие исламские. (Для более подробного рассмотрения проблемы, сложившейся в данной ситуации, см. раздел об использовании терминов.)
Однако существовали и другие аспекты, изменившие западную историческую науку в целом и изучение исламского мира в частности. Именно в XX веке исламисты отвлеклись от работ старой мусульманской школы и самостоятельно стали ставить задачи, находить документальные подтверждения. Ученые стали ссылаться на очевидные доказательства, а не на чужое авторитетное мнение. Немного медленнее шел процесс отхода от типичных западных категорий. Частично это происходило благодаря интересу к исламским категориям, частично благодаря использованию нейтральных категорий всемирной истории и человеческой культуры и общества. Однако даже в работах великих ученых эта задача до конца еще не выполнена.
Независимо от этого современные исламские исследования все еще страдают от прошлых филологических понятий. Еще не удалось преодолеть арабистские предрассудки с их отрицанием центральных территорий. (Хотя, если прекратить общие семитские исследования, которыми занимаются арабисты, то мы утратим основное преимущество старой филологической школы: это возможность интегрировать арабский с другими семитскими исследованиями, преимущественно ивритом и арамейским, и даже с иранской традицией.) Возможно, еще более важным фактором является то, что исламские исследования ассоциируются с высокой культурой, а местной культурой и социальными условиями низших классов обычно пренебрегают. В рамках высокой культуры можно обнаружить материалы, связанные с религией, литературой, политикой, которые наиболее доступны для филологических изысканий. Стоит отметить такие периодические издания, как Comparative Studies in Society and History[19] и Social and Economic History of the Orient[20], в которых освещаются новые сферы исследований. Эти издания, наряду с трудами Гюстава фон Грюнебаума, внесли огромный вклад в изучение исламского мира. Самым плодотворным западным писателем, касавшимся социальных и экономических вопросов, был Клод Каен (Claude Cahen), его работы можно найти по Index Islamicus[21].
Я бы хотел проиллюстрировать несколько проблем, с которыми можно столкнуться, если полагаться на филологический подход. Подчеркну, что не стоит опираться только на работы, созданные непосредственно до и после возникновения ислама, так как отсутствие в них подтвержденных данных влечет за собой неисторический подход.
Особая значимость старых арабских семей (в совокупности с другими обстоятельствами) вызвала тенденцию интерпретировать развитие исламской цивилизации исключительно с арабской точки зрения. Отождествляя «исламскую культуру» с «культурой, возникшей на основе арабского языка», исследователи утверждают, что доисламские арабские элементы (т. е. существовавшие на Аравийском полуострове) являются первоосновой для исламской культуры. При этом они делают вывод, что арабский бедуинский фольклор просто «не учитывается» или «утерян» среди поздних мусульман Плодородного полумесяца. Соответственно, сирийские, персидские или греческие элементы эти ученые рассматривают как «иностранные» заимствования в мусульманскую арабскую жизнь. Тот факт, что эти элементы сформировали наследственные культурные традиции мусульманского привилегированного общества, они, видимо, не учитывают. Термин «доисламский» буквально толкуется ими как «арабский доисламский», при этом опускается история стран от Нила до Амударьи, где также установился ислам.
Если сконцентрироваться непосредственно на арабах-мусульманах, преимущественно на их творческом вкладе, то подобная точка зрения будет более-менее уместной. Так как с позиции правящего класса арабов и их ярых новообращенных все, что можно назвать неарабским, будет для них «иностранным». Мы скорее имеем дело с постепенным арабским внедрением в принятые культурные модели, чем с постепенной ассимиляцией внешних культурных элементов в арабское общество. Возникает вполне закономерный вопрос, как неарабские элементы внедрились в арабские семьи.
Однако, если рассматривать общую картину с точки зрения заинтересованных людей из старых арабских семей, то арабоцентристский или «арабистский» взгляд вызывает сомнения. К сожалению, филологи слишком часто прибегают к данному арабистскому подходу. Языковая группа (в нашем случае арабская) представляет для них ключевой момент в историческом исследовании. Кроме того, филологи полагают, что изучение происхождения терминов является более захватывающим занятием, чем изучение непосредственно институтов, к которым они обращаются. Фактически, этот подход можно назвать поверхностным. Он зачастую подразумевает применение терминологии даже там, где можно обойтись без нее. При дисбалансе различных точек зрения арабистский подход может привести к ложному пониманию предмета, поднять ложные вопросы и дать ложные ответы. Читатель, работающий с подобными исследованиями, должен быть особо внимательным, чтобы избежать распространенных ошибок. Даже маститым ученым не всегда удается преодолеть арабистские предрассудки при изучении раннего ислама.
Например, при сравнении условий жизни до и после принятия ислама, с одной стороны, рассматривается доисламская Аравия, а с другой — Сирия или Иран исламского периода. Так можно будет понять, как развивались семьи, сформировавшие арабский элемент в новом исламском обществе. История этих семей подразумевает не только ислам, но также миграцию и получение более высокого социального статуса. Однако ни одно сравнение не может много рассказать об исламе и его культуре, если оно недостаточно сбалансировано со сравнением условий, скажем, в доисламской Сирии и Сирии исламских времен или в доисламской Аравии и Аравии в период ислама. В противном случае мы будем иметь дело не с развитием ислама, а с вопросами политики и географии. К сожалению, редко какие опубликованные работы могут похвастаться подобной сбалансированностью.
К филологическим предрассудкам зачастую примешиваются три старых неподтвержденных этнических критерия: патрилинейность расы, языка и культурного наследия. Так, «арабы» по языку и «мусульмане» по культурному наследию зачастую рассматриваются как единая категория даже в поздние исторические периоды. Арабская «раса» расценивается как норма, несмотря на то что известные «исключения» встречаются гораздо чаще, чем «нормальные» случаи. Подобные «исключения» необходимо отражать должным образом. Иначе исторические изыскания могут зайти в тупик. Например, некоторые писатели задаются вопросом, как греческие элементы (как неарабские) не просто вошли в арабские семьи, а внедрились во все арабское общество от Нила до Амударьи, где они уже были частично заимствованы по наследству. И, между тем, те же писатели игнорируют в своих изысканиях вопрос о том, почему греческие элементы долгое время не использовались в образовательной системе высших мусульманских сословий. Последний вопрос рождает другие более серьезные вопросы (которые являются чисто филологическими, и ученые относятся к ним с опаской). Например, как арабский язык и арабская основа стали культурным образцом в обществе, где они мало поощрялись. Как иностранные арабские элементы, как предполагал Мухаммад, чуждые в определенных аспектах даже исламу, настолько быстро вошли в культуру семитов и иранцев?
Ответ можно найти в самой истории развития этих народов. В регионе от Нила до Амударьи исламская цивилизация является конечной стадией в развитии ирано-семитской культуры, берущей свое начало со времен шумеров. Само видение ислама выросло из этого наследия. Ему не было чуждо меркантильное кочевническое понимание мира, которое привело к арабскому завоеванию. Ислам, как арабское творение, получил распространение на этих обширных территориях, потому что отвечал насущным требованиям условий того времени. Ирано-семитские традиции, будучи очень древними, подразумевали аграрный культурный контекст. Высокой культуре необходим был толчок от аграрной основы к более меркантильному подходу. Существенным элементом в исламской цивилизации стали традиции, связанные с торговыми классами. Долго назревавшая тенденция достигла своей кульминации.
Однако, если основываться не на арабских знатных семьях, а на остальном обществе, то можно противостоять арабистскому подходу. Но, к сожалению, это не так просто. Несколько амбициозных попыток все же имели место, но они пострадали от разных форм филологического подхода.
Религиозную и социальную историю Сасанидов можно восстановить из археологических и текстовых источников, при этом литературные свидетельства того времени играют незначительную роль. Арамейские, греческие и армянские тексты обычно являются второстепенными и рассматриваются отдельно. Большая часть текстов пехлеви считается отредактированной как минимум в исламские времена, остальной корпус текстов представляет собой реконструкцию арабских и персидских переводов. Даже если нам удалось бы найти оригинальный текст пехлеви времен Сасанидов, то он был бы настолько запутанным, а манускрипты настолько поврежденными, что разумнее было бы предоставить изучение этих текстов филологам. В результате немногие ученые занимались этой областью исследований, а те, кто предпринимал какие-то попытки, вынуждены были отодвинуть филологический подход и основываться на обрывочных сведениях устной традиции. После работы Артура Кристенсена (Arthur Christensen) можно назвать двух ярких писателей Роберта Зенера (Robert Zaehner, Zurvan, а Zoroastrian Dilemma (Oxford, 1955) и Франца Алтейма (Franz Altheim), который в работе Utopie und Wirtschaft: eine geschichtliche Betrachtung (Frankfurt/ Main, 1957) суммировал все вопросы, поставленные в более подробной работе (совместно с Рут Стиел (Ruth Stiehl, Ein asiatischer Staat: Feudalismus unter den Sasaniden und ihren Nachbarn (Wiesbaden, 1954)). Работы обоих авторов наглядно демонстрируют подводные камни, возникающие в связи с филологическими ограничениями.
Работа Зенера очень информативна, и некоторые корреляции наводят на размышление. Однако в некоторых вопросах автору нужно понимать отличие между вербальной формулировкой и ее практическим значением, между религиозной доктриной и поэтическим стилем. Соответственно, его описание эволюции зурванизма, одной из зороастрийских школ, звучит неубедительно. Хотя кто-то может подумать, что его объяснения неубедительны лишь в определенных аспектах. Я утверждаю, что эта тема неубедительна в целом. Подобная тенденция существует и в его работе по исламским исследованиям. Он берет несколько схематических заметок и строит всю типологию, основываясь на их употреблении или отсутствии в речи определенного мыслителя.
Работа Алтейма также очень информативна и наводит на определенные размышления. Но и здесь слишком много предположений строится на единственной реконструкции отрывков текста, в то время как человеческий фактор не учитывается. Например, Алтейм отмечает, что, когда Анушриван ввел денежное налогообложение, он усилил денежные и финансовые аспекты экономики. Однако путем изощренных и неправдоподобных корреляций Алтейм находит обратное доказательство: налоговая система Анушривана обеспечила экономический контроль, а не свободу торговли. Более того, по мнению Алтейма, Анушриван стал меньше зависеть от традиционной поместной знати и, следовательно, мог ближе контролировать общество. В итоге, создав новый малочисленный класс землевладельцев, он поверг правительство в зависимость от земли. В целом Алтейм ищет доказательства (приводя слабое подтверждение, основываясь на факте строительства замков и анахронистическом ложном толковании трудов Мухаммада) усиления неденежной «натуральной» экономики и далее переходит (через взаимодействие с Византией) к Средним векам. Осведомленность о социальных условиях в постосевое время позволила бы привести более уместные альтернативные интерпретации.
Системы Зенера и Алтейма возникли в результате предвзятого отношения к мировой истории, что помешало им найти альтернативные возможности для их филологических реконструкций. Зенер без лишних оговорок рассуждает о зороастрийской «церкви», об «ортодоксии», о «сектах», которые он принимает как должное, при этом в своей теории о зурванизме он не упоминает, что подобные явления существовали всегда. Алтейм, в свою очередь, принимает как должное стереотипы о «Востоке» и «Средневековье». Без них его схема звучала бы неправдоподобно. В его понимании «Ориент», или «Восток», — это вечная единица, существующая с древних времен и до настоящей эпохи Советского Союза. «Восток» всегда находится на шаг позади и известен своей иррациональностью, но у него есть возможность учиться у прогрессивного и рационального «Запада», причем это обучение идет настолько быстро, что «Восток» может утянуть «Запад» в «темные» века. В Маздаке он видел древний прототип Маркса, который стал таким же предшественником ислама, как Маркс для Советского Союза. Этот параллелизм снова строится на стереотипе: автор полагает, что Маздак и другие реформаторы пропагандируют «коммунизм», «общее» владение собственностью и женщинами. Алтейм продолжает следовать этой стереотипной идее, хотя сам осознает, что никакой общности собственности или общих женщин не существовало, в крайнем случае было перераспределение собственности между индивидуумами. Он никогда не работал с этими стереотипами, учитывая их настоящее значение. В качестве основной исторической категории подобное заблуждение насквозь пронизывает исламские исследования. В изучении Сасанидского периода они сильны (или пагубны) как никогда. Обычно, а в исламском периоде особенно, ученые вынуждены восстанавливать разумную научно обоснованную базу из догадок.
Использование терминов: ревизионизм в научной терминологии
Если нам необходимо выбрать и применить определенный подход к изучению цивилизации, то нужно тщательно подходить к использованию терминов. Нужно выделять именно термины, уместные для данного вопроса. Употребляя такие слова, как «ойкумена», «Осевое время», «Исламский мир» и «исламизация», я старался ввести новое значение или заимствовать редкие формы вместо общепринятых. Мне нелегко далось это решение, так как я осознаю, что любой историк, равно как и философ, несет определенные обязательства перед читателем. Непосредственно в изучении вопроса он должен быть понятен читателю. Тем не менее использование некоторых специальных терминов и выражений необходимо. Во многих дисциплинах ученым даже мечтать не приходится о том, чтобы взять терминологию из повседневной речи. Даже если между учеными существуют некоторые разногласия по поводу терминологии, каждый из них осознает, что должен с особой точностью подходить к подбору слов и определений. В противном случае попытка использовать популярную общепринятую лексику, которая, например, отражена в словаре, может привести к непоправимым последствиям. Историки (особенно исламоведы) слишком часто избегают самобытности и довольствуются тем, что называется «обычная практика». Они отмечают, что терминологические обсуждения нередко приводят к мелочности и не позволяют историкам выстроить единый целостный корпус, который можно применить для любых случаев. Они полагают, что терминология может существовать сама по тебе, но это не так. Как минимум необходимо нести ответственность при выборе двусмысленных терминов, которые нужно описывать как можно точнее.
Терминология — это основной элемент, на котором строится суждение. Благодаря терминам автор определяет категории, которыми будет руководствоваться в своей области, или по крайней мере все категории, которые хотя бы косвенно связаны с его исследованием. Предполагаемые категории автоматически сокращают круг возможных вопросов, как минимум постоянных вопросов, находящихся за пределами основной темы. В свою очередь, поставленные вопросы определяют, какие ответы необходимы для их окончательного разрешения. История научных ошибок доказывает, что нередко неверно поставленный вопрос зависит от неправильных предпосылок. Соответственно, успех научного исследования во многом зависит от правильно выбранной терминологии.
Существует два распространенных типа неправильного использования: перестраховочный подход и ревизионистский. Перестраховочный подход признает, что обычное использование терминологии может привести к неправильному пониманию текста, тем не менее продолжает ему следовать. Однако этот подход подразумевает предупреждение, что определенный термин или категорию не стоит понимать в общепринятом значении. Ревизионисты предпочитают сразу напрямую заменять двусмысленные термины (или предвзятые категории) более здравыми.
Те, у кого не было возможности убедиться, что распространенные ошибки настолько же явны, как и ревизионистские убеждения, или что предложенные замещения в дальнейшем не приведут к заблуждению, обычно ждут помощи со стороны. Но даже те, кто расценивает ревизионистский подход как самый практичный, понимают, что преимущества замены не перевешивают недостатки, которые возникают при каждом нарушении непрерывности.
Как можно заметить из моей защиты термина «исламизированный» в данной работе, я настойчиво и беспрецедентно соблюдаю ревизионистский подход. Мне кажется, что категории и термины, возникшие из арабистских предрассудков, нуждаются в решительном преобразовании. Но существуют и другие случаи, когда неправильное использование влечет за собой ложные представления. Например, если в дискуссиях на тему так называемого «исламского феодализма» термин «феодальное владение» заменить выражением «земельное пожалование», тогда появится двоякий смысл. Если обсуждение логически выстроено, то подобная замена облегчит положение, и многие объяснения будут излишни. Однако зачастую в дискуссиях и предположениях обнаруживаются серьезные несоответствия и даже абсурдные вещи. В последнем случае для науки нежелательно скрываться от последствий точного использования.
Наиболее распространенные компромиссные ошибки усиливают предрассудки, на которых они по сути основываются. Человеческая натура такова, что при совершении подобных ошибок предостережения только усугубят положение. Человек не держит в поле зрения предостережения, касающиеся тех версий, которые ему импонируют, тем более если эти версии постоянно подкрепляются специальными терминами. В данном случае новые термины и новая практика могут повлиять только по отдельности. При этом старые термины и прежний опыт даже с исправлениями не смогут превзойти сами себя. В любом случае в исследовании ислама и цивилизации в целом несоответствия настолько велики, что попытка соблюдать последовательность обречена на провал. По сути наша наука до сих пор находится на «доисторическом» уровне. Непрерывная связь с прежними версиями и предположениями должна обладать минимальной ценностью.
Однако некоторые историки уже озаботились проблемой, как прояснить ситуацию. В области исламских исследований ученые уже избавились от терминов «мавританский», «туранский» и «сарацин». Каждый из этих терминов, означая категорию, казался слишком запутанным для реформы и поэтому не обладал особой ценностью. Однако осталось еще огромное множество случаев, которые нужно прояснить. Например, случаи, касающиеся названия территорий. Европейские историки, давая названия исторической территории Швейцарии, Австрии, Германии, Бельгии и Франции, не учитывают их прежнее политическое положение. В свою очередь, многие исламоведы рассуждают о прошлом в терминах «Персия», «Афганистан», «Сирия и Палестина» и «Айван». Но все эти названия, по крайне мере в общепринятом значении, отражают современные реалии. Нужно признать, что подобная терминология неуместна. Ее нельзя использовать в обсуждении определенных исторических событий, где необходимо точно указывать границы тех времен. Также эти термины не подходят для описания долгосрочного развития в определенных странах и их тенденций. Современные границы редко повторяют старые унаследованные территории, и, следовательно, подобная дискуссия не будет плодотворной. Нам стоит привыкнуть использовать термины, отвечающие географии и политической ситуации рассматриваемого периода. Но при более общем обсуждении нужно учитывать критерий уместности.
Рассмотрим один наглядный пример. Так, береговая линия между Средиземноморьем и Сирийской пустыней имеет общие линии и должна рассматриваться в комплексе. Если для этой территории, включающей современные Айван и Палестину, мы не используем термин «Сирия» — самое общее определение — и при этом исключаем все восточные (по французскому договору) территории современной Сирии, то нам необходимо подобрать другой термин. Этот факт осознают многие ученые, но, руководствуясь современными политическими критериями, они стараются выразить свою мысль в подобных терминах. Прежде всего термин «Израиль» по известным причинам нельзя использовать в современном значении. С другой стороны, перефразированное выражение «Сирия, включая Айван и Палестину» не только звучит громоздко, но и является неточным, так как не исключает лишние территории. Сочетание «Сирия и Палестина» будет звучать политически некорректно, так как Айван по умолчанию включается в территорию «Сирии» (на военных картах эти страны закрашивались одинаковым цветом как владения Франции). Частично этот подход отражает западный взгляд наместо Палестины в мире, в соответствии с ним Палестина отделялась от Сирии. Однако при обобщенном понимании мы получаем военный компромисс, при котором значимость юной Сирии в исламском мире значительно преувеличена. Между тем не учитываются интересы тех, кто населяет эти территории в соответствии с современной политической картой. Поэтому было решено использовать термин «Левант» для обозначения определенной небольшой территории. Но при этом нам необходимо оговорить условия, когда «Левант» используется в более широком значении. Более того, мы в любом случае сталкиваемся с интересами Франции, которая в дальнейшем установит мандат над двумя государствами «Леванта». Подобные уступки текущему политическому положению и сентиментальным понятиям заканчиваются ничем. Иногда политические договоры и повседневный язык попросту игнорируются, и в итоге используются только термины, отвечающие исключительно историческим задачам. В подобном случае, несмотря на то, что можно изобрести новый термин, который позаимствуют политики, мы оставим термин «Сирия» в старом его значении. Так как значение этого слова, бытовавшее до 1918 г., вполне подходит для нашего исследования. Хотя во избежание столкновения мы можем принять выражение «географическая Сирия» или «Сирийские земли». Но в любом случае в подобном выражении должно присутствовать прилагательное «сирийский». Читатель может сам решить, что для него удобнее. Но при любом раскладе необходимо вводить специальные термины. Я посчитал полезным обратиться к статье, чтобы обозначить географическое положение, отличающееся от современного государственного деления. Так, например, «Ирак» означает южную часть современного государства. Однако здесь мы не будем использовать выражения с прилагательным, обозначающим государство, и существительным «область» или «земли».
Использование терминов в исследовании по всемирной истории
При обширных исследованиях по всемирной истории следует избегать общеупотребительной терминологии, так как она зачастую отражает этноцентричный западный взгляд, существенно отличающийся от реального положения вещей. Основные термины, означающие территорию или период времени, должны быть наглядными. Например, периодизация «Античность», «Средневековье», и «Новое время» подверглась многочисленным нападкам со стороны европейских историков, которые считают, что она не работает в долгосрочной перспективе. До сих пор неясно, насколько последние два термина применимы ко всем территориям, а не только к Европе. Еще больше сомнений вызывает географическая терминология. «Европа», «Азия» и «Африка» буквально означают север, восток и юг Средиземноморья. Получается, что земли южнее Сахары приписываются к южному побережью Средиземного моря, а все дальневосточные территории, Китай и Япония относятся к Леванту. В итоге мы получаем ужасающие результаты, которые скорее похожи на плохую шутку. Их нельзя использовать даже для повседневного применения (например, в статистических целях), так как они объединяют совершенно разные единицы со своими самобытными чертами. Они представляют собой серьезнейшие исторические искажения. Если рассматривать каждый концепт в отдельности, то Европа является самым самостоятельным из всех. До сих пор восточная «граница» Европы проводится через Эгейское море (оба побережья, кстати, обладают одинаковыми культурными и историческими чертами) и далее через Урал (который никогда не служил ни политической, ни культурной границей). От нее можно было бы с легкостью отказаться, если бы ее не воспринимали настолько серьезно и даже не нанесли на самые распространенные карты.
Существование подобных терминов, с одной стороны, конечно, служит определенным целям. Например, в случае «Европы» и «Азии» искусственное присвоение Европейскому полуострову статуса континента, равного по значимости остальной Евразии, подтверждает определенное мнение. Многие европейцы и их последователи из других регионов полагают, что они сформировали основной театр (Евразия) мировой истории и сыграли там решающую роль. Только благодаря подобной категоризации на Западе сохранилась иллюзия, что «основное течение» истории прошло именно через Европу. (То, что представители незападного мира тоже принимают эту версию, показывает, насколько они зависимы от Запада.) Также существует другая всемирная историческая концепция, представленная парой «Запад» и «Восток» (или «Ориент»). Это очередная разновидность пары «Европа» и «Азия». Она также усиливает западные этноцентричные иллюзии.
Конечно, эти понятия в основном выполняют бессознательную функцию. Более осторожные историки периода до Нового времени никогда не стали бы использовать концепты «Азия» или «Ориент», а обратились бы к узкоспециализированному термину, описывая ограниченную область (рассматриваемая область фактически всегда была ограниченна, если, конечно, исследователь не потакал некритическим обобщениям). Однако, к сожалению, историки обычно заблуждаются, всерьез принимая ложные утверждения. Ключевым пунктом является объяснение, что автор хочет сказать термином: «семитский», «исламский», «индийский», «индийский и родственные», «дальневосточный», иногда встречается «индийский и дальневосточный»; также употребляются термины «экзотический», «чуждый Западу», «незападный», «исламский и азиатский», «незападная цивилизация», помимо этого встречаются даже такие термины, как «туземный», «местный», «нетехникализированный» или просто «другой». Даже в Новое время, когда проявились существенные отличия между западным миром и другими землями, термины «Ориент» и «Восток» в определенных случаях оказывались неудачными и вызывали подозрение. Хотя, на мой взгляд, термин «Запад» прекрасно описывает «европейский» период развития Нового времени.