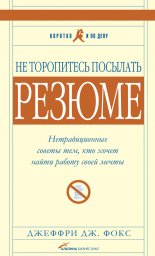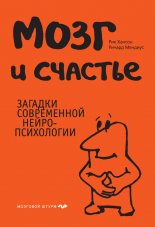История ислама: Исламская цивилизация от рождения до наших дней Ходжсон Маршалл
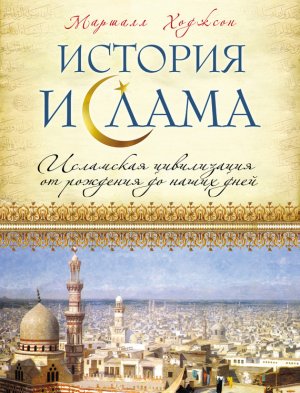
В 1404 г., после краткосрочного пребывания в Самарканде (заодно обезглавив лавочников, которые заламывали цены, проследив за строительством огромных садов правильной формы, и радушно приняв послов из христианской Испании), Тимур начал поход против Китая. Его официальной целью было наказать китайцев за изгнание монгольских правителей (две жены Тимура были китаянками, и он, возможно, действительно имел такие намерения). По дороге он простил сосланного Тохтамыша. Но через несколько дней он умер (1405 г.). Вопреки надеждам городских богачей, мирившихся с его жестокостью ради сильной централизованной власти в стране, он еще при жизни стал распределять провинции между сыновьями и внуками. Ни назначенный им кандидат, ни какой-то другой преемник не сумели сохранить центральную власть неделимой, хотя через несколько лет войн довольно спокойному его сыну, Шахруху, которому Тимур отдал Хорасан, удалось установить контроль над большей частью его владений в бассейне Сырдарьи и Амударьи и Иране.
Глава II
Консерватизм и изысканность в интеллектуальных традициях (ок. 1258–1503 гг.)
Во все времена люди ценили оригинальность. Египетский ученый ас-Суюти (1445–1505 гг.) гордился тем, что исследовал множество предметов, которыми никто до него не занимался. Тимурид Шахрух (1405–1447 гг.) пригласил сановников наблюдать за испытанием новой военной машины. Однако ни ученый, ни изобретатель не выходили за рамки строго очерченной области ожидаемого. Ас-Суюти исследовал туманные подробности мусульманского права или истории методами, которые уже применялись в изучении более значительных вопросов. Не знаю, удалось ли изобретателю Шахруха создать более мощный крутящий механизм или улучшенную пушку, но его творение в любом случае предназначалось для метания камней. Напрашивается вывод, что идеи для чего-то нового искали посредством доработки или оттачивания того, что уже зарекомендовало себя с наилучшей стороны. Даже в том, что считалось изобретениями, можно уловить (если рассмотреть их с этой точки зрения) влияние консервативного духа.
Тем не менее даже при отсутствии в исламском обществе полного осознания последствий проводимых изменений, в нем начали действовать новые силы, изменявшие его жизнь. В числе военных изобретений, которым покровительствовали мусульманские монархи к концу правления Шахруха, были усовершенствованные пушки; а появление пороха подстегивало к дальнейшим разработкам. Этот период во многом стал временем доработок, интеллектуальных традиций, часто в духе энциклопедической полноты подробностей, как в случае с ас-Суюти. Но даже под видом таких доработок многие ученые вели важную новаторскую работу, хоть и были при этом менее претенциозны, чем ас-Суюти, и говорили, что просто прорабатывают детали. Сознательная, скорее всего, консервация достижений прошлого, в любом случае, явилась особой отличительной чертой медресе и кругов, связанных со старой децентрализованной и ориентированной на шариат культурой. При набиравших влияние военных дворах к концу данного периода ученые и художники, патронируемые правителями, которые по монгольской традиции сами являлись художниками и учеными, генерировали новый мощный толчок к бурному расцвету культуры. Именно при этих дворах в самой свободной и полной мере реализовалось мировоззрение эпохи — проявившееся в восприимчивости к китайскому искусству, к индийской религиозности и даже к техническим достижениям Запада.
Образование как консервация
В сердце любой культурной традиции (и это столь же верно для периода консерватизма) лежит метод обучения молодежи. Разумеется, направленность системы образования является отражением культуры, но в то же время не просто укрепляет ее, а определяет (при известной степени самостоятельности) наиболее вероятные формы ближайших изменений в этой культуре.
Главным назначением всех форм исламского образования была передача культурного наследия от поколения к поколению. В атмосфере консерватизма к этой цели относились самым серьезным образом. Ожидалось, что следующие поколения начинают с более низкой ступени (и в нравственном, и в интеллектуальном плане), чем предыдущие; «стариковское» отношение (молодежь хуже, чем мы) преобладало, наряду с общепринятым мнением, что перемены в культуре должны иметь, в лучшем случае, второстепенное значение — кроме перемен к худшему. В целом, такой взгляд подтверждался опытом. Таким образом, проблема заключалась в том, чтобы притормозить или сгладить неизбежный упадок. Второе назначение образования — подготовить молодых людей к конкретным социальным ролям — не противоречило первому. Единственным родом службы для образованных людей — будь то врачи, астрологи или улемы — было применение знаний, полученных ими от старших и более мудрых. Большинство учеников, естественно, предпочитали сосредотачиваться на тех предметах, которые были наиболее востребованы в их карьере. Правовые тонкости фикха изучало больше людей, чем абстрактные принципы калама. И все же в рамках определенной области знаний практичная ориентированность на получение конкретной должности не противоречила гуманистической ориентации на стимулирование познания истины в более широком смысле; как минимум, на уровне высокой образованности эти две ориентации сливались в одну. Что же до третьей вероятной цели образования — предоставить молодежи средства и понимание, чтобы те сами могли усваивать мудрость старших и, получив от них знания, идти дальше, — такие соображения не принимали в расчет даже файлясуфы и суфии, равно как никто и ни в одном средневековом обществе.
Такой подход имел два последствия, которые современному человеку могут показаться странными. Во-первых, образование воспринималось в обществе как обучение законченным и легким для запоминания утверждениям и формулам, которые можно было выучить, не осмысливая. Утверждение могло быть истинным или ложным, и сумма всех истинных утверждений являлась знанием. Можно было добавлять что-то новое к доступной сумме истинных утверждений, полученных из усвоенного наследия, но от ученика никто не ждал, что он по-новому осмыслит старые истины, модифицирует или упразднит их. Поэтому актуальное знание, ильм, в противовес общеизвестным фактам (которые были известны даже неграмотным как результат их жизненного опыта), подспудно воспринималось как статичная и законченная сумма суждений, несмотря на то что еще не все потенциально важные знания были известны людям в конкретный период. Образование означало внушение как можно большего количества подобных утверждений в как можно более правильной форме. Но самой правильной формой, естественно, была та, в которую их облекал самый образованный авторитет, хотя для пущей удобоваримости для широких масс их могли перефразировать более понятным образом другие образованные люди. Следовательно, знание, в принципе, являлось фиксированным сводом утверждений; но, кроме того, его аутентичность ставили в зависимость от мнения ограниченного числа выдающихся личностей, чей авторитет не подвергался сомнению — по крайней мере, учениками.
Эрнст Р. После молитвы
Подобный подход соответствовал позиции улемов того времени, привыкших ссылаться на великих имамов фикха и калама, а главное — на историческое откровение Мухаммада и подтверждение его содержания авторитетными хадисами. Это могло противоречить духу файлясуфов и суфиев, даже самых банальных, на разные голоса твердивших о том, что истину можно с каждым поколением открывать заново. И все-таки этот подход был настолько привычным и удобным, что к нему прибегали в обучении мюридов даже файлясуфы и суфии, независимо от степени эзотеризма их доктрины. Влияние этого подхода ощущалось на уровне ведущих гуманитарных наук: стало принято писать даже самые оригинальные трактаты в форме комментариев к авторитетным ранее написанным трудам. Иногда трактаты были не просто объяснением или развитием изложенных мыслей; скорее они походили на современные рецензии на ту или иную книгу — иногда принимая характер опровержений и опровержения этих опровержений.
Господство данного подхода к обучению, даже среди тех, от кого можно было бы ожидать враждебного к нему отношения, становится более очевидным в свете второго следствия консерватизма, состоявшего в том, что образование было, прежде всего, нормативным в своей цели. Наследие высокой культуры, главным образом, диктовало образ действий: оно объясняло честному человеку, для чего тот родился на свет, а (особенно) праздному — ради чего Бог освободил его от необходимости трудиться подобно крестьянину Даже в ремесленных традициях подмастерьев учили тому, что надлежало делать и как: требовалось приблизиться к установленному уровню — но и, несомненно, обучиться маленьким хитростям, необходимым для выживания. Но считалось, почти по определению, что нормы надлежит получать от авторитетов, проверенных временем и опытом поколений, и отдельно взятый человек не мог нарушать их в зависимости от своих капризов.
В медресе признание вероятной легитимности определенных философских наук не подразумевало обучения эмпирическим фактам. Ни улемы, ни файлясуфы не считали накопление эмпирических знаний вследствие наблюдения за природой конечной целью ученого. Информацию о принципах действия тех или иных вещей, в целом, и происходящих в те или иные моменты явлениях все-таки собирали. Но она всегда имела строго определенное назначение: она служила либо техническим целям определенного ремесла — скажем, дубления кожи или морского дела, для которых нарабатывались определенные знания по химии или географии, — либо установлению более широких норм человеческой жизни в целом. Именно последняя цель интересовала образованного человека. Все дисциплины, обычно преподаваемые в медресе, были нормативными: право, грамматика и теология (надлежащее представление о том, как следует верить, чтобы быть спасенным) определенно являлись таковыми; описательные положения о хадисах или об иснадах пересказчиков носили вспомогательный характер по отношению к этим ведущим предметам. Но нормативными по своему уклону были даже музыка и астрономия; они были посвящены преимущественно очерчиванию идеальных правил естественной гармонии, тому, как следует функционировать человеку и всей Вселенной. Они донельзя были наполнены математикой или силлогизмами и почти не учитывали причуд объективной реальности. Движение звезд, не зависевшее от материальности подлунного мира, создавало образ космического порядка; движение облаков на это претендовать не могло, и посему игнорировалось. (Как мы уже видели, это было актуально и для Запада с его иерархическим строем, хотя отдельные области знаний по-иному использовались на общественных должностях.) В подобной схеме этика и право с легкостью заняли центральное место.
У современного читателя, внимательно изучающего самые уважаемые научные труды того времени (не только в исламском мире), может возникнуть ощущение, будто они ничем не примечательны: они не расскажут ему почти ничего нового о мире, в котором жили и живут люди во все времена, — скорее, они полны информации или рассуждений, важных только тем, кто начинает свой путь мусульманина (или христианина, или индуса). Этим духом проникнуты все труды по фикху, грамматике и апологетическому каламу; но он не чужд и философским трудам. Читателю следует учесть много посылок, прежде чем изложенные в них аргументы наполнятся для него смыслом, поскольку намерение авторов — прежде всего, установить, что правильно и должно, а не описать то, что есть.
Это может помочь современному читателю обдумать аналогию с современной нам системой образования. Сегодня наметилась мощная тенденция следовать модели, обратной средневековой. Мы обучаем только фактическим, эмпирическим, а не нормативным дисциплинам. В США, по крайней мере, курсы по этике, логике и праву исчезли из расписания светской средней школы и даже колледжей. Курсы по философии, как правило, представляют собой историю философской мысли. Религия почти запрещена, как спорный предмет. Даже грамматику обычно делают описательной, а не предписывающей дисциплиной. В наших стандартных словарях просто записаны слова, используемые в устной или письменной речи образованных кругов, и редкий их автор осмеливается предположить, что конкретное словоупотребление, пусть и менее распространенное, предпочтительно с функциональной точки зрения.
Но это не потому, что мы считаем нормы несущественными. Мы не думаем, что все подходы к структуре языка одинаково удовлетворительны: мы знаем, что одни грамматические системы позволяют гибче и точнее определять языковые явления, чем другие. Мы знаем теперь, что одни семантические комплексы — и, следовательно, способы употребления слов — в меньшей степени способны ввести в заблуждение, чем другие. Так же обстоит дело с логикой, этикой и философией: мы знаем, что они занимаются сложными проблемами, которые неподготовленный ученик может упустить из виду, сколько бы ни размышлял, а посему имеет смысл их преподавать. Но мы, видимо, утратили надежду на то, что формальная система образования хоть как-то в этом поможет — если, конечно, дело не в том, что мы просто боимся занять позицию, с которой кто-то будет не согласен. Возможно, если посмотреть глубже, нашему подходу благоприятствует (и почти обуславливает его) потребность в технической специализации и непрерывных инновациях, имеющих место в наше время. В любом случае, по сути, остается либо воспринимать нормы как данность (в случае со здравыми умами), либо черпать их из неспециальной литературы, особенно художественной, либо обучаться им у специалистов, склонных к какой-то одной точке зрения и имеющих сомнительный авторитет — например, у проповедников. А некоторые учителя под видом норм преподносят факты.
Соответственно, средневековый упор на нормы не подразумевал непонимания важности эмпирических знаний. Но, вероятно, осознавая, насколько ограничен надежный запас наличных фактов и насколько эти факты противоречивы, ученые отчаялись устранить из преподавания естественных наук и истории неопределенность и противоречия. Они часто оставляли голые факты, которые мог наблюдать каждый, самостоятельному анализу учащегося; либо он мог почерпнуть их из общих предметов, подобных истории, не требовавших особого академического преподавания; либо о них рассказывали специалисты в областях, не требовавших высокого интеллектуального уровня — торговцы, мореходы или ремесленники, — тем, кто в этом нуждался. И такие эмпирические знания, важные для определения закона, истины или космической гармонии, должным образом систематизировали только лучшие учителя.
Образование, понимаемое широко, не ограничивалось стенами медресе. В каждом ремесле (и в сельском хозяйстве) была своя система ученичества. В более простых или распространенных случаях (таких, как земледелие) она практически сводилась к тому, что сын вырастал под опекой своего отца. В более сложных или специализированных случаях (например, в производстве некоторых дорогостоящих товаров) процесс обучения часто был официальным и длительным. Модель обучения подмастерья являлась нормой для большинства видов обучения: борцы и врачи, переплетчики, художники и фармацевты одинаково изучали свою специальность, будучи учениками специалиста. Однако публичному администрированию в основном обучались не столько методом ученичества, сколько «тренировкой на рабочем месте». Военному делу учили примерно так же, хотя к этому прибавлялись специальные упражнения и игры юношей, отобранных для военной службы, у которых были наставники по боевым искусствам — например, стрельбе из лука. Богатые семьи прибегали к услугам частных учителей для обучения своих детей более гуманным наукам, главной целью которых было привитие хорошего вкуса. Речь идет о каллиграфии, рисовании, персидской поэзии и тому подобном. Такое относительно стандартизированное учреждение, как медресе, подходило только для изучения ограниченного круга книжных и особенно шариатских — религиозных наук.
Именно в медресе нечто подобное общей науке о социуме (в отличие от специализированных профессиональных знаний или жизненных позиций) было поднято на уровень формального обучения. Фундаментом преподавания в медресе были дисциплины, основанные на «передаче» и, следовательно, на использовании арабского языка; то есть шариатские науки, имевшие целью поддержание общественного порядка. Другие науки, в равной степени нормативные, но менее важные для обеспечения повседневного порядка в обществе, считались вспомогательными (и назывались «неарабскими», так как не опирались на исламское откровение)[298]. Все, от простолюдина до вельможи, должны были иметь хотя бы поверхностные знания в науках, преподававшихся в медресе. Как минимум, знаний должно было хватать для совершения намаза (специальной подготовки для которого не требовалось). Однако обучение такого рода было доступно широкому кругу населения. В каждой приличной деревне был свой мактаб, школа Корана; там мальчики, которых можно было освободить от неотложных работ в поле — хотя бы один мальчик из каждой не слишком нищей семьи, — учили наизусть Коран или отрывки из него на арабском методом механического запоминания (независимо от того, какой язык был для них родным; хотя даже мальчиками, говорившими на одном из диалектов арабского, классический язык Корана воспринимался практически как иностранный). Их учили узнавать и писать арабские буквы, которыми он был написан; иногда им объясняли смысл заучиваемых слов. Таким образом, смышленый мальчуган мог приобрести в мактабе навыки чтения и письма и даже некоторое представление о классическом арабском языке. Мальчик, выучивший наизусть весь Коран и заслуживший репутацию хафиза — «знающего наизусть», — вероятнее всего, в процессе мог научиться гораздо большему. Потом такой мальчик шел в ближайшую медресе, если его семья могла позволить себе обойтись без его труда. Медресе финансировались на средства от вакфов; мальчик ежедневно получал достаточно хлеба для выживания и мог в случае необходимости ночевать в медресе или в мечети.
Счастливы были те немногие семьи, в которых все мальчики могли учиться в мактабах, но самые счастливые жили там, где Коран могли изучать и девочки — только дома, в частном порядке. И все-таки даже в позднем Средневековье, когда от прежней терпимости мусульман к назначению женщин на общественные посты не осталось и следа, женщины тем не менее становились выдающимися преподавателями религиозных дисциплин. Тонкий знаток права Ибн-Таймийя, в числе других, учился в Дамаске у женщины.
Даже в медресе основой обучения было механическое заучивание стандартных учебников, которые затем мальчик пытался осмыслить, как только начинал понимать слова. Зубрежка прекрасно подходила консервативному обществу, где пределом мечтаний было минимизировать упадок, неизбежный с приходом нового поколения. Она особенно пришлась ко двору в самом публичном секторе образования, где увековечивалась социология в самом общем ее смысле, поскольку здесь сохраняли дисциплины, лежавшие в основе общественного порядка в целом.
Вся система обучения в обществе аграрного типа, начиная с домашнего обучения маленького ребенка, функционировала не только для того, чтобы привить определенные навыки, но и для снижения возможной восприимчивости человека — как моральной, так и интеллектуальной: слишком пытливый и изобретательный ум, слишком чувствительная и щедрая натура могли представлять опасность для общества, в котором ограниченные ресурсы защищались посредством тщательного уклонения от риска, связанного с экспериментами, и внушением преданности определенным узким группам. Умники или праведники могли бы реорганизовать жизнь общества, так что оно отказалось бы от подобной жесткости; но обилия гениев и святых не предвиделось, а непродуманные эксперименты могли обернуться катастрофой. Соответственно, деградация личности была не просто результатом игнорирования общества, в ней была своя польза. Подчинение детей родителям не только льстило самолюбию сильнейших и внушало необходимость следовать устоявшейся практике, но способствовало развитию привычных страхов — величайших врагов интеллектуальной или моральной открытости — хотя последнее его следствие люди не осознавали. Сексуальные запреты действовали не только с целью поддержания порядка и соблюдения тайны в самой личной и взрывоопасной из сфер самоутверждения человека, но и для подавления скрытой агрессии, способной нарушить групповую и межгрупповую дисциплину. Обнаружилось, что в некоторых современных деревнях Египта детей систематически наказывают за то, что те дают волю воображению. Вполне возможно, что подобный механизм был распространен в деревнях аграрной эпохи. Неосознанно (кроме тех случаев, когда мальчиков учили быть «твердыми духом» и не терпеть «всякой чепухи»), но по понятным функциональным причинам в процессе обучения все делалось для того, чтобы ребенок не мог, вырастая, превратиться в человека, образ которого представлен в диалогах Сократа или в Нагорной проповеди.
Этот принцип проявлялся в мактабах в форме зубрежки, в результате которой ребенок учился ни о чем не думать самостоятельно, и в форме регулярного использования розог для битья любого, кто не сумел соблюсти все правила в их мельчайших деталях. К тому времени, когда мальчик попадал в медресе, он воспринимал зубрежку как данность. Одаренный парень, обделенный хорошей памятью, считался недоумком; таким, по всей вероятности, дальнейшая дорога к знаниям была заказана. Необходимость в розгах уже отпала; было достаточно сарказма со стороны учителя или одноклассников. Шариатская традиция сама по себе не была особенно ретроградской; ей это и не было нужно. Таким образом, защитные механизмы бытовой культуры самым серьезным образом влияли на высокую культуру в самом ее средоточии.
Такого рода подготовка укрепляла консервативный настрой в самой основе обучения. Всевозможные учебники облекались в стихотворную форму, чтобы легче было запомнить, и даже зрелые ученые наивысшие похвалы получали за то, что могли без запинки читать наизусть огромные тексты. Однако человеку свойственна не только податливость, но и упругость. Наряду с зубрежкой общепринятых учебников, даже на эзотерическом уровне, существовали и другие формы обучения; они были способны разжечь искорку интеллекта в тех, в ком первая стадия их учебы не успела убить способность мыслить. Самой распространенной формой было толкование важной книги, строчка за строчкой. Все книги писались от руки и обычно изобиловали ошибками переписчиков — не считая неясности манеры арабского письма, которая в своем обычном варианте опускает некоторые краткие гласные и второстепенные сочетания согласных — для устной традиции было необходимо сопровождать книгу комментариями, если ее следовало знать слово в слово. Это мог сделать учитель, который, как правило, сам слышал комментарии к книге от других. Он пользовался случаем, чтобы прокомментировать и дать свою оценку, иногда предлагая обсуждение затронутой темы. В таких ситуациях было обычным делом задавать вопросы учителю по сложным моментам, и временами вопросы порождали дискуссии и даже бурные споры. Здесь требовалось быстро соображать, хотя учитель мог попросту выдворить слишком бойкого студента.
Когда ученик заканчивал читать книгу с учителем и тот оставался доволен тем, как хорошо его подопечный знает верное прочтение текста и понимает его смысл, наставник выдавал ему сертификат, иджазу, удостоверявшую сей факт и дававшую ему право самому преподавать толкование этой книги другим ученикам. Предполагалось, что такие иджазы образуют цепочку взаимосвязей (подобную иснадам хадисов или сильсиле в суфийском тарикате), которая начинается с автора книги (он же — ее первый комментатор). Однако иногда учитель мог выдать иджазу просто в знак признания высокого общего уровня знаний и способностей ученика, даже если он не дочитал обсуждаемую книгу до конца. Таким образом, выдающемуся уму придавали внешние атрибуты консервативной респектабельности, не заставляя его тратить усилия на незначительные подробности в изучении текста. Иногда иджаза, как и любой титул, обесценивалась. Некоторые ученые утверждали, что получили иджазы у давно почивших авторов во сне, и к подобным заверениям относились спокойно. Другие иджазы могли выдаваться просто в знак почтения — например, когда ученый выдавал ее маленькому сыну друга, которому хотел угодить.
И ученики, и учителя много путешествовали в поисках новых интеллектуальных возможностей или новых областей знаний, которые требовали изучения. Иерархии медресе не существовало, но некоторые центры обладали ведущим положением в регионе и привлекали учеников и гостей издалека. Гораздо позже Бухара стала крупным центром изучения шариатских дисциплин, и ее репутация привлекала студентов со всех тюркских земель к северу от нее и из других регионов. А Каир с его мечетью Азхар был крупным центром для восточных арабских земель и для многих мусульманских регионов юга (последователи арабских традиций иногда приписывают мечети Азхар главенствующее положение во всем мире, чего у той никогда не было). У шиитов-двунадесятников бесспорным авторитетом в последние века пользовался Наджаф в Ираке, с его множеством маленьких заведений, а прежде не менее значимой была Хилла (недалеко от Наджафа). Но даже такие центры никогда не имели исключительного приоритета над другими, и большую их часть рано или поздно затмевали новые центры в том же регионе. Те, кто хотел учиться, посещали и менее известные центры.
В центральных мусульманских землях, которые находились в выигрышном положении благодаря не только циркуляции населения между ними, но и приезду людей из отдаленных регионов, было особенно трудно избегать конфронтации нескольких противоречащих друг другу традиций. Ученики, способные и не очень, старались познакомиться с разными точками зрения на ту или иную проблему. Устраивались публичные диспуты между известными учеными; первый, кто не смог парировать аргумент соперника, признавался побежденным, даже теми, кто поддерживал его взгляды и считал, что выигрыша достоин сильнейший. Влияние консервативного духа проявлялось в таких диспутах: процедура проходила согласно принципу о том, что из двух конкретных позиций одна непременно верна, а вторая — ложная. Как и в современной парламентской процедуре, никто не ожидал, что в результате обмена противоположными мнениями выстроится непредвиденная новая синтезированная позиция; изменения, в лучшем случае, происходили в виде одной-двух поправок с учетом конкретных замечаний или заменой на какую-то третью позицию, высказанную следующим ученым, бросившим вызов победителю. В любом случае, для экспромтных диспутов требовались большие знания и прекрасная память. Тем не менее в них быстро проигрывали те, кто мог похвастаться только хорошей памятью (которая так поощрялась системой зубрежки). В них явное преимущество отдавалось процессу взаимодействия и диалога, необходимых для выживания любой традиции.
Индийские улемы. Гравюра XIX в.
У ученых, которые лучше других умели толковать книги, провоцирующие споры, был менее тяжелый способ достичь аудитории. Продавцы книг размещали свои лавки около медресе и продавали все, что могло привлечь покупателей, независимо от того, считалось ли содержание книг ересью. Как только автор завершал рукопись, ее под диктовку размножали несколько переписчиков. Переписчиками могли быть собственные ученики автора, а также работники или рабы книготорговца. Чтобы добиться более точной передачи, чем могла обеспечить диктовка, состоятельный человек нанимал ученого, который копировал рукопись с качественного, более старого варианта, предпочтительно автографа автора (если таковой возможно было найти); или какой-то ученый делал копию для собственных нужд. Такие экземпляры подписывались и высоко ценились. Правители и состоятельные граждане, а также мечети и медресе с их деньгами от вакфов любили коллекционировать надежно подтвержденные экземпляры авторитетных трудов и часто не ограничивались трудами, получившими одобрение улемов. Иногда книги писались с намерением не вызвать подозрений блюстителей шариата или гнева власть предержащих, но при этом их целью было стать основой для новых смелых открытий, благодаря которым они со временем получили бы всеобщее признание. Именно так, к примеру, в позднем Средневековье в обществе постепенно стали высоко цениться идеи фальсафы.
Суннитское и шиитское представление об истории ислама
Образование в медресе поощряло (и было призвано подтверждать) широкое признание среди мусульман общих доктрин о мировом устройстве. Как минимум, в определенных сферах оно успешно с этим справлялось в соответствии с духом консерватизма.
К концу раннего Средневековья многообразие типов обучения и религиозных образовательных учреждений в период высокого халифата выкристаллизовалось в три основных направления, три традиции исламской религиозности, каждая из которых имела собственных выразителей, но в определенной степени присутствовала в духовной жизни все большего числа мусульман параллельно с двумя другими. Шариатизм — будь то его суннитская или шиитская форма — признавался всеми остовом ислама народных масс. Но чаще всего он сочетался (в разных пропорциях, в зависимости от конкретного человека или группы) со вторым направлением, суфизмом — как минимум, в его более или менее выраженных формах в том виде, в каком они закрепились в народе. Наконец, алидский лоялизм был распространен не только в ярко выраженных шиитских сектах, но и у многих течений суннизма, поскольку с широким принятием суннизма населением в первой половине Средних веков сохранилось и наследие шиитов.
Алидский лоялизм выражался в особом почете, оказываемом всем Алидам-Фатимидам, и особенно главным фигурам линии Джафаритов, — равно как и в других, менее явных вещах. Суннитские теоретики выделяли «достойный шиизм», который не подлежал оспариванию: суть такого шиизма формулировалась в тезисе о том, что лучшим из людей после Мухаммада был не Абу-Бакр (которого обычные сунниты считали избранным со стороны джамаа), а Али, но Абу-Бакра и Омара не следует порицать. Однако шиитское наследие заключалось не только в этом. Его важнейшим выражением стало всеобщее ожидание прихода Махди, потомка Мухаммада, желательно носящего его имя и имя его отца (Мухаммад ибн Абд-Алла), который восстановит справедливость в мусульманском сообществе и в мире перед концом света; и, что так или иначе связано с вышесказанным, особое почитание личности Мухаммада, которой (во многом благодаря суфийским мыслителям) придан метафизический статус как проявлению космического Мухаммадова Света[299].
Параллельно с этими тремя специфически исламскими традициями личностной ориентации развивалась та, которую мы можем назвать фаль-сафизмом: представлением о структуре мира как о рациональном единстве, а о жизни человека — как о его гармоничной реализации. Эта тенденция не ограничивалась одной только фальсафой, но часто сочеталась с весьма специфической исламской религиозностью и особенно — с суфизмом, приверженностью Алидам или с обоими течениями сразу.
Шариатское направление (с учетом влияния на него остальных) было единственным, авторитетность формулировок которого признавалась абсолютно всеми и с которым обязаны были считаться представители всех остальных. Оно представляло собой модель легитимации в обществе и единственное из всех было в полной мере экзотерическим, и в соблюдении его доктрин нашел свое полнейшее воплощение дух консерватизма. Улемы любили заявлять, что эти доктрины всегда соблюдались истинными мусульманами — вначале внутренне, впоследствии подчеркнуто своими действиями, поскольку с появлением ереси это стало необходимостью. Тому, что различные почитаемые фигуры — такие, как аль-Хасан аль-Басри и Абу-Ханифа, — казалось, не были «ортодоксальными» в понимании более позднего шариатского суннизма, было найдено оправдание: первая «ересь» всегда приписывалась кому-то другому, а великие очищались от того, что улемы могли посчитать клеветой завистников.
Есть превосходные ученые, для которых все культурные феномены — по крайней мере, все «аутентичные» — это проявления того или иного культурного целого. В таком целом неважно, когда впервые формулируется та или иная деталь, так как ее смысл определяется только ее положением в едином целом. Всю литературу конкретной традиции или комплекса традиций следует читать как единое собрание, где каждое отдельное произведение нужно понимать в свете всех остальных. Культурное целое можно воспринимать как принадлежащее одной расе или религии, одному племени или народу. В любом случае, культурная жизнь — свойство этого целого, а не его индивидуальных носителей, или, скорее, его продуктов. Все конкретные проявления — всего лишь вариации традиционных, древних архетипов — мифов, представлений или институтов. Если обнаруживаются очевидные несоответствия или отдельные отклонения, которые нельзя понимать как ситуативные вариации, их следует относить к вырождающимся смешанным формам, результатам влияния извне или случайного «заимствования»; но даже заимствование происходит в большей степени на поверхности, поскольку чуждый материал усваивается только в качестве вспомогательного для местной модели или развивающего ее.
Этот взгляд на культурную реальность вызывает ряд вопросов (например, в какой именно момент эти на первый взгляд, вечные культурные сущности возникают и где их зчатки находятся до наступления этого момента?). И все же, предполагаю, этот подход заслуживает не меньше внимания, чем тот, который старается выяснить, кто из людей совершил то или иное действие, когда и почему (и который больше соответствует моему собственному). Не всегда есть противоречие между тем, чтобы считать конкретную традицию единым ядром, и каждую ее фазу тем или иным образом обусловленной всеми остальными; рассматривать традицию как развитие во времени, накопление реакций человека на новые и новые ситуации, но всегда исходя из того, что происходило раньше. В любом случае (как говорилось во Введении), даже исламскую цивилизацию можно представить как единое целое. Постепенно все элементы того, что мы называем исламским наследием, можно ретроспективно рассматривать в любой конкретный момент как формирующее единую различимую конфигурацию тем и контртем, так как, на самом деле, все различные субтрадиции во все времена должны считаться друг с другом. Тем не менее необходимо осознавать обстоятельства и угол зрения любого ретроспективного анализа. Здесь мы рассмотрим суммирование определенных аспектов наследия, производимое не с точки зрения ученого, а с позиции фанатичного поборника.
Лишь постепенно, по мере того, как на вопросы, поднятые предыдущими поколениями, находились ответы, прежнее многообразие интерпретаций в сочетании с обостренным чувством истории уступило место стандартизированным, созвучным шариату версиям великих событий мусульманского прошлого и, следовательно, исламской ортодоксальности. К XIV веку сформировался образ пе varietur[300]. Среди суннитов для придания достоверности этому образу, как сформированному в итоге представлению о сообществе в целом, привлекался принцип иджмы; в дальнейшем это обязывало, сколько бы почтенные ученые в прежние времена ни напоминали о сомнениях по поводу тех или иных моментов. Соответствующий принцип превалировал даже среди некоторых шиитов.
Бабур как идеальный правитель. Иллюстрация из «Бабур-наме»
Теперь шариатизм насаждался среди суннитов при помощи всеобъемлющей доктрины таклида — признания авторитета. Таклид изначально означал признание авторитета отдельного ученого человеком менее образованным. Как мы уже видели, существовало естественное убеждение, что в вопросах религиозного права рядовой мусульманин должен следовать мнениям улемов, которым он доверял, не пытаясь самостоятельно понять некоторые моменты исходя из своих несовершенных знаний всех текстов, имевших отношение к конкретному делу. Это скоро распространилось и на зрелых ученых, которые, как правило, должны были исполнять волю авторитетных представителей своего мазхаба, а не придумывать что-то новое сами. К XI веку многие думали, что даже величайшие ученые обязаны так поступать. Хотя такое представление оспаривали люди, подобные Газали и прочим, как безосновательное препятствие для выполнения личного долга специалиста, его в целом придерживались во имя стабильности в сфере правовых стандартов. В позднем Средневековье торжество таклида подкреплялось утверждением стандартных компиляций в рамках того или иного мазхаба.
Как только сунниты решили, что «дверь иджтихада (самостоятельного исследования) закрыта», шариатская мысль тут же приспособилась. К началу позднего Средневековья количество официальных суннитских мазхабов, к одному из которых обязан был принадлежать каждый ученый-гуманитарий, свелось к четырем: кроме шафиитов, ханафитов и маликитов, признавались еще ханбалиты, хотя их численность была весьма низкой. (Каждый мусульманин обязан объявить о принадлежности к тому или иному мазхабу и следовать своему выбору; метания от одного мазхаба к другому не одобрялись.) Когда внутри мазхаба возникали разногласия, ученые должны были подчиняться позиции большинства представителей этого мазхаба (а не большинства среди всех мусульман). Когда большинство теоретиков определенного мазхаба в том или ином поколении приходило к единой позиции, именно она становилась обязательной для следующих поколений. В то же время ожидалось, что представители одного мазхаба будут учиться чему-то у других официальных суннитских мазхабов; и постепенно в мазхабах стали появляться схожие мнения по многим пунктам фикха вследствие знакомства их представителей с положениями мазхабов их коллег. (Малозначительные различия, которые все же оставались, иногда становились причиной массовых беспорядков.) Поскольку все основные разногласия (в принципе) разрешились довольно давно, с каждым новым поколением количество важных неразрешенных проблем снижалось. Нам следует помнить, что на практике, разумеется, сборники фетв позволяли закону быть гибче, чем могло показаться.
Этот процесс разрешения проблем самого шариата можно рассматривать как типичный пример фиксации моделей, имевшей место в том секторе культуры, чьим ярчайшим выражением является шариат. До некоторой степени, все области шариатской религиозной мысли развивались по схожим принципам. Такие же принципы были свойственны многим суфийским идеям и практике; такие вещи, как обряд посвящения, притязания на принадлежность к определенной сильсилье и учение о последовательности духовных состояний, были более или менее стандартизированы. В каламе определенные позиции, занимаемые ашаритами и матуридитами, признавали и все остальные. Примечательно, что мутазилизм у суннитов в итоге угас (а противоположное ему учение угасло среди шиитов). В этом смысле в сфере религиозных наук консерватизм обрел форму религиозной догмы; и суфии охотно соглашались со всеми предписаниями шариатских улемов как с внешними аспектами религиозности.
Разумеется, консенсус не сводился исключительно к вопросам права и теологии. Он проявлялся и в космологии, и, прежде всего, во взглядах на историю, хотя здесь догмы блюлись не слишком строго. Земля являлась лишь одним из многих царств бытия: были еще ад и небеса, и, как у христиан, небеса ассоциировались с раем, куда его обитатели попадали только после Страшного суда. Как явствует из распространенного образа, на небесах жили ангелы, слуги Бога, и (на самом высоком небе) сам Бог, восседавший на троне, превосходящем по размерам все небеса и весь мир, вместе взятые. Ангелы сопровождали каждого человека, записывая все его хорошие и плохие поступки и пробуждая все лучшее в нем. Демоны, напротив, соблазняли людей на греховные поступки.
На земле было два вида разумных существ: люди и джинны. Джинны, как правило, были невидимы, но могли вмешиваться в дела людей (некоторые авторы трудов по фикху весьма серьезно воспринимали такие вопросы, как определение статуса брачного союза между человеком и джинном). Они ассоциировались с духами, которых много в фольклоре любого народа, и любое суеверие можно объяснить их благосклонностью или (чаще всего) желанием напакостить. (С другой стороны, природные божества доавраамических традиций, все еще игравшие аллегорическую роль в христианской Европе, в ирано-семитском мире исчезли без следа и поэтому не могли способствовать увековечению природных мифов в литературе.) Люди жили в семи странах света, которые ученые связывали с разными широтами, от экватора до полярного круга, но в воображении народа и в литературе эти страны связывались с разными расами, распределенными в виде колец, с Меккой в центре. По окружности пролегал омывающий землю океан; за ним, на внешнем краю земли, находилась великая гора Каф, где могли происходить самые невероятные вещи.
История начиналась с Адама, первого человека и первого пророка, отождествляемого с первочеловеком в древнеиранских традициях. Иранские монархи (первочеловек был первым из них) один за другим правили до появления ислама в центре земли, и еще жили на этой центральной земле арабы-бедуины и их предшественники — частично отождествляемые с библейской генеалогией, — в самой Аравии. Библейская и иранская традиции слились, и бок о бок с иранскими шахами возникли библейские патриархи, понимаемые как пророки, каждый из которых нес истинный ислам своему поколению. Ислам становился естественной верой каждого новорожденного; однако родители портили детей, внушая им придуманные верования, поэтому пророки должны были восстановить истину. Рядовой пророк, наби, мог появиться в любой момент, и таких пророков было множество в любом народе на земле. Но великий пророк (расуль, «посланник») приходил лишь изредка, принося новый шариат и основывая новое общество; величайшими из них были Адам, Ной, Авраам, Моисей и Иисус.
Именно в эти первые века человечество учили и магическим, и легитимным наукам. В те времена произошло много великих событий, как у персов и арабов, так и у других народов — в частности, у греков и индийцев, известных своей философией (в то время как китайцев уважали за их ремесленные искусства и умелое управление государством). Но по мере приближения времени Мухаммада истинный ислам, носителями которого были в основном последователи Моисея и Иисуса, исказился, за исключением тех немногих образованных и преданных людей, кто с нетерпением и проницательностью ожидал нового пророка: он принесет с собой окончательное и самое полное откровение, и его умма наполнит весь мир и никогда не утратит истинной веры.
Несколько поколений до прихода Мухаммада, джахилий, были временем темного невежества и аморальности во всем мире, и особенно в Аравии. Персидское правительство следовало уважать, и монарх-Сасанид, Ануширван, воспринимался многими как образец справедливого правления (правда, по этому поводу не существовало должной иджмы). Однако его преемники, последние Сасаниды, правили отвратительно. Несмотря на то что христианство являлось лучшей из существовавших на тот момент религий, его писания, равно как иудейские, умышленно искажались, особенно в плане обожествления Иисуса и изъятия указаний на Мухаммада. А христианские римские императоры были гордыми тиранами. В Аравии, несмотря на то что арабы являлись благороднейшим народом, идолопоклонство и несправедливость преобладали, вопреки усилиям отдельных людей (ханифов), которые отстаивали правду и предвидели появление Мухаммада. С его приходом все изменилось. В самый момент его рождения зажегся такой свет, что его увидел сам Ануширван в своем дворце.
Главной миссией Мухаммада было принести человечеству вечный Коран, только фрагменты из которого давались другим пророкам. Сначала полную версию Корана получил Гавриил, который передал его по частям. В Коране содержались все законы шариата, хотя его следует толковать с помощью хадисов, также представляющих божественное откровение. Таким образом, шариат возвращал человечество к праведности.
Охота. Средневековая персидская миниатюра
Но Мухаммад был не просто инструментом Бога, передающим Его откровения. Он был любимцем Бога и главным средством донесения Его любви и благословения человечеству. Благодаря не только шиитским, но и суфийским учениям почти все сходились во мнении, что священный Свет, который являлся сутью Мухаммада, был первым, что создал Бог, и что все остальное создавалось посредством его славы. Все пророки оказывали ему почести и предсказывали его появление. Его жизнь стала чередой чудес. В детстве, например, его присутствие принесло процветание племени, к которому принадлежала его кормилица (когда его, согласно мекканскому обычаю, отдали бедуинской кормилице на воспитание). В юности он всегда старался вести себя достойно и пользовался таким уважением, что мекканцы выбрали его для выполнения почетного задания — водрузить священный Черный камень на его прежнее место в стене Каабы, когда ее перестраивали. Во время путешествия с караваном в Сирию его сверхъестественным образом сопровождала тень, защищавшая его от зноя, и один монах узнал его по отметине пророка между плечами. С началом пророческой деятельности чудеса, связанные с ним, преумножились. Самое известное из них — разделение луны в небе, чтобы можно было увидеть звезду, сиявшую между двумя половинками; туманная ссылка на эту историю содержится в стихах Корана, и сама она впоследствии послужила довольно сомнительным объяснением символа мусульманской Османской империи, полумесяца со звездой между концами. Во время хиджры, когда Али лег вместо него в его постель[301], а мекканцы ждали его, чтобы убить, Мухаммад прошел мимо своих врагов незамеченным; и, когда он прятался с Абу-Бакром в пещере, паук быстро свил паутину на входе в нее, дабы сбить с толку преследователей. Столб мечети, на который он оперся, чтобы начать проповедь, заплакал, когда Мухаммад отошел. Баранья лопатка, которую он собирался съесть, заговорила человеческим голосом и предупредила Пророка, что мясо отравлено. В его присутствии небольшого количества еды оказывалось достаточно, чтобы накормить большую компанию.
Его видение о ночном полете в Иерусалим обросло восхитительными деталями. В сопровождении Джабраила он верхом на крылатом коне Бурака последовал из Мекки на гору Сион, где теперь стоит мечеть «Купол над скалой», потом вознесся сквозь семь небес. Поговорив по пути с главными пророками, он побеседовал и с самим Богом — на самом верху, куда не дерзал взбираться даже Джабраил. По его просьбе Бог сократил число намазов, которые должен был совершать народ Мухаммада, до вполне выполнимых пяти раз в день. В целом было принято, что, с позволения Бога, спасение всех правоверных мусульман (даже тех, кто много грешил) будет обеспечено благодаря заступничеству Мухаммада.
Такое возвышение Мухаммада говорило об упрочении общинного принципа, который меньше обращался к вечному исламу (таковой мог появиться, согласно Корану, в любой общине) и больше — к исторической общине, в которой ислам становился наиболее совершенным. К началу Средних веков другие общины казались пережитками прошлого, не имевшими особого отношения к настоящей жизни. Однако только в XIII веке лучшие суннитские теологи, наконец, признали абсолютную безгрешность Мухаммада даже в мельчайших проступках (то, во что уже давно верили шииты). Места в Коране, где подразумевается его человеческая слабость, понимались как чисто иллюстративные — призванные показать мусульманам, как им надлежит каяться в совершенных грехах. Оскорбление Пророка давно стало самым тяжким из грехов, за который казнили даже зимми (не обязанных подчиняться шариату как таковому). Он присутствовал на своей могиле в Медине и был в полном сознании; в народе ходила легенда о том, что он протянул руку из могилы, чтобы поцеловать одного из великих святых. Визит к нему в Медину считался почти таким же важным, как хадж в саму Мекку, и обычно объединялся с хаджем. В то же время, Мухаммад мог приходить к благочестивому мусульманину во снах, и Сатане не позволялось выдавать себя за него во время таких визитов. К этому моменту вся территория Мекки и Медины, мест, где прошла жизнь Мухаммада, считалась священной, и ее, как и сам Коран, не должны были загрязнять своим касанием неверные; в первые годы ислама христиане, к примеру, свободно посещали Мекку, теперь же им это было запрещено.
Суннитского взгляда на историю со времен Мухаммада придерживалось подавляющее большинство, и даже шииты на словах признавали его (по принципу такийя). Даже для суннитов на семью Мухаммада в определенной степени распространялась его святость, в частности — на потомков по линии Фатимы и Али. Сам Али являлся одним из главных героев — что резко противоречит официальному исламу во времена Марванидов, когда он был проклят, и даже во времена Аббасидов, когда нешииты редко позволяли ему находиться на одном уровне с Абу-Бакром и Омаром. Но — и здесь проходила формальная граница между шиизмом и суннизмом — большинство суннитов настаивало, что превосходство или достоинство (не считая самого Пророка) должно считаться в историческом порядке царствования халифов: Абу-Бакр был достойнейшим из всех людей, Омар — вторым после него, Усман — третьим, а Али — четвертым (хотя предпочтение Али даже Абу-Бакру считалось «умеренным» шиизмом, и на это смотрели сквозь пальцы). Потомки всех этих людей тоже чествовались определенным образом. Все, кто заявлял о своей принадлежности к курайшитам или даже — в некоторых областях — потомкам арабов, считались особенно близкими к Пророку. Но потомки Али по линии Фатимы, дочери Мухаммада (в отличие от остальных Алидов), получали специальный титул сайидов или тарифов и особые привилегии; они имели право получать средства из религиозного налога, а на их недостатки следовало закрывать глаза; в народе считалось, что их присутствие несет с собой особое божественное благословение.
В то время как отношение приверженцев Алидов к Мухаммаду и его семье получило ведущее место даже в учении суннизма, суннитская иджма все же бережнее относилась и выше ценила противоположную доктрину о святости всех товарищей Мухаммада. В частности, она гласила, что правление всех четырех первых халифов, включая Али, следовало считать образцами исламского государственного управления. (В качестве уступки шиитам Муавийя, будучи товарищем Мухаммада, не входил сюда пятым.) Войны между товарищами Пророка — особенно между Алидами и курайшитами в Верблюжей битве — не следовало судить: ни ту, ни другую сторону правоверному мусульманину не в чем было упрекнуть, поскольку обе они получили благословение Аллаха и руководствовались благими намерениями, хотя, как минимум, часть их привела к сомнительным итогам. Вина за все греховное возлагалась на таких «смутьянов», как Абд-Алла ибн Саба, которого суннитские историки считали основоположником шиизма (и которого сами шииты воспринимали как источник всех, по их мнению, экстремистских форм шиизма). Не только всем этим товарищам Мухаммада, но и всем мусульманам (у шиитов — только мусульманам-шиитам) в день Страшного суда Пророк окажет покровительство.
После первого каждое последующее поколение мусульман было, в целом, менее достойным, чем предыдущее. Однако Омейядов даже сунниты считали особенно ужасными правителями, которые безнадежно запятнали первоначально чистый ислам. Для суннитов Аббасиды были истинными халифами. В принципе, на трон халифата мог быть избран любой другой род курайшитов, но, на самом деле, самыми достойными считались Аббасиды — все время своего правления. Но после падения Багдада исламский институт официальной власти стал разрушаться еще быстрее. Сам халифат в его историческом шариатском смысле исчез (поскольку марионеточная линия Аббасидов в Каире, в целом, не бралась в расчет). Титул халифа стали применять (по инициативе файлясуфов) к любому правителю региона, который считался на данный момент главным блюстителем шариата.
Старый суфий оплакивает свою молодость. Средневековая персидская миниатюра
Для первых поколений пример Мухаммада был еще настолько живым, а сами они настолько набожными, что тщательно разработанного фикха не требовалось. Но по мере того, как события прошлого забывались, а моральные принципы нарушались, возникла необходимость в чем-то большем. Кроме собраний хадисов Бухари и Муслима, сунниты признавали авторитетными, пусть и менее достоверными, еще четыре сборника. Шииты признавали четыре книги хадисов, появившиеся немного позже. (В обоих случаях изучались и другие сборники.) Фикх был окончательно сформулирован четырьмя великими суннитскими имамами; более поздние поколения, чья деградация только усугублялась, должны были следовать исключительно одному из этих четырех — Абу-Ханифе, Малику, аль-Шафии или ибн-Ханоалю. Именно с созданием их мазхабов «ворота иджтихада» закрылись. По сути, мнения ведущих учеников каждого из имамов подстраивались под мнение самого имама. Шииты-двунадесятники, соответственно, следовали шейху Туси, но, по-видимому, не наделяли его столь непререкаемым авторитетом.
Одной из особых привилегий Мухаммада было то, что после него не будет пророков — не только расулей, которые могли бы основать новую общину, но даже простого наби (великое множество которых было в общине Моисея, или Мусы). Вместо этого существовали вали — друзья Бога: у шиитов это были имамы (и некоторые из их наиболее почитаемых потомков, имамзадэ, считавшиеся почти такими же великими); у суннитов им соответствовали суфийские святые. Вали выполняли почти ту же функцию, что и наби в древние времена: получали вдохновение Аллаха, поддерживали веру и служили проводниками, через которых Аллах посылал благословение (барака) верующим.
Существовали нормы даже для ереси, или, скорее, для отношения к ней со стороны большинства. Все признавали, что есть шесть дюжин ложных мусульманских сект, и это количество распределялось (разными авторами по-разному) между различными движениями или школами, появившимися уже во времена Омейядов или в классическую эпоху Аббасидов. Позже диссиденты ассимилировались с той или иной категорией, возникшей ранее: если человек принимал шиизм, он являлся рафидитом — шиитом-экстремистом, его считали представителем одного из гулатских течений; если признавал главенство внутреннего тайного смысла над выраженным словами откровением — попадал под категорию батинитов; худшим из всех — зиндиком — он считался, если, будучи атеистом, притворялся правоверным мусульманином. Еретиком считался тот, кто отвергал то или иное положение суннитской иджмы; но большинство сходилось во мнении, что его все равно следует считать мусульманином в юридических целях, если он соблюдает основные внешние правила (за исключением случая с зингидами). Шииты тоже осуждали 72 секты и тоже допускали, чтобы еретики (например, сунниты) носили звание мусульманина (но не «мумина» — «верующего»). Что касается неверных, зимми в границах Дар-аль-ислама превратились в презираемое меньшинство, а те, кто жил за его пределами, считались экзотическими народами, стоявшими в стороне от главных дорог истории. Нормальный мир был мусульманским.
Несмотря на закрытие иджтихада по версии суннитов, и сами сунниты, и шииты считали, что в начале каждого столетия Бог призывает одного человека (называемого муджаддидом) для возрождения исламской веры. Учение муджаддида устраняло любые заблуждения, которые могли возникнуть в мусульманской среде. Самый яркий пример такого «обновителя веры» — Газали (вызывавший восхищение даже у некоторых шиитов). Наконец, когда человечество находилось в состоянии глубочайшего упадка, справедливости не существовало нигде, а истинная вера была почти забыта, должен был появляться величайший обновитель из всех — Махди — потомок Мухаммада. Он был призван завоевать землю, восстановить ислам и править человечеством по справедливости (наконец-то восторжествовавшей). Ему противостоял Даджжаль, или Антихрист, но Иисус должен был спуститься с небес, убить Даджжаля и совершить молитву под предводительством Махди. Затем, с другими «знаками приближения Последнего часа» (такими, как восход солнца на западе), история закончится и настанет Страшный суд.
Популярному образу жизни после смерти не давалось полного рационального разъяснения. На туманную картину о спящих призраках, которые в любой момент могут зловеще пробудиться, монотеистические традиции наложили эсхатологическое ожидание конечного телесного воскресения призраков и нравственного очищения в виде радостей и страданий. Данные элементы сохранились у мусульман навсегда, а все остальные были подчинены эсхатологической концепции.
Ад, на который обречены неверные и который предназначен для вечного наказания мусульманам-грешникам, воспринимался как различные пытки огнем и жаром. Рай, итоговая награда всех истинных мусульман и, возможно, других, если Бог проявит милость к ним, представлялся как сад (а не город, вымощенный сверкающими камнями) с фруктовыми деревьями и четырьмя широкими реками — воды, меда, молока и райского, не пьянящего вина. Благословенные будут жить в роскошных шатрах, и прислуживать им будут ангелоподобные существа (вульдан); чем больше благословение, тем выше и чудеснее часть рая, в которой селится человек. Муж и жена в раю будут вместе, если это возможно; но все там в расцвете своей молодости, и мужчины могут наслаждаться гуриями, прекрасными черноокими райскими девами. Однако величайшим наслаждением в раю будут периодические визиты к Богу, лицезреть которого является верхом блаженства.
Среди сектантских шиитов превалировала та же картина, что и среди суннитов, но с необходимыми модификациями. Иногда они были весьма серьезны. Всем вопросам, связанным с высоким статусом Мухаммада и его семьи, включая Махди, они придавали еще больший вес, чем сунниты. Поэтому, возвышая исключительную добродетельность Али, они отвергали первых трех халифов и большинство товарищей Мухаммада. Таким образом, суннитский ислам, который доминировал в мире, являлся не истинным исламом, пусть даже вырождающимся; он был отступническим, и только преданное шиитское меньшинство, гонимое и страдающее, как в свое время вся семья Мухаммада, хранило истину. Соответственно, единосогласие тех, кто был мусульманином только с виду, никоим образом не определяло истину. Даже иджма у ученых, признаваемых шиитами, играла менее важную роль, а у двунадесятников иджтихад был все еще открыт для ученых шиитов вплоть до прихода самого имама в качестве Махди. И все-таки в многочисленных деталях шиитское представление почти полностью соответствовало суннитскому, и, судя по всему, в XIV и XV веках большинство ориентированных на шариат шиитских доктрин почти настолько же сильно опирались на условности, как и суннитская шариатская доктрина.
Искажения и локализмы в суфизме
Однако, несмотря на рьяный конформизм стандартных доктрин о мире и его истории, люди находили способы исследовать собственное восприятие реальности. Иногда эти способы, лишенные организованности, которая необходима для общественного признания, представляли сомнительную ценность — хотя бы как способы истинного роста в более глубокой оценке реальности; иногда они открывали значительные глубины в постижении истины. Гармония религиозного мировоззрения, которая господствовала в образованных кругах конца первой половины Средних веков, никогда не была полной, даже в том ограниченном смысле, в каком базовая ориентированность на шариат должна была дополняться всеобщим признанием суфизма тарикатов в той или иной форме. Во второй половине Средних веков даже та гармония, какая существовала, начала рассеиваться, хотя, как правило, дело не доходило до взаимных исключений и преследований и, в целом, до сомнений в верности представления об истории, которое мы описали. Свободоборческая открытость суфизма, уже отмеченная выше, и его близость к местным народным обычаям самым ярким образом реализовались во второй половине Средних веков.
Самые важные религиозные проблемы уже были предметом споров, по большей части, не между школами фикха или калама, а, скорее, внутри разных тарикатов и между ними. Отчасти это представляло собой смещение фокуса в эпоху, когда шариатские институты, будь они частью халифата или децентрализованной системы, больше не являлись отправной точкой для создания новых политических моделей. Но часто споры вызывали как раз те же извечные проблемы человечества, только теперь они облекались в суфийскую терминологию. Суфийская традиция расширялась по степени охвата проблем до той степени, где в нее влились личности самого разного склада, а с ними — самые разные, иногда несопоставимые точки зрения — настолько, насколько суфизм некогда считался несопоставимым с другими формами религиозного благолепия.
Суфии. Средневековая персидская миниатюра
Мы уже наблюдали, как члены тариката чиштийя в Индии запрещали служение на государственных постах как продажное и стремились лично помогать даже индусам. Такие настроения были типичны для чиштийи, тогда как другой распространенный тарикат в Индии того периода, сухра-вардийя (восходящий к Умару ас-Сухраварди, другу халифа ан-Насира), в целом, был менее аскетичен и (в частности) поощрял принятие правительственной должности, будучи одновременно ориентированным на шариат, более скромным в плане грандиозных теорий и менее терпимым к индусам. Можно себе представить, что, если бы друзьям аль-Мамуна, мутазилитам, пришлось выбирать между этими двумя тарикатами в новых обстоятельствах, они предпочли бы сухравардийя из-за его относительно здравой и «рациональной» трактовки суфийских идей, юридической строгости и более сильного упора на то, что политическая общность ценна и с точки зрения религии. Многие различия между тарикатами по вопросам личной дисциплины имели далеко идущие последствия. Когда речь шла о том, следует ли рекомендовать обет безбрачия, или должны ли члены тариката быть в основном странствующими дервишами или собираться вместе в ханаках, их различия подразумевали противоположные взгляды на отношение мистической жизни к религиозной жизни широких масс: до какой степени приверженцу тариката надлежит быть «специалистом в религии» и сколько представителей человечества могут стать такими специалистами, и должны ли широкие массы свободно вмешиваться в особый путь посвященных?
В суннизме того периода можно различить, как минимум, три важные тенденции. Популяризация и формирование внешнего воплощения религиозных структур, связанных с мистическим опытом, вели к таким вещам, как культивация чудес и почитание святых, которые — по крайней мере, с чисто мистической точки зрения, следует назвать искажением. И, в то время как все традиции, получающие признание, влекут определенное искажение, искажение в суфизме могло иметь особенно глубокие последствия. Затем, широкое признание спекулятивной космологии в качестве неотъемлемой части жизни суфиев связано с упором на экстатические видения и даже видения воображаемой жизни как центральные для духовного роста. Наконец, и популяризация, и упор на видения способствовали тому, что суфии больше внимания уделяли приемам относительно скорого вхождения в экстаз, иногда с использованием наркотиков. (Все эти тенденции можно назвать упадническими, но в разных смыслах. Конечно, искажение подразумевает, что среди морально разложившихся первоначальная созидательная сила традиции теряет свою энергию; но, что бы ни происходило среди популяризаторов, в других кругах — вероятно, столь же многочисленных, как в свое время древние суфии, — традиция могла оставаться по-прежнему жизнестойкой. Что же касается видений, привлекавших все больше внимания, это могло оскорбить нравственные чувства аль-Хасана аль-Басры или даже Джунайда, но вызвать потрясение какого-нибудь современного психоаналитика-юнгианца как нормальная смена фокуса традиции после того, как ее первоначальная проблематика полностью исследована.)
Как минимум, столь же важным в социальном плане было распространение шиитских версий суфизма, которые ставили многое под вопрос в самодовольной суннитской и даже в шиитской идеологии ведущих улемов, равно как в несправедливости эмиров; позже я остановлюсь на этом подробнее. Можно добавить, что самые важные достижения в шариатских дисциплинах были связаны с нападками на суфизм.
Искажение суфизма, очевидное в массах, становится труднее выделить, как только мы начинаем понимать каждое из нескольких течений, составлявших суфизм того времени, а также подлинные духовные вопросы, рассматриваемые каждым течением в тот или иной момент. Принятие желаемого за действительное, несомненная составная часть любой религиозной мысли с самого начала, становится все более значимым компонентом религиозной традиции, когда та превращается в функцию всего общества. Способы, придуманные для того, чтобы обещать избавление от несчастий, из которых в основном состоит жизнь, легко становятся основной частью любой функционирующей религии для большинства людей. Но трудно однозначно определить, в каких именно моментах желаемое выдается за действительное. (И все ли, что можно подвести под эту категорию, следует называть искажением?) Однако мы однозначно можем увидеть различимый процесс «искажения», как минимум, в одном плане: в девальвации технических терминов. Фана, «уничтожение» осознания самого себя, и бада, ее дополнение, «сохранение» осознания Бога (эти термины, некогда имевшие значение конечных состояний, иногда стали применяться в отношении сравнительно ранних стадий духовного роста). В конце концов, можно было говорить о множестве кутбов, осей космоса — относительно менее значимых фигур в расширенной космической иерархии. Однако искажение суфизма следует усматривать и в большинстве других процессов, которые мы здесь рассмотрим.
К началу позднего Средневековья стало преобладать разительное противоречие, которое, по-видимому, подразумевает искажение более ранней традиции: довольно резкое различие между шейхом ат-тасаввуфом, суфийским наставником, и странствующим нищим — дервишем. Первый предположительно вел классический образ жизни в своей ханаке, обычно в городе; второй чаще всего был свободным нищим, искателем приключений, временами скитавшимся под видом плута или вора. Искажение заметно с обеих сторон: если многие дервиши, даже будучи честными людьми, прикрывали религией страсть к путешествиям и безответственность, слишком часто оседлый пир механически повторял последовательность из заранее определенных умонастроений и стереотипных фраз. Но ни с той, ни с другой стороны традиция не вырождалась: более серьезные люди находили новые отправные точки, достойные этой традиции в ее лучшем смысле.
В частности, странствующие дервиши часто представляли собой попытку превзойти сам суфизм на уровне религиозной практики. Люди авантюрного или критического склада ума считали, что суфийская традиция развила собственные условности, собственные правила, противоположные идеалу свободы, который стремился внедрить в суфийские формы Руми. Такое отношение было почти одного возраста с организованным суфизмом, но приобрело более отчетливые очертания по мере укрепления позиций суфизма. Так возникла, к примеру, возрожденная секта маламатийя, куда входили даже жившие в одном месте пиры и основной идеей которой было самопринижение посредством отказа от традиционных суфийских знаков благочестия. Некоторые из этих людей, считавших необходимым идти к святости через унижение — невозможность продемонстрировать миру свою отрешенность от всего мирского, — объединились в рамках традиции тайной веры, которой люди должны были следовать при внешней светскости и полной непричастности к суфизму В более решительной попытке освободиться от всех внешних форм те, кто всегда настаивал на том, что в суфизме искренний и совершенный мистик (ариф, «знающий» или «гностик») стоит выше закона, теперь основали формальные традиции тарикатов наряду с более ориентированными на шариат — обычные тарикаты, но с традицией пренебрежения нормами шариата. Такие люди ценили бродяжничество и нищенство. Они не слишком отличались от остальных; на самом деле, все новые тарикаты, независимо от их позиции, были, как правило, независимыми ответвлениями старых, а не совершенно новыми образованиями. Более того, ученик почитавшего шариат пира мог занять противную шариату позицию, и наоборот. Самым знаменитым нешариатским тарикатом был каландарийя, преимущественно состоявший из странствующих дервишей. Членов этого ордена отличали особая одежда и манера бриться, но в остальном правила были настолько свободными, что вскоре он превратился просто в повод для абсолютно индивидуального (и, пожалуй, безответственного) образа жизни своих членов, а не организованное движение — даже несмотря на то, что для участников подобного движения тесные связи не обязательны.
Возникли тарикаты, главной целью которых стал уход от повседневной реальности, необязательно к более глубокому знанию, но к различным формам самовнушения и экстатической эйфории, ставшими самоцелью. (Не то чтобы они не хотели обращаться к божественному началу, просто нюансы в этой сфере всегда было трудно явственно различить.) В таких тарикатах весьма сознательно применялись наркотики с целью непосредственного воздействия на психику (хотя, вероятно, более серьезные суфии использовали их как укороченный путь к такому состоянию, которое затем можно было поддерживать какими-то более основательными методами). Дыхательные упражнения — к примеру, произнесение имени Бога определенным способом с глубоким входом — и другие приемы гипноза тоже применялись для быстрого психологического эффекта, который уже сам по себе часто был весьма приятен. Затем результаты, иногда совершенно поразительные, представлялись (в целом, искренне) как свидетельство божественного благословения. Под воздействием самогипноза суфии могли переносить очень сильную боль — им прокалывали кожу раскаленным железом или пускали по ним лошадей. Подобные подвиги способствовали росту авторитета тарикатов и стимулировали финансовые вливания со стороны тех, кто надеялся тоже получить свою долю благословения. Некоторые тарикаты особенно старались отвечать спросу публики на подобные представления — например, орден садийя в Египте. (Однако следует помнить, что ответственные суфии и дервиши выполняли свою миссию — проповедовали людям покаяние и набожность — во все времена.)
В подобной атмосфере ответственные пиры, которые не могли публично обсуждать более глубокие истины, связанные с верой, сами иногда верили в поучительные легенды о святых и их чудодейственной силе (в противовес сухой приверженности шариату со стороны улемов) и, в любом случае, охотно поощряли их распространение. Всеобщее ожидание волшебства и чудес одобряли те, кто не предполагал, что широкие массы способны подняться до понимания Истины. То, что авторитетно признано святым или священным, в сознании людей всегда связано с чудесами, будь это священные места или образы. Теперь это ожидание чуда все чаще связывалось не только с умершими святыми и их могилами, но даже с живыми адептами, о предках которых рассказывали увлекательные легенды даже серьезные ученые. К сожалению, это явление повлекло неожиданные последствия. Шарлатанам всегда легко удавалось найти благодарного слушателя; теперь им, похоже, играла на руку исламская религиозность. За чудеса выдавали магию, а магические фокусы — за долгожданные плоды аскетической умеренности. Уважаемые ордены (даже культивирование подобных представлений не являлось их главной целью) могли строить свою популярность на чудодейственных способностях своих адептов, выражавшихся в таинственных психологических или психофизических трюках. Главы таких тарикатов иногда признавали недостатки подобных действий; необразованная публика не могла отличить их от самостоятельных дервишей или факиров, чьим главным достоинством была их предположительно аскетическая неопрятность и кто писал женщинам, желавшим родить сына, магические заклинания.
Магия пользовалась все большим уважением даже в академических медресе. Уже Газали ссылался на практическую пользу различных заклинаний, хотя каким образом оказалось, что те или иные предметы обладают силой, которую им приписывали, он не знал. В ворожбе и в апотропической[302] магии — в толковании снов и знамений и способах ясновидения и заговоров (от диаграмм на песке и магических чисел до отдельных элементов алхимии и астрологии) — использовался высокий символизм, психологическая восприимчивость, так называемые парапсихические явления (например, использование детей на грани половой зрелости для поиска утерянного или украденного имущества); и, наконец, просто догадки. Излюбленным лекарством (когда более конкретные лекарства уже не помогали) были слова из Корана: соответствующая сура писалась на бумаге, затем чернила смывали в воду, а воду выпивали. Эта традиция была гораздо древнее ислама, и мусульмане хорошо это знали. Однако по мере принятия населением ислама она значительно приспособилась к нему. Особенно часто ее связывали с суфизмом. Но к позднему Средневековью ее уже в какой-то степени изучали даже шариатские улемы. Об этом было написано много трудов, и на данный момент они почти не изучены. У нас нет возможности выяснить, что именно ведущие умы считали ценным в этой традиции.
Не следует преувеличивать разницу между первой и второй половиной Средних веков. Магия стала известна очень давно, и оказалось, что в любой период существовало два самых распространенных способа (кроме проповеди), которыми пир мог добиться широкой популярности (и увеличить географическую зону, куда можно было засылать своих наместников — халифов). Это были эффективно организованная система распространения благотворительных средств, которые вверялись ему, и красиво, даже зрелищно, обставленные «сама» — прослушивание музыки, которое становилось толчком к более динамичным зикрам. Некоторые суфии все еще отказывались от сама, но публика в целом ожидала их использования. Это был самый яркий аргумент, на котором строили свои обвинения против суфизма те улемы, кто продолжал ему противостоять. А в некоторых областях враждебно настроенных улемов было много: даже в XV веке из-за нападок улемов ни один более или менее известный суфий не мог поселиться в Дели.
По мере популяризации суфизма он ассимилировался с окружающей социальной средой и с местными религиозными традициями, что было невозможно для шариатской ориентации улемов. Некоторые тарикаты были преимущественно сельскими, их святым поклонялись в деревенских храмах-усыпальницах, а их праздники согласовывались с социальными потребностями деревни. Учения таких тарикатов отличались меньшей сложностью, чем у большинства городских, и больше внимания уделяли повседневным заботам деревенских жителей. Например, у западных тюрков в Анатолии и на Балканах тарикат бекташийя создал сеть ханак в деревенской обстановке, и в стихах, которые его члены читали наизусть и распространяли среди людей, отражались практические взгляды тех крестьян, кто лучше других умел мыслить самостоятельно. В то же время бекташиты старались учитывать местные христианские и, пожалуй, даже языческие обычаи, сохранившиеся у принявшего ислам населения, — скажем, они практиковали обряд, который сравнивают с христианским причастием. В других областях схожую роль выполняли другие тарикаты. Уже в XV веке стихи суфиев, писавших на хинди, языке долины Ганга, не слишком отличались от стихов индуистских мистиков ввиду использования схожего образного ряда — хотя мусульмане, разумеется, не признавали самих индуистских богов.
Одним из популярнейших суфиев в данном контексте был Хидр, «Зеленый человек». Этим именем называли загадочного «раба Божьего», на которого ссылается Коран (не называя имени) как на учителя Моисея. Это одна из нескольких историй в Коране, которые служат отправной точкой для мифотворчества. В отличие от многих других историй, довольно нудно повествующих об опыте взаимодействия реальных или предположительно реальных пророков с их непокорными народами, тон этого рассказа более человечный, и в то же время его смысл символичен. Подобно другим сюжетам Корана, эта история иносказательна и может показаться обманчиво простой (сура XVIII): «Вот Муса (Моисей) сказал своему слуге: „Я не остановлюсь, пока не дойду до места слияния двух морей или пока не потрачу на путешествие долгие годы“. Когда они дошли до места их слияния, они забыли свою рыбу, и она двинулась в путь по морю, как по подземному ходу»[303]. То есть рыба ожила; и, когда Моисею об этом говорят, он понимает, что достиг своей цели. Там он встречает загадочного раба Божьего, Хидра, за которым хочет следовать с целью получить знание; но Хидр предупреждает Моисея, что тот не поймет и не сможет вытерпеть его. Моисей обещает быть терпеливым и не задавать вопросов, но, когда Хидр делает пробоину в днище корабля, а позже убивает мальчика, Моисей не в силах сдержаться и спрашивает, почему. Получив упрек в свой адрес, он обещает больше ни о чем не спрашивать, страшась, что Хидр его прогонит. И когда тот без вознаграждения восстанавливает рухнувшую стену и Моисей снова возмущается, наступает расплата. Однако перед своим уходом Хидр демонстрирует (давая разумное объяснение каждому из своих действий), насколько поспешным было нетерпение Моисея.
Непосредственный смысл этой коранической легенды в том, что следует заранее верить в справедливость решений Бога, и в демонстрации того, что даже великий пророк уличен в чрезмерной уверенности в собственных суждениях. Но уже в Коране эта история, должно быть, приводится с целью обратиться к фигуре и ситуации, глубоко уходящим корнями в семитский фольклор. Элементы легенды восходят к эпосу о вавилонском Гильгамеше и к легенде об Александре Македонском: эта фигура — скрытый святой, который бессмертен и вечно бродит неузнанным среди людей. Непосредственный источник большей части этой легенды — это еврейский фольклор; у евреев такой фигурой был Илия, который был взят на небо живым. Место, где встречаются два моря, — на краю света — это источник живой воды, который дарует бессмертие, и Моисей ищет его; согласно Корану, искомое найдется в премудрости, которую обычным людям дано понять лишь поверхностно. Суфиев неизбежно привлекали символизм легенды и ее кораническая мораль. Хидр стал образцом для суфиев, вечно живущий и встречаемый чаще всего в отдаленных местах, готовый помочь дервишу в беде. (Иногда его даже отождествляли с Илией.) Охотнее всего он помогал странникам в пустыне — где вода (и растительность), с которой всегда связывали Хидра, была точным символом помощи. Хидр, таким образом, играл в суфизме универсальную роль. Но он также стал покровителем бесчисленного количества местных храмов, где приобретал черты, характерные для конкретной местности. У него было много храмов в горах Сирии, где люди обращались к нему за помощью, когда попадали в опасность; и поскольку сам Коран приписывал ему огромный возраст, нет ничего удивительного, что его храмы датировались еще доисламской эпохой, и иногда туда ходили христиане (у святого было много общего с популярным Святым Георгием, победителем драконов). На севере Индии его тоже отождествляли с реками, особенно Индом; он, по-видимому, занял место прежних индуистских божеств.
В той же суре Корана, что вполне уместно, рассказана история о семи спящих отроках из Эфеса, «людях пещеры» — первых христианах, нашедших убежище от преследования в пещере и проспавших там много лет. Юноши проснулись, когда христианство уже господствовало на земле — свидетели своего рода ожидаемого воскрешения мертвых (и, по версии Корана, психологической неотвратимости Страшного суда). Пещеры, которые почитались как место событий, множились в исламском мире (равно как в христианском); некоторые из этих храмов восходят к мегалитической эпохе, под новым обликом оставаясь древним символом бессмертия.
Мусульманская школа. Западноевропейская гравюра нач. XIX в.
Местный колорит могли принимать не только образы определенных суфиев, но и весь характер суфизма. В Магрибе и на землях Западного Судана большинство местных тарикатов происходило от ордена шазилийя. Аш-Шазили (ум. в 1258 г.) и его ближайшие последователи проповедовали набожную жизнь, и их учение трудно отличить от большей части суфийских учений в других местах: это строгое следование шариату и недоверие к государственной службе, а также неизменная доброта в частной жизни. Эта традиция Шадили всегда пользовалась влиянием в Магрибе. Однако там суфийская традиция сочеталась с культом святых семейств — шарифов, потомков Фатимы, и мурабитов, семей — потомков святых, живших в рибатах (ханаках), которые часто играли роль потомственного арбитра в спорах деревенских племен и разных объединений в городах. Нигде больше культ живых святых не был так популярен — потомственных мурабитов, новых посвященных или сумасшедших возводили в ранг святых в результате народного признания. И такая модель — неважно, настолько ли она стара, как иногда говорят, — тесно вплелась в ткань особой региональной социальной структуры. Подобное же происходило в Индии: тарикаты чиштийя и сухравардийя были вполне в духе суфизма в целом. И все же с течением веков у мусульман сохранялись старые кастовые сословия и древние культы паломничества (столь ценимые в древней индуистской традиции) благодаря суфийским святым и их высокопочитаемым гробницам.
Вуджудизм и визионерство
В дополнение к свободе (или вольности), допускаемой в суфизме в практической сфере культа и методов поклонения, а также в апотропической помощи людям, присутствовала свобода (или вольность) в умозрениях, все больше дозволяемых даже весьма уважаемыми пирами. Под маской суфизма нашли себе оправдание в высшей степени эзотерические труды шиитов, пытавшихся разгадать космические природные символы. В более общем смысле, объединительную метафизику, которая являлась лишь одним из многих интеллектуальных течений в раннем Средневековье, стали защищать почти все суфии. В экзотерических трудах, часто изобилующих чудесами и нравоучениями, нормы в целом соблюдались, тогда как в частных учениях все больше суфийских пиров в объяснениях метафизики позволяли себе максимальный размах в интерпретации смысла текстов Корана и хадисов. Часто суфии шли еще дальше: объединительную метафизику иногда считали первичной, имевшей значение самодостаточное, независимо от образа жизни; действительно, ее полное понимание считалось главной целью мистической дисциплины.
Несмотря на то что в разных тарикатах объединительные теории приветствовали в разной степени, они стали основным формообразующим фактором в жизни суфиев, и самый обсуждаемый в суфийской среде вопрос обрел следующую форму: какая объединительная космология в наибольшей степени соответствует исламской объединяющей доктрине — тавхиду. Хотя труды более ранних ученых относительно неметафизического склада, вроде Кушайри и Абдалькадира Гилани, все еще пользовались авторитетом, суфии стали обращаться к учениям Ибн-аль-Араби или иногда Яхья ас-Сух-раварди для прояснения теоретических положений. Абдалькарим Джили (ум. в 1428 г.) из Гиляна на юге Каспия был самым успешным популяризатором идей Ибн-аль-Араби. Он систематизировал взгляды этого великого человека и сосредоточился (в качестве «красной нити») на понятии «совершенного человека» как идеального микрокосма, способного реализоваться в мистическом опыте. Но ключевое слово к учениям Ибн-аль-Араби находилось в его объединительной метафизике: Ибн-аль-Араби считали мастером вахдат аль-вуджуд, «единства бытия», и те, кто видел это единство таким же, как он, были названы им «вуджудитами».
Даже тем суфийским мыслителям, которые не признавали самых крайних объединяющих теорий, теперь надо было предлагать собственные метафизические решения. Пожалуй, самым известным из противников позиции вуджудитов был Алаяддин Симнани (1261–1336 гг.), начавший карьеру при дворе монголов. Там он стал общаться с буддистскими монахами и христианами, а также с представителями самых разных мусульманских течений. Он достиг высокого положения при самом монархе, когда пришедшее к нему видение во время битвы, в которой он участвовал, заставило его отказаться от своей карьеры ради религии. Вскоре он отошел от дел и вернулся на родину — в город Симнан на севере Ирана, — где стал уважаемым пиром, которого призывали на помощь, если требовалось уладить спор (даже политический), и считали основной фигурой ордена кубравийя (восходившего к мыслителю Наджмаддину Кубра из Бухары).
Учение Симнани было абсолютно миролюбивым. Например, он ясно выражал свой оппозиционный настрой по отношению к шиитам, но считал их правоверными мусульманами, просто в их системе взглядов больше противоречий, чем у тех, кого он называл суннитами (кто занимал срединную позицию не только между шиитами и хариджитами, но и между всеми другими крайними ответвлениями этой доктрины). Он подчеркивал (совершенно верно), что, когда шииты вместо первых четырех халифов стали почитать двенадцать имамов, их позиция представляет собой не большее новшество, чем восхваление четырех халифов, ведущее свой отсчет только со времен Аббасидов. Его миролюбивая теория затронула и другие религиозные течения: он рьяно отстаивал превосходство ислама, но желал снабдить немусульман руководством на мистическом Пути, полагая, что, дойдя до определенного момента, ученик уже не сможет идти дальше без помощи пророка, наставлениями которого он до этого руководствовался, и без принятия Мухаммада. Он даже отправил любознательного аскета, которому было неясное видение, помешавшее ему в дальнейшем духовном росте, к монаху-буддисту, стоявшему на достаточно высоком уровне, чтобы помочь тому решить его проблему.
Если истинные «сунниты» доходили до середины пути, то истинные суфии занимали компромиссную позицию среди суннитов, поскольку признавали всех четырех общепринятых имамов фикха (говорил он), не выказывая предпочтения кому-то одному — что отражало влияние приверженности Алидам, свойственное суфизму того времени; Симнани, по-видимому, считал Али собственным наставником в фикхе, предположительно приписывая ему позицию тьютиориста[304], учение которого вобрало в себя самые строгие положения всех четырех мазхабов. Наконец, в рамках самого суфизма эта позиция тоже была примиренческой. Он считал правильным все, что говорили святые (согласно пересказам их слов) — а затем приводил оправдательные доводы для тех пунктов, по которым слова святого противоречили его собственной позиции. (Как правило, он принимал любой рассказ о чуде или особом видении как об имевшем место в реальности, а затем отрицал тот смысл, который приписывали ему желавшие с его помощью доказать те или иные свои взгляды.)
Тем не менее у Симнани были и свои твердые убеждения. Он разработал схематичную теорию семи «внутренних чувств», посредством которых мистик воспринимает скрытые истины, и покровителем каждого из них назначил одного из семи великих пророков (Адама, Ноя, Авраама, Моисея, Давида — чьи псалмы мусульмане всегда считали отдельным писанием — Иисуса и Мухаммада). И он проповедовал — вероятно, в соответствии со своей склонностью к компромиссным позициям, но и, разумеется, в силу своего стремления противопоставить мусульманскую монотеистическую позицию индуистским представлениям, отрицавшим необходимость сверхъестественного божественного начала, — собственную доктрину о единстве бытия. Единство, о котором говорили такие мистики, как Ибн-аль-Араби, было не онтологическим единством бытия как таковым, но единством «свидетельствования» (шухуд), в том смысле, что оно являлось принципом восприятия мистиком себя и всего окружающего мира[305]. По сути, это был способ заявить о центральной роли монотеистического пророчества. Он обстоятельно растолковывал каждое утверждение Ибн-аль-Араби касательно метафизики или других моментов, таких как превосходство святого над пророком, согласуя их со своим ориентированным на пророчество подходом (иногда даже посредством очевидных — и, вероятно, сознательных — каламбуров). Позицию, отстаиваемую Симнани, называли шухуд — в противовес позиции вуджуд. Она приобрела широкую популярность у относительно строгих приверженцев шариата. В Индии в XV веке мы обнаруживаем попытки примирить две эти позиции, но с уклоном в сторону вуджудизма.
Другие суфии, менее озабоченные пророческим аспектом ислама, выработали методы практического применения вуджудизма таким кардинальным образом, какой Ибн аль-Араби вряд ли позволил бы в отношении выводов из своих идей. Один из самых влиятельных тарикатов в этом направлении был шаттарийя (известный в некоторых кругах как исхакийя или бистамийя). Его члены заявляли, что открыли более быстрый способ продвигаться по мистическому Пути, чем те, которые проповедовались осторожными мастерами более традиционных тарикатов. Поскольку (согласно вуджудитскому принципу «единства бытия» в Боге) все представляющие интерес предметы, кроме Бога (на отрицание которых многие суфии тратили столько сил), были, по сути, ничем, и бессмысленно терять время в попытках их отвергнуть. Дерзкий и решительный салик, искатель мистической истины, должен думать только о несомненной истине касательно самого Бога и признавать, что в нем самом (в искателе) нет, на самом деле, ничего, кроме Бога (здесь они обращались к таким фигурам, как Халладж и Баязид Бистами, весьма серьезно относясь к последствиям своих восторженных фраз о тождестве с Богом). Таким образом, салик, искатель, мог быстро стать арифом — знающим Бога. В отличие от господствующей традиции от Джунайда до Симнани (в том, что мистическое «опьянение», происходящее с человеком в момент экстаза, в итоге было не так важно, как мистическое «отрезвление», которое следовало потом и которое повышало духовный уровень искателя), шатарийя выше ценили «опьянение». Несмотря на свою распространенность во всей персидской зоне исламского мира, от Рума в Европе до самого Ирана, особую популярность шатарийя снискали в Индии, где благодаря одному из пиров в конце XV века их учение прошло триумфальным маршем до самой Бенгалии и где вскоре его ученики всерьез увлеклись йогой и монистической метафизикой индуистской традиции (которую считали схожей с метафизикой вуджудизма), а также поэзией на хинди. Из Индии популярность тариката распространилась и на острова Малайзии.
С общим принятием объединительной метафизики как неотъемлемой части (или даже конечной цели) суфийского пути, и особенно с позицией вуджудитов, можно связать несколько других точек зрения, с которыми суфии все чаще мирились, даже если не соглашались с ними. Мы уже убедились, что антиномистская позиция, вызывавшая активные протесты, весьма свободно обсуждалась в качестве оправданной альтернативы, и поэтому нешариатские тарикаты получали открытое признание, а отдельные пиры могли свободно выбирать между этими двумя позициями, не переходя в другой тарикат[306]. Объединительная метафизика, в которой каждая сотворенная вещь становилась частью гармоничного целого, не могла не смягчить границ, отделявших одного человека или одно действие от другого, заставляя поддаться антиномическому соблазну. В частности, вуджудизма, который вроде бы подразумевал, что все различия в реальной жизни фактически иллюзорны, придерживались те, кто отрицал шариат применительно к элите арифов. И опять позиция вуджудитов, или признание объединительной метафизики как неотъемлемой части суфизма, не противоречила соответствующей точке зрения — той, что считала мистические дисциплины всех религиозных сообществ, по сути, едиными. Когда жизнь суфия виделась почти логическим следствием объединительной метафизики, неизбежно присутствующие сходства с объединительной метафизикой других религий (каждая со своими вспомогательными дисциплинами) способствовали отождествлению этих метафизик друг с другом независимо от религиозных границ. Подобные соображения привели к возникновению понятия сулх-и-кулль, «всеобщего примирения» сект и учений, а также отдельных людей и различных объединений, как главного идеала суфиев.
Возможно, самым важным явлением, сопровождавшим всеобщее признание объединительной метафизики в плане мистической практики, стал гораздо менее заметный факт: повышение значимости видений — даже тех, что возникали во сне, — как руководства во всем, что имело отношение к жизни суфиев. Должен добавить, что я выдвигаю это предположение с еще большей осторожностью, чем другие подобные обобщения; однако поверхностное знакомство с материалом позволяет предположить, что в Средние века, и особенно во второй их половине, полноценным видениям, которые можно так же легко описать, как любой сон, придавали больший вес в самых разных ситуациях, чем это было в суфизме высокого халифата.
Ученые мужи периода 1300–1506 гг.
1310 г.
Смерть Насафи, мутакаллима, исследователя идеальной формы государственного правления
1311 г.
Смерть Кутбаддина Ширази, астронома, которого связывают с Насируддином Туси; усовершенствовал теорию планет Птолемея
1318 г.
Смерть Рашидаддина, визиря, литератора, иногда называемого величайшим историком Персии
1320 г.
Смерть Камаляддина Фариси, астронома, товарища Кутбаддина Ширази; доработал «Оптику» Ибн-аль-Хайсама, изучал отражение и радугу
Смерть Юнуса Эмре, турецкого суфия и поэта, писавшего на языке простого народа
Смерть Низари, шиитского поэта-панегириста, путешественника
1324 г.
Смерть Низамаддина Авлия, индо-персидского суфия, организатора ордена чиштийя
1326 г.
Смерть аллямы Хилли, мутакаллима, товарища Насираддина Туси, систематизатора доктрины шиитов-имамитов
1328 г.
Смерть Амира Хосрова, индо-персидского придворного поэта — суфия, члена ордена чиштийя, известного своими газелями и эпосом
1328
Смерть Ибн-Таймийи, правоведа-ханбалита и мутакаллима, которого волновали проблемы ортодоксальности и суфийской невоздержанности
1334 г.
Смерть Вассафи, придворного историка, отличавшегося витиеватым слогом прозы
1336 г.
Смерть Алаяддина Симнани, суфийского оппонента Ибн-аль-Араби и вуджудизма
Ок. Ибн-аль-Шатир, дамасский астроном, разработавший модель мира, эквивалентную модели
1350 г.
Коперника
1352 г.
Смерть Хваджу, придворного поэта при последнем ильхане, Музаффаридах и Джалайридах
1389 г.
Смерть ат-Тафтазани, файлясуфа, мутакаллима, экзегиста; писал на арабском при дворе Тимура
Смерть Бахааддина Накшбанди, суфия; на основе его учений создается орден накшбандийя
Смерть Хафиза, поэта, мастера газелей, иногда называемого лучшим из персидских поэтов
1406 г.
Смерть Ибн-Хальдуна, социолога, историка, государственного деятеля, автора труда по всемирной истории
1413 г.
Смерть Али аль-Джурджани, мутакаллима, современника ат-Тафтазани
1418 г.
Смерть ал-Калкашанди, придворного, автора энциклопедического учебника по государственному управлению в духе адаба
1428 г.
Смерть Абдалькарима Джили, суфийского аналитика, комментатора трудов Ибн-Араби
1430 г.
Смерть Хафиза Абру, историка Тимуридов и географа-путешественника
1449 г.
Смерть Улуг-бека, правителя, ученого, астронома; построил обсерваторию в Самарканде, где велась важная для того времени работа
Ок. 1480-х гг.
Давлят-шах, поэт, составитель антологии, биограф поэтов
1492 г.
Смерть Джами, суфия и придворного поэта; иногда его называли последним из великих
1498 г.
Смерть Мирхванда, придворного историка
1501 г.
Смерть Алишера Навои, визиря, иногда называемого величайшим поэтом на языке восточных турок (чагатаев); биограф поэтов и критик
1502 г.
Смерть Даввани, файлясуфа, моралиста
1504 г.
Смерть Кашифи, проповедника, философа-моралиста, прозаика
1506 г.
Смерть Хусейна Байкары, правителя, поэта, писавшего на языке чагатаев; покровителя Джами, Мирхванда, Навои и художника Бихзада
Не было никакого новшества в том, что Симнани, как Ибн-аль-Араби до него, объяснял, что разные обрывки исторической и метафизической информации приходили к нему из гайба — «невидимого» — через сны и видения (когда душе, по свидетельству Авиценны, открывался доступ к знанию, непостижимому в другое время). Но, разумеется, важной функцией его анализа семи внутренних чувств была разработка метода систематизации трактовок подобных видений. Можно догадаться, что его они волновали больше, чем, к примеру, Джунайда, с которым во всех остальных отношениях он схож. В легендах о святых этого периода их экстатический опыт больше бросается в глаза, чем аскетический образ жизни, столь ценившийся прежде, — и это при условии, что вопрос о сокращении пути с помощью наркотиков не обсуждался. Вероятно, даже длительное уединение, которое раз в год было обязательным для каждого члена тариката хальватийя (известного среди западных тюрок), в меньшей степени являлось аскетической дисциплиной, чем способ достигать экстаза и получать видения.
Значение, придаваемое таким видениям, предположительно выросло с повышением значимости экстатического аспекта мистицизма в сравнении с его повседневной практикой посвященными. Но оно также могло способствовать поиску новых знаний и их обоснованию, поскольку стало считаться неотъемлемой частью всего процесса. Видения (полученные во время бодрствования и во сне) могут стать для человека богатым источником формирования мифов — процесса, тесно связанного с метафизикой того времени (и, пожалуй, со всей метафизикой). Такое мифотворчество было не только проявлением свободного полета фантазии. Сегодня выясняется, что существуют особо назойливые сны, которые могут указывать на критически важные области для роста личности; причем на всех уровнях этого роста, а не только в коррекции элементарных неврозов. Сны (их символы и формат) легко перенимают колорит общества, в котором живет спящий, со свойственными ему ожиданиями. Но они придают этим ожиданиям общества сугубо личный характер — возможно, в большей степени, чем при бодрствовании. Если существуют взаимозависимые символы, прочно связывающие элементы человеческого опыта, как в наших личных реакциях, так и во внешнем мире, можно предположить, что в снах такие символы получают самое свободное выражение[307].
Наконец, мы должны сослаться еще на один феномен, связанный с нешариатским суфизмом. Среди всех экспериментов, исследований и противоречий, придававших разнообразие суфийской традиции второй половины Средних веков, мы можем уловить — особенно в персидской зоне — контуры традиции народного свободомыслия, которое безошибочно угадывается лишь много времени спустя, но которое, конечно же, восходит как минимум к этому периоду (даже если нам не удастся найти доказательства этой традиции в силу ее преимущественно устного характера). За стереотипными обвинениями в адрес «зиндиков» и им подобных можно разглядеть несопоставимые элементы традиции, однозначно подтвержденные документами в Иране в XIX веке: менявшееся соотношение фальсафы, вуджудитского суфизма и разгул интеллектуального нонконформизма, который уже во второй половине Средних веков был сдобрен прогрессивным обращением к алидизму радикального толка. Распространившаяся среди бродячих самостоятельно выучившихся дервишей и предположительно среди маргинальных элементов городского населения, но подхваченная (посредством такийя — «сокрытия») наиболее склонными к приключениям представителями высшего сословия, эта традиция была эклектичной по своему духу, отвергала все общепринятые авторитеты, и ее интеллектуальная база, естественно, не всегда была последовательной или прочной. Именно в таком духе могла родиться сказка о дервише, который вылепил из глины три статуэтки — Али, Мухаммада и Бога. Сначала он разбил фигурку Али за то, что тот позволил отобрать свой трон халифа узурпатору и, таким образом, допустил воцарение несправедливости на земле. Затем он разбил ту, что символизировала Мухаммада, за то, что тот не указал точно своего преемника. Последней та же участь постигла Бога за то, что Он в своем всемогуществе допустил господство зла. Следует помнить, что такая традиция скептицизма — или, как минимум, отказа от любых традиционных решений — постоянно присутствовала на заднем плане, служа дополнением к стандартному представлению о мире и истории, которому обучали в медресе. Дело в том, что свободомыслие во всех его разнообразных направлениях, вероятно, оказывало чуть меньшее влияние на тех немногих исключительных людей, кто благодаря своему живому воображению был способен находить правильные решения в кризисных ситуациях[308].
Когда под именем суфизма открылся и получил признание широких масс целый мир отклонений от социальных норм (причем какой фактор провоцирует их проявление — чрезвычайная набожность или невроз, — не может сказать даже самый проницательный аналитик), стало логичным возникновение еще одной религиозной тенденции второй половины Средних веков: развитие новой, антисуфийской направленности в шариатских науках.
Новые тенденции в шариате и фальсафе
Шариатские науки еще не были детально проработаны вплоть до второй половины Средних веков. Суфизм и антисуфизм, изучение хадисов, фикха, калама, арабской лексики и, разумеется, истории — в частности, биографические исследования улемов — еще предстояло дорабатывать. Аль-Калка-шанди (ум. в 1418 г.) составил энциклопедию для служащих администрации (катибов), которая получила широкое распространение и включала не только исследование современной ему египетской системы администрации, но и примеры элегантного стиля в официальных письмах и указания на целый ряд религиозных, исторических и других знаний, которыми непременно должен обладать хороший адаб. В этой книге, состоящей из 213 предложенных им учебников (в том числе несколько заимствованных у греков), примерно сотня была написана людьми, жившими при монгольских завоеваниях или позже; большая часть авторов этой сотни, по-видимому, жили в XIV веке[309]. То есть люди, жившие в позднем Средневековье, высоко чтившие старых мастеров, считали, что самые авторитетные труды написаны примерно в современную им эпоху.
Некоторые предметы обсуждения учебников в этот период могут показаться мелкими или надуманными — например, нюансы при заключении браков между джиннами и людьми. Но при ближайшем рассмотрении подобные моменты оказываются вполне осмысленными. Несколько ученых на основании редких свидетельств продолжали настаивать на возможности длительных периодов вынашивания человеческих детей — до четырех лет. В биологическом смысле кажется безосновательным основывать закон на подобных сомнительных свидетельствах. Однако существовала, как минимум, одна практическая цель: защитить права ребенка, которого могли в противном случае объявить незаконнорожденным, и даже обеспечить личную безопасность матери, оградив ее от обвинений в прелюбодеянии.
Некоторые ученые нашли особый повод для дальнейшего развития шариатских наук. По мере развития исламской традиции все больше улемов признавали необходимость дополнить шариат и связанные с ним дисциплины различными аспектами суфизма или даже фальсафы. Те из улемов, кто желал сохранить исключительное положение шариата — главного вызова в исламе, — были вынуждены либо продолжать придерживаться бескомпромиссной точки зрения (что становилось все труднее), либо расширять спектр ресурсов шариатского подхода, чтобы сделать его более самодостаточным и придать больше оснований оппозиционному характеру шариатской традиции. Некоторые ресурсы уже присутствовали в логике шариатской структуры.
Большинство докторов фикха применяли систематические принципы в суждениях по аналогии (кияс), не желая допустить, чтобы кияс стал использоваться произвольно как повод для любых удобных автору параллелей. Ханафиты применяли принцип, который назвали истихсан, «лучшее суждение»; согласно ему, в следовании какому-либо положению шариата необходимо руководствоваться наиболее разумным сценарием. Маликиты использовали принцип истислах, состоявший в поиске маслаха, «пользы для человека», в соответствии с которым применялось то или иное предписание Корана или хадиса, что становилось основой любой аналогии с этим предписанием. Некоторые улемы, признавая, что те или иные случаи применения положений хадиса можно назвать «маслаха», отрицали причастность к этому каких-либо особых логических процессов и утверждали, что ссылка на маслаха — просто особый случай применения положений кияса, которые были детально проработаны. (Например, при возникновении противоречий приоритет отдавался пяти главным интересам человека в следующем порядке: жизнь, религия, семья, имущество и, вероятно, честь.)
Часть ханбалитов, отвергая простую политику непримиримости, усматривали в маслаха возможность обеспечить шариатской традиции более широкий социальный охват, чем раньше, когда шариату во всех его деталях была отведена ограниченная сфера применения — либо по отношению к халифу, легитимному во всем мире, либо к военным эмирам, считавшимся его заменой. Ахмад ибн Таймийя из Дамаска (1263–1328 гг.), происходивший из старинного рода ученых-ханбалитов, подхватил эту идею, сделав ее частью многосторонней кампании по противоборству превалирующим внешариатским тенденциям.
Нападки на внешариатские традиции с его стороны отчасти принимали форму хорошо подготовленных (основательных) выпадов, и отчасти — заимствования им же самим их ключевых моментов. Так, он противился большинству аспектов почитания Али (и фанатично атаковал любые шиитские секты в Сирии). Он критиковал большую часть аспектов суфизма (и Ибн-аль-Араби), в особенности такие вещи, как поклонение могилам святых, что составляло ядро всей системы народного суфизма. Он признавал идею о том, что некоторых людей можно считать святыми, однако настаивал, что цель духовного развития — не познание Бога, а более качественное служение Ему и что ищущий должен научиться любить не сущность Бога (непознаваемую), а Его предписания — то есть шариат. Но шариат, по его мнению, являлся не произвольным набором правил, он был связан с вполне понятными человеческими целями. Он признавал ту социальную значимость, которую файлясуфы приписывали Пророку как законодателю (свою доктрину о пророке он основывал на доктрине одного шиитского ученика Насираддина Туси об имаме — которая, в свою очередь, опиралась на фальсафу); и систематически толковал шариат в терминах общественной полезности. Однако он поддержал критику Газали в отношении фальсафы и развил ее (например, не допуская связи происхождения наук фальсафы с пророчеством, в отличие от Газали).
В то же время, он предложил полноценную программу с целью сделать шариат как дисциплину более применимой к разнообразным ситуациям в реальной жизни. Будучи ханбалитом, он опирался (весьма вольно) на одну из новых традиций фикха, относительно лишенную подробностей, которыми фикх оброс в эпоху Омейядов, и более гибкую в плане соблюдения хадисов и ограничения применения иджмы редкими случаями, в которых приходило к единому мнению первое поколение мусульман. В частности, он дал более точное логичное определение принципу маслаха — менее радикальное, чем определение его фанатичного предшественника-ханбалита, но все же весьма либеральное; так что при неукоснительном следовании хадисам он смог расширить сферу применения данного принципа. Таким образом, ему удалось доказать, что кияс не должен опираться исключительно на очевидную, буквальную аналогию с ситуацией, ставшей ее источником; скорее, всегда следует учитывать, прежде всего, благополучие мусульманина в конкретных жизненных обстоятельствах. Эта доктрина маслаха позволила ему утверждать, что шариат включает абсолютно все жизненные ситуации и что всегда есть единственное правильное решение проблем, надо только искать его всеми доступными логическими методами. Этим оправдывались одновременно и его интерпретация духовной жизни в строго шариатском ключе, и убеждение в том, что долг улемов — адаптировать шариат для современности, поскольку он обязывал к тому, чтобы единственно верное решение конкретной проблемы варьировалось в зависимости от обстоятельств. (По этому поводу он ссылается на то, что пророки проповедуют единую религию, но в разных формах сообразно времени, в котором они живут.)
Такое широкое применение понятия маслаха снабдило правоведов значительной свободой при условии, что они не слишком строго следовали таклиду и концепции о запертых воротах иджтихада. Нечто сравнимое применяли позже маликитские правоведы Египта и особенно Магриба. Но сам Ибн-Таймийя сделал это основой резкой критики существующего порядка.
Ибн-Таймийя пользовался огромным уважением жителей Дамаска, большинство которых не принадлежало к ханбалитам — ханбализм вымирал повсеместно, — но у них существовала традиция почти фанатичной преданности суннизму (в противовес шиизму), соединенная со строгой ориентированностью на шариат. (Многие почитаемые могилы вокруг Дамаска, которыми он был знаменит, принадлежали не суфиям, а предположительно древним пророкам — Сирия всегда считалась землей пророков.) Однако программа Ибн-Таймийя была слишком радикальной для официальных властей. Он критиковал антишариатскую и внешариатскую практику, воспринимаемую правительством мамлюков как данность, а его популярность делала его опасным. Он нападал на других улемов за их готовность (как он это понимал) идти на компромисс с нешариатскими формами ислама и с правительством. Он в особенной степени порицал их за доктрину таклида, которая оправдывала их приспособленчество, и настаивал на том, что правом общего иджтихада обладал каждый компетентный правовед — каким считал себя самого, — имевший достаточно знаний, чтобы вернуться к истокам и самостоятельно разгадать смысл закона. (И все же в основу этого требования он положил концепцию, в принципе соответствующую духу консерватизма: как ханбалит, он лишь следовал общепринятой позиции своего же мазхаба — одного из четырех официально признанных у суннитов мазхабов.) Его не раз сажали в тюрьму; наконец, когда его не только заключили под стражу, но и запретили пользоваться бумагой и писчими принадлежностями, он умер от сердечного приступа. За похоронной процессией в Дамаске шли все верующие, кто успел узнать о его похоронах: в этом случае, как часто случалось у мусульман, процессия превращалась в демонстрацию народного признания: говорят (несомненно, летописцы не преминули воспользоваться здесь своим обычным приемом преувеличения), что в ней участвовали 200 тысяч мужчин и 15 тысяч женщин[310].
У Ибн-Таймийя было мало последователей. Большим влиянием в последние века пользовалась школа философов-теологов, чья работа относилась в равной степени к фальсафе и каламу, хотя, подчиняясь духу консерватизма, они считали ее каламом. Тафтазани (1322–1389), один из самых уважаемых представителей этой школы, будучи суннитом, защищал позицию шиита Насираддина Туси. Тафтазани родился в большой деревне в Хорасане; он много путешествовал (что типично для ученых) по местам, где науке оказывалось покровительство — в Хорезм и даже в Золотую Орду. Его репутацию высоко ценил Тимур, который настоял на его переезде в Самарканд. Он много писал — часто в форме комментариев к традиционным трудам, а иногда к своим собственным — о грамматике, риторике, праве и юриспруденции, логике и метафизике. Его работы даже в Дамаске читали больше, чем труды Ибн-Таймийя. В обобщении своих учений ему удалось строго следовать положениям, сформулированным ан-Насафи, автором самого популярного ашаритского катехизиса (сборника вопросов и ответов, связанных с верой) раннего Средневековья. Однако он, похоже, не считал себя ашаритом и составил комментарии к разным трудам великого мутазилита Замахшари, особенно к его кораническим комментариям. (Тафтазани написал и собственный комментарий к Корану на фарси.) Он был достаточно независимой личностью, чтобы писать труды по ханафитскому и шафиитскому праву — и поэтому на него претендовали оба мазхаба. Но именно в своей логике и метафизике он сосредоточился на настоящей, интересной проблеме, сделавшей его мощным (пусть и противоречивым) источником вдохновения для своих последователей.
Одним из его комментаторов был Джаляляддин Давани из Шираза (1427–1502), который переработал трактат Туси по этике — по сути, аристотелевский — в форму, еще долго влиявшую на политическую мысль, среди прочего заявив о следующем: истинным халифом в своем государстве был любой фактический правитель, справедливый с философской точки зрения (следовательно — будучи мусульманином — действовал согласно шариату) — что противоречило старому шариатскому представлению о единственном прямом преемнике Мухаммада или концепции Ибн-аль-Араби о невидимом суфийском кутбе. Но, хотя этот взгляд на халифат стал для мусульманских правительств стандартным, ученые выше всего ценили Давани за его достижения в логике и метафизике: считается, что он нашел объяснение парадоксу лжеца («все утверждения — ложь, включая данное утверждение»: если это утверждение истинно, то оно ложно; если оно ложно, то истинно) с помощью метода, предвосхитившего теорию логических типов Рассела о том, что утверждения об утверждениях не следует включать в те утверждения, которые являются их предметом.
В то же время существовало достаточно специалистов в точных естественных науках, которые развивали эту область. Было выдвинуто предположение, что после определенного момента исследование в любой сложной области точных наук — например, естественных — отнимает все больше и больше времени, и после этой переломной точки оно может идти примерно теми же темпами, что и раньше, лишь при особых условиях. С открытием все новых знаний у человека уходит все больше времени на то, чтобы усвоить уже известное и шагнуть вперед к горизонтам неизведанного. Это значит, что ученые в таких областях должны стать узкими специалистами, если хотят существенно продвинуться в своих исследованиях. Это также значит, что количество специалистов должно неуклонно расти и каждая специальность должна подразделяться на еще более узкие направления. Возникновение новых обобщений, способных объединить много несопоставимых фактов, может дать лишь временную передышку в подобном процессе. Но поскольку серьезное знание едино, такие специальности должны быть взаимозависимы: если всеми ими заниматься одновременно, какой-то одной из них будет трудно вырваться вперед. И, поскольку дальнейшие исследования требовали сужения специализации, они нуждались и в постоянном преумножении специалистов в естественнонаучных областях.
Такое преумножение специалистов вряд ли может иметь место в договорной экономике города позднего Средневековья. Мы знаем, что в Западной Европе после многообещающего расцвета естественнонаучных исследований в период раннего исламского Средневековья, когда европейцы соперничали в достижениях со своими мусульманскими учителями, в следующую историческую эпоху прогресс в таких исследованиях замедлился. Возможно, это объясняется не только экономической депрессией того времени, но и существенной нехваткой человеческих ресурсов. Когда научные исследования, наконец, перешли в новую фазу (в конце XVI века), новые специальности и специалисты стали множиться стремительными темпами, и число их периодически удваивалось. Однако неясно, нуждались ли научные исследования данного периода в подобной дифференциации специальностей. В любом случае, у нас недостаточно сведений о состоянии естественнонаучных исследований в исламском мире второй половины Средневековья, чтобы сказать наверняка, присутствовало ли и там схожее замедление темпа. Большинство научных книг, написанных в то время, так и не были прочитаны.
Вилли Гартнер, пожалуй, самым подходящим для нас образом формулирует понятие упадка в естественных науках во второй половине Средних веков[311]. Но причины, которые он приводит в подтверждение упадка, не выдерживают критики. Он не столько доказывает снижение уровня ведущих научных работ (он ставит Каши, принадлежавшего к кругу Улугбека в XV веке, в один ряд с Архимедом и Бируни и допускает, что один марокканский астроном в XVI веке тоже мог принадлежать к высшим кругам), сколько говорит о том, что их стало меньше и что один-два написанных позднее учебника, примерно после 1500 года — один из них, в частности, из Османской империи — демонстрируют существенное снижение качества.
Но имеющиеся у него данные позволяют предположить и другое объяснение. Он во многом основывает свои количественные оценки на работах Генриха Зутера; но выборку Зутера вряд ли можно назвать репрезентативной. Из персидской библиографии Стори мы знаем об огромном количестве персидских научных трудов — не говоря уже об арабских — в более поздние периоды. Но Зутеру было известно об очень малом числе работ после 1400 года и почти ничего не было известно о трудах после 1500 г.; а тем, которые все же включены в его список, свойственна географическая однобокость: почти все они из средиземноморского региона, совсем ничего нет из Ирана более поздних лет и практически ничего — из Индии какого бы то ни было периода. (И при этом он упускает из виду важного марокканского деятеля, о котором упоминает Гартнер.) И все же в эти более поздние периоды, как в ранние, самая важная интеллектуальная деятельность иного рода, особенно в метафизике фальсафы, велась на территориях, которыми автор пренебрег — к востоку от Средиземноморья (позже — включая и Индию). Будет разумно предположить, что естественные науки тоже могли активно развиваться на этих территориях.
Саади и Руми. Средневековая персидская миниатюра
Объяснить одностороннюю выборку Зутера можно двояко. Разумеется, он начал с тех авторов, которые уже были переведены на латынь — то есть с более ранних. К ним ему пришлось добавить данные мусульманских источников. Но, во-первых, Зутер был знаком только со средиземноморской традицией, которая всегда носила относительно периферийный характер и где (учитывая ее настоящий крах в XVII–XVIII веках) последние из написанных в этих регионах работ не успели обрести широкую известность до прекращения роста традиции. Во-вторых, после этого краха ее позднейшие представители, уровень которых уже оставлял желать лучшего, не могли служить надежным источником данных о последних периодах (и не только в Средиземноморье), поскольку для этого им потребовалось бы делать самостоятельные выводы о материале этих периодов; между тем имена, которые успели получить широкое признание раньше (и особенно те, чьи труды уже были известны на латыни), не теряли своего авторитета и среди эпигонов. Следовательно, в отсутствие человека, способного оценить все материалы с современной точки зрения, не могло быть надежного способа обнаружить, что именно являлось лучшим в эти более поздние периоды. Затем, предположения касательно ислама и «Востока», свойственные типичному западному представлению о мире и его истории, способствовали тому, что в итоге выбиралось то толкование данных, которое наименее лестным образом говорило бы об исламской культуре.
Случай с естественными науками особенно актуален в свете вопроса об упадке ислама. Кроме экономики как таковой, где сокращение ресурсов еще можно подтвердить (хотя это ничего не говорит о снижении качественного уровня экономической деятельности), объективные критерии для выявления снижения или упадка мы можем получить только в сфере естественных наук. В сборнике Бруншвига и фон Грюнебаума, куда вошла и статья Гартнера, предпринята попытка также проследить спад в арабской и персидской литературе, в изобразительных искусствах и философской мысли. Неудивительно, что авторам не удалось оценить труды выдающихся деятелей более поздних веков; в кратком эссе по философии, к примеру, никто из них даже не упоминается. Однако и в лучшем случае суждения в пользу более ранних периодов весьма субъективны. Подобная субъективность в других областях, пожалуй, имела бы меньшее значение, если бы она подкреплялась данными из сферы естественных наук, где относительно применимы количественные измерения. Однако нам следует помнить, что, даже если такое суждение об исламских естественных науках возможно, оно все равно не позволит нам судить о достижениях всей цивилизации, поскольку сами по себе естественные науки не могут служить критерием прогресса или спада в общем развитии цивилизации; мы даже не можем сказать, насколько красноречивым показателем творческой деятельности они являются.
Тем не менее нам известны некоторые научные работы того времени. Шиитский файлясуф Насираддин Туси активно стимулировал развитие естественных наук, наряду с этикой, метафизикой и политологией фальсафы. Он убедил монголов основать обсерваторию в Мараге, на нагорье Азербайджана. Некоторые из его собственных экспериментов — к примеру, эксперимент с выяснением реакции воинов на внезапный шум (возможно, попытка приучить военных к грохоту только что появившегося огнестрельного оружия?) — похоже, ни к чему не привели; но он вдохновлял своим примером способных учеников. Одним из самых известных его учеников был Кутбаддин Ширази (ум. в 1311 г.), который стал наглядной иллюстрацией интеллектуального синтеза Средних веков. Кутбуддину нравилось заинтересовывать людей — говорят, он садился и пил вино с теми, кто высмеивал его. Одной из своих книг он дал название, которое говорит о его чувстве юмора: «Книга по астрономии, написанная мною, не критикуйте ее». Он подробно проработал значительный обобщающий естественнонаучный труд Туси. В то же время он вел образ жизни суфия. Он был учеником Кунави — главного ученика Ибн-аль-Араби — и сам написал один из самых значимых комментариев к Яхья ас-Сухраварди. Наконец, как отмечал его биограф, он совершал намаз вместе с простыми людьми.
Ученик Кутбаддина Ширази, Камаляддин Фариси (ум. ок. 1320 г.), написал комментарий к оптике Ибн-аль-Хайсама, который, с позиции современного читателя, равноценен труду самого Ибн-аль-Хайсама (давно получившего признание на Западе) и, пожалуй, более оригинален1. Его вклад состоял в проработке деталей, однако некоторые из них имели огромное потенциальное значение. Так, он проанализировал, какая рефракция света внутри сферической капли дождя требовалась, чтобы возникла двойная радуга; он изучал эффект облаков на разных расстояниях и внес ценные уточнения в принцип применения камеры-обскуры Ибн-аль-Хайсама, показав, что (при очень маленьком размере отверстия) чем меньше отверстие, тем точнее получается перевернутое изображение — это наблюдение стало решающим при демонстрации того, как лучи света передают цельные изображения в каждую точку. Вот такими мучительно медленными темпами шел научный прогресс.
Но иногда результаты были более интригующими. Один врач близко подошел к открытию системы кровообращения в организме, но важность этого события от него ускользнула. А астрономия была достаточно развита, чтобы своевременно распознавались серьезные новшества. Насируддин Туси в свое время изобрел метод устранения, как минимум, некоторых аспектов эксцентриситета планет, который предполагала система Птолемея, так что теперь можно было считать, что планеты движутся по более правильной окружности. Он продемонстрировал, что, если представить, будто один из меньших кругов, обязательных при отслеживании орбит, сам вращается с постоянной скоростью, то геометрически можно выстроить схему кругов, которая объяснит эксцентриситет. Это подвигло его последователей в обсерватории Мараги на попытку обнаружить идеальную окружность траектории движения у всех планет — согласно представлению Аристотеля. В частности, орбиты Луны и Меркурия не соответствовали этому принципу. Ибн-аш-Шатир из Дамаска работал над обеими проблемами и в итоге нашел удовлетворившее его решение, как минимум, объяснение лунной орбиты. По сути, как позже выяснилось, примерно то же предложил более чем через сто лет Коперник[312]. (Более того, что интересно, современные ученые считают объяснение Коперником аномалий лунной орбиты самой полезной частью всей его работы над орбитами планет и, пожалуй, технически самым важным ее элементом, поскольку его гелиоцентрическая система с множеством правильных окружностей была с научной точки зрения совершенно ошибочной.)
Изоляция Магриба
Большинство толкователей дисциплин фальсафы (равно как и шариатских дисциплин) жили в зоне, где великим языком культуры становился персидский. На землях, где говорили на арабских диалектах и фарси (кроме Ирака) почти не знали, бурное развитие этих дисциплин почти не имело последствий или пришло извне вместе со славой о таких мастерах, как Тафтазани. Но самый великий историк того времени и, пожалуй, величайший мыслитель в любой отрасли был родом не из арабских земель, а из Магриба, куда труды, принадлежавшие к персидской традиции, доходили медленнее всего. Это был Ибн-Хальдун. Он читал новые работы, но сам являлся наследником испанской традиции чистой фальсафы, и его труды можно считать кульминацией этой испанской традиции, а не провинциальным вариантом персидской. (Однако их читательская аудитория состояла, по большей части, из жителей персидской зоны.)[313] Вероятно, новые точки роста на востоке вдохновили Ибн-Хальдуна в его работе, но в большей степени она стала ответом на события, происходившие в Магрибе со времен величия испанской традиции высокой культуры. В Магрибе, как нигде, безошибочно угадывается спад развития, упадок власти и снижение стандартов в культуре; и Ибн-Хальдун был великим аналитиком этого спада, отталкиваясь от него в научном исследовании развития всего человечества.
Иллюстрация из трактата Кутбаддина Ширази
Во второй половине Средних веков основная часть государства Муваххидов распалась на удельные княжества на западе, в центре и востоке Магриба; их центрами были города, а политику определяли непростые отношения с племенами берберов в отдаленных от побережья районах и постоянные интриги друг против друга. В то время как мусульманская Испания представляла собой маленькое горное государство на далеком юге, платившее дань христианам, которые превратили великолепные мечети главных испанских городов в церкви и соборы. Династию в Гранаде до сих пор помнят за ее утонченный вкус и даже роскошь, символом которых стала изящная архитектура дворца Альгамбра. Благодаря мусульманскому трудолюбию этот крохотный горный район превратился в богатую сельскохозяйственную провинцию, но утрату огромных плодородных долин Испании восполнить так и не удалось. Государства на материковой части Магриба между тем сами не оправились от набегов кочевников-бедуинов в первой половине Средних веков. Несмотря на то что по сравнению с первыми набегами остальные были не столь разрушительны, некоторые опустошенные тогда территории не удалось восстановить, поскольку с появлением новой формы пасторализма, экономически эффективной и чрезвычайно мобильной, наряду с уже существовавшим пасторализмом берберов, соотношение политической власти изменилось; городам с их сельским хозяйством и торговлей постоянно приходилось защищаться.
Наследие Муваххидов отразилось на большинстве династий, которые пришли им на смену на материке, хотя в религиозной сфере господствовал тот самый маликизм, который всегда подвергался гонениям со стороны Муваххидов. (Повышенная значимость племенного строя не означала движение в сторону военного патронажа, зачатки которого мы уже наблюдали в центральных землях.) Династия Маринидов происходила из независимого берберского рода, который ассимилировался в государственной системе региона, когда только набирал силу в качестве местного правящего рода в Марокко (1216–1269 гг.), и, придя к власти в Фесе, они попытались расширить те позиции, которые занимали Муваххиды во всем Магрибе и даже в Испании. Но Маринидам не удалось подчинить всех соперников; после 1340 г. династия оставила надежду продвинуться дальше в Испанию, а к 1415 г. испанцы-христиане (в этом случае — государство Португалия) успешно пересекли море и высадились в Сеуте. После свержения Маринидов в 1420 г. благополучие государства частично восстановила родственная им династия, Ваттасиды (с 1428 г.).
Главным врагом Маринидов были Хафсиды в Тунисе, изначально оказывавшие поддержку Муваххидам. В 1237 г. представитель этого рода, правитель Туниса, сверг правившего тогда Мувах-хида во имя религиозной чистоты, свойственной остальной Муваххидской династии. Но ему и его сыну (которого шариф, правивший Меккой, тоже назвал халифом после краха Аббасидов) не удалось обосновать свои притязания на обновление власти Муваххидов во всем Магрибе. Более поздние Хафсиды иногда получали власть над всем Восточным Магрибом, а иногда были вынуждены мириться с независимыми правителями, господством племен или периодическим захватом различных территорий соперничающими друг с другом членами династии.
Несмотря на слабость многих правителей-Хаф-сидов, Тунис вместе с Восточным Магрибом являлся для всего Магриба самым важным центром интеллектуальной деятельности. Маленький двор в Гранаде не мог финансировать больше количество ученых. И в марокканском Фесе, и в Тунисе существовали влиятельные общины испанцев, сбежавших туда от христиан во время крестовых походов. Но разделение территории на две части особенно ощущалось в Западном Магрибе: это были относительно ограниченная территория в непосредственной близости к городам, где ощущался эффективный контроль городского правительства, и более обширные горные районы, в которых, независимо от номинальных связей с городской династией, племена правили самостоятельно, по-своему, без какой-либо связи даже с маленькими городками — им достаточно было лишь приезжать туда на ярмарки. В потенциально богатом регионе города были практически изолированы. Между тем Тунис, несмотря на более скромный сельскохозяйственный потенциал своих земель по сравнению с западом, процветал благодаря выгодному расположению транзитного порта на пути между Восточным и Западным Средиземноморьем, важность которого повышалась вместе с ростом благосостояния христианской Западной Европы: при прямой торговле итальянских и каталонских городов с Левантом, мусульманские и еврейские купцы могли наживаться и на растущей торговле Запада (при условии хороших отношений между Каиром и Тунисом). Торговля Восточного и Западного Магриба с землями Судана пока еще не стала сколько-нибудь значимой.
По сравнению с Индией или Румом (юго-востоком Европы), Магриб был относительно изолирован от центральных исламских земель. Но это было время стремительного развития. Именно при Хафсидах в Магрибе окончательно установилась система образования в медресе, и именно тогда правоведы маликиты проделали основную часть работы по введению понятия маслаха и открытию с его помощью новых ресурсов в фикхе, признав, таким образом, местный обычай неотъемлемой и систематизированной частью фикха. Именно в этот период полностью сформировались магрибские формы народного суфизма, упрочив позиции ислама даже в отдаленных деревнях и тем самым установив более тесные культурные связи отдаленных земель с городами — независимо от крепости политических. И как раз в этот период созрели самобытные традиции магрибской архитектуры. Во всей этой деятельности Ибн-Хальдун усматривал результат действия процессов во всей цивилизации и изучал, насколько они зависят от сильного правительства в городах. В то же время он осознавал экономическую и культурную слабость его родины по сравнению с далеким прошлым (и с другими исламскими регионами) и связывал это с циклами династического правления на основе власти пасторалистов, как это происходило в Магрибе[314].
Историк-философ: Ибн-Хальдун
Ибн-Хальдун (1332–1406) был последним из великих файлясуфов умеренной испанской традиции. Он родился в Тунисе при Хафсидах, но происходил из испанской семьи. Он писал комментарии к Ибн-Рушду и окончил жизнь шариатским судьей — великим кади. В молодости от отличатся мятежным духом, и даже в более поздние годы находился под большим впечатлением от Тафтазани, прекрасно знал работы шиитского файлясуфа Насираддина Туси и, вероятно, широко интересовался более смелой философией центральных регионов исламского мира. В любом случае, в молодости он был уверен, что философу вовсе не обязательно жить отшельником в духовно чуждом обществе, и, если хорошо постараться, то можно воспитать правителя-фило-софа, способного на великие дела. Он стал учителем престолонаследника государства Гранада — остатков мусульманской Испании — благодаря патронажу своего приятеля-файлясуфа, знаменитого визиря Ибн-аль-Хатиба. Он стал преподавать свою любимую фальсафу — или, скорее, доктрины файлясуфов, поскольку вскоре стало ясно, что юноша не годится для настоящей философии. Визирь понял это раньше молодого идеалиста; он посодействовал изгнанию своего друга, дабы юный наследник, не обретя мудрости, не стал высокомерен и неуправляем в своем полузнании. Однако дружбе обоих файлясуфов это не помешало.
Затем Ибн-Хальдун переезжал от одного магрибского двора к другому, служа разным политическим группировкам. По-видимому, он надеялся реализовать свои идеи на практике или получить пост правителя того или иного двора, но его ценили только за его выдающиеся способности политика — в числе которых было его близкое знакомство с кочевыми племенами и умение с ними договариваться.
Наконец, иллюзии оставили его. Он убедился в правоте Ибн Рушда: общество нельзя изменить одним усилием воли. Однако он был убежден и в том, что понял, наконец, почему: общество развивается по своим законам. Что возможно сделать для улучшения социальных условий, а что — нет, определяется не только константой человеческой природы, но и конкретными обстоятельствами, характеризующими тот или иной период развития общества; а эти обстоятельства, в свою очередь, подчинены историческим законам, вполне поддающимся анализу.
С большим трудом ему удалось убедить своего тогдашнего покровителя предоставить ему отдых от политики и уехать в деревню, где он написал первый черновик своего главного произведения — труда по истории. Он составил его в виде всемирной летописи доисламского и исламского периодов (последняя часть в основном ограничивалась исламским обществом и особенно сосредоточилась на самом Магрибе), которую предваряло пространное введение — «Мукаддима» — анализ природы исторической науки и исторического процесса. Эта история — один из тех массивных трудов, которые обычно занимают целую полку, да и сама «Мукаддима» составляет весьма пухлый том. Наконец, он ушел на покой и придал своей книге окончательную форму в Египте при мамлюках — где его назначали маликитским великим кади всякий раз, когда режим желал продемонстрировать свою непредвзятость.
Файлясуфа Ибн-Хальдуна интересовала разработка «науки» в качестве логически стройного свода доказательных обобщений об исторических изменениях — обобщений, которые, в свою очередь, опирались бы на посылки, взятые из обоснованных результатов более «высоких» (т. е. более абстрактных) наук — в данном случае, главным образом, из биологии, психологии и географии. В фальсафе это, разумеется, был подходящий метод для обеспечения того, чтобы наблюдения новой дисциплины не были случайными и чисто «эмпирическими», а на каждом этапе включали в себя (в принципе) все возможные случаи. Но внедрение исторической науки представляло собой кардинальную перемену в привычном подходе файлясуфов. Они считали исторические явления самыми очевидными примерами изменчивости мира «становления» — того, что происходит со всеми предметами. Такие «случайные» события невозможно было понять посредством рациональной демонстрации — то есть с помощью тех же приемов, какие давали рациональное объяснение статическому миру «бытия» — тому, чем предметы являются. Изучение истории относили, в лучшем случае, к области благоразумной предварительной подготовки к практической политике нижних уровней: история не заслуживала статуса самостоятельного предмета, достойного абстрактных размышлений. Ибн-Хальдун ясно подчеркивал, что вводит новую науку, но соглашался с этой общей философской оценкой материала. Он не претендовал публично на высокое достоинство своей новой науки, какую бы значимость ни придавал ей сам.
Самарра, Ирак. Фото нач. XX в.
И все же в каком-то смысле его наука представляла собой окончательный ответ испанской школы фальсафы каламу. До этого история имела фундаментальное значение для всей шариатской тенденции в исламе, и каламисты тратили много усилий на оправдание своего метода, защищая историческую ценность хадисов как надежной основы для решений в сферах права и доктрины. Теперь областью истории предстояло завладеть фальсафе. Ибн-Хальдун довел свою атаку до логического конца даже на уровне исторических методов. Метод критики иснада, скрупулезно проработанный инструмент подтверждения исторических фактов для приверженцев шариата, по сути являлся методом внешней критики исторических документов — критикой их надежности. Ибн-Хальдун усиленно старался доказать, что внешней критики недостаточно. Во избежание очевидного бреда необходимо прибегать и к внутренней критике хадисов (критике их содержания) исходя из вечных и универсальных законов природы: так, он доказал невозможность того факта, что армия Моисея, как утверждали, достигала 600 тысяч человек, опираясь на знания в логистике и биологии. (Его методы критики содержания так и остались в зачаточном состоянии; признание конкретных данных волновало его меньше, чем принцип натурализма.) Подобно Ибн-Рушду, он дошел в своем недоверии к абстрактной стороне шариатских дисциплин до практического отрицания калама, хотя к периоду его жизни калам слишком глубоко укоренился, чтобы от него можно было в одночасье отказаться. Ибн-Хальдун был готов допустить, что во времена Газали калам мог иметь то разумное назначение, которое тот ему отводил. Но в Магрибе и Каире XIV века (когда — добавим — почти любую точку зрения можно было легально исповедовать под маской суфизма) доктринальная ересь как таковая уже не являлась проблемой, и калам, независимо от степени своей популярности, утратил актуальность.
Вместо этого Ибн-Хальдун разработал новую науку о политике, ориентированную на историю. Он отказался от классификации «городов», которой придерживались более ранние философы, как от утратившей силу: определенные ими несколько типов с их лучшей и худшей формами были слишком абстрактны и нереальны. Состояние государства следовало определять по его характеристикам в естественной последовательности исторических процессов. Все это зиждилось на том, что мы назвали бы экологией человека.
Естественное и обязательное социальное объединение людей изначально было деревенским и не отличалось высоким уровнем культуры. Именно групповая солидарность, или товарищеский дух (асабийя), подобных объединений обусловила их выживание. При благоприятных обстоятельствах та же солидарность позволяла одной сильной группе добиваться господства над многими другими — или, в тех местах, где уже развились города, над всем городским населением. Это господство означало, что ресурсы многих сосредотачивались в руках доминирующей группы, что приводило к формированию экономической специализации города и других его характерных особенностей. Сила новой центральной власти позволяла развиваться искусствам оседлого населения или — там, где они уже развились, — приводила к их процветанию. Но государство зависело от сплоченности правящей группы, и, когда ее члены вкушали роскошь, ее солидарность слабела. Группа училась управлять силой денег, а не личной мощью, а богатство вело к появлению у ее представителей зависти друг к другу, более сильной, чем их взаимная сплоченность в контроле над безоружными подданными. Единоличный лидер группы становился монархом и в итоге усматривал необходимость в опоре на наемные войска, а не на своих товарищей, ставших теперь знатью. В этот момент начинали возникать финансовые трудности; с повышением налогов чахли ремесла, что, в свою очередь, означало сокращение налогооблагаемой базы. С исчезновением изначальной солидарности группы, соответственно, сокращалась экономическая база общества; с этого момента проводить реформы изнутри государства было уже невозможно, и страна становилась легкой добычей для следующей деревенской группы с сильным товарищеским духом, особенно ведущей кочевой образ жизни. Между тем культура могла зачахнуть. (Он отмечал, однако, что последствия подобного цикла были гораздо более серьезными на таких землях, как Магриб, чем в стране с древней и глубоко укоренившейся культурной традицией наподобие Египта.)
В ходе этого анализа, сильно упрощенного в моем пересказе, Ибн-Хальдун между прочим изложил основы экономической и финансовой теории. Он наглядно продемонстрировал, как так получается, что при определенных социальных условиях приличные доходы правительства ни в коей мере не препятствуют экономике в целом, а в других условиях эта экономика рушится из-за чрезмерных расходов правительства, которое при этом получает все меньший доход. (Эти идеи не были во всем принципиально новыми, но выходили далеко за рамки обычного взгляда мусульман на экономику: в учебниках по управлению финансами для государственных деятелей делался упор на защиту сельского хозяйства, а в учебниках для купцов сравнивались преимущества различных видов вложений или были представлены наставления для администраторов рынков.) В общем, Ибн-Хальдун изучал роль искусств, относящихся к первой необходимости и к роскоши, в политическом и общественном строе. Поистине, его описание различных видов искусства было таким подробным и полным, что его книга стала восхитительным введением в исламскую культуру вообще[315].
Согласно установившейся у файлясуфов традиции изложения политической науки, он особое внимание уделил анализу места основанного на пророчестве государства в этой системе. Разумеется, здесь он старается не нарушить слишком откровенно принципы шариата, но вдумчивому читателю становится ясно, что пророческое воображение, которое, как у Ибн-Сины, обеспечивается огромной практической мудростью, способно привести к превосходным политическим результатам, но только в рамках цикла групповой солидарности: импульс пророчества — это лишь дополнение к естественному процессу формирования государства, устанавливающее имагинативные устремления властной группы; и законы пророчества могут действовать без искажения лишь в первой, самой активной фазе. Не только реформатор-философ, но и реформатор — приверженец шариата должен ждать нужного момента, когда экологические и исторические условия станут для него благоприятными. Откровение становится историческим феноменом, как на том настаивали приверженцы шариата, только в контексте, где сама история — продукт действия естественных законов.
Ибн-Хальдуна считают «отцом социологии», а его идеи прочно вошли в современную западную науку об обществе. К сожалению, это направление деятельности Ибн-Хальдуна имело мало последователей-мусульман, и о нем никто не знал на Западе вплоть до конца XIX века, поэтому у него весьма скромное место в современной истории социологии. Но его много читали, к примеру, в персидской зоне Османской империи и перевели на турецкий. Его величайшим достижением стало не предвосхищение различных более поздних социальных теорий на Западе, а включение истории в фальсафу в ее же собственном исламском контексте[316]. Это становится особенно ясно в основной части его труда — собственно истории.
Работу Ибн-Хальдуна в части его принципов и практики можно противопоставить трудам Табари: они представляют собой полярные взгляды файлясуфа и хадисоведа, приверженца универсальных истин и собирателя разрозненных фактов. Для Табари ключевым моментом было убийство Усмана и начало деления мусульман на различные партии; для исторической среды Ибн-Хальдуна почти столь же значимым было основание Мухаммадом государства. Когда Ибн-Хальдун говорит о происхождении и развитии династии Муваххидов, на каждом этапе виден его интерес к тому, какие универсальные принципы здесь сработали[317].
Тунисская банкнота с изображением Ибн-Хальдуна