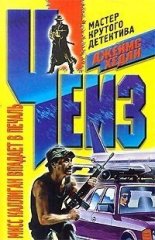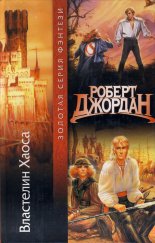На сияющих вершинах Корепанов Алексей

Белецкий высмотрел в толпе светловолосую знакомую, пробрался к ней, встал рядом.
– Доброе утро, – сказал он и улыбнулся. – Как спалось на новом месте?
Девушка посмотрела на него с легким удивлением и промолчала. Глаза у нее были очень невеселые.
– Вы, возможно, дуралеем меня считаете, – продолжал Белецкий, – но, ей-Богу, лучше не будет, если все мы начнем хмуриться и рычать друг на друга. Ничего ведь не изменится, а еще тошнее станет. Так давайте веселиться. Гаудэамус игитур.
Платформа плавно тронулась с места, неторопливо поплыла над землей, направляясь в сторону Кубоголового.
– Где бы мы еще покатались на такой посудине, а? – Белецкий не отступал от намерения завести беседу. – Во всяком плохом нужно искать хорошее и оно всегда найдется.
– И что же вы здесь нашли хорошего? – наконец поддержала разговор девушка.
– А хотя бы то, что не надо давиться в автобусе. Вы ведь тоже с нашей окраины? Приходится по утрам в центр выбираться?
– Нет. – Девушка вздохнула. – Я в гости шла, на новоселье, а живу как раз в центре, возле Дома обуви.
– Ну вот, – сказал Белецкий. – Подтверждение моего тезиса о плохом и хорошем. Живете в центре – плохо, потому что если бы жили у нас, на окраине – не ехали бы в гости, а давно сидели за столом, тосты произносили.
– А что же тогда хорошо? – заинтересовалась девушка.
– А хорошо то, что я с вами познакомился. А не случись такого происшествия – и не довелось бы, меня-то ведь на новоселье не приглашали. Кстати, напомню, с вашего позволения: меня зовут Виктор, профессия у меня журналист, не судим, в выборные органы не избирался, ученых степеней и званий не имею, а вот за границей бывал и довольно часто – у сестры в Саратове.
Белецкий отнюдь не считал себя ловеласом, но и моногамию не принимал за самый правильный и самый лучший вариант. Держался, конечно, в рамках, однако при возможности не прочь был делать виражи – с обязательным возвращением в прежние рамки. Не зарываясь…
Платформа не успела проплестись еще и ста метров, а он уже узнал, что собеседницу зовут Анной, что она этим летом закончила институт, работает аналитиком-референтом в независимом информационном центре (благодаря папиному знакомству, конечно), любит вязать, слушать музыку и смотреть латиноамериканские телесериалы. Она считала, что забрали их для пожизненной работы и ни о каком возвращении не стоит и мечтать. Впрочем, Белецкий понял, что она боится всерьез подумать о будущем, не хочет о нем думать и все-таки надеется на лучшее.
Платформа плыла над обработанными накануне лунками, и Белецкий заметил, что стекловидная масса изменилась: из полупрозрачной сделалась коричневой, вспучилась, словно распираемая изнутри, и покрылась трещинами.
– Интересно, что же тут такое должно уродиться? – задумчиво сказал он, кивая на уползающую назад борозду. – Хорошо, если простая инопланетная картошечка. А если не картошечка, а какие-нибудь чудища семиглавые, десятихвостые, с железными зубами?..
Анна с испугом посмотрела на него и Белецкий осекся.
Прибыв на место люди безропотно разобрали так и лежавшие на земле со вчерашнего дня кисточки и губки и приступили к работе. Не командовал Петрович, не возмущался Толик, молча согнулась над лункой остроносая Валентина. Никто не хотел превращаться в лягушку, закупоренную в банке с формалином.
Белецкий выбрал борозду по соседству с Анной, смерил взглядом расстояние до Кубоголового и ободряюще улыбнулся девушке.
– Вперед, покой нам только снится. В конце концов, это не канаву копать.
В первой же лунке Белецкий провел задуманный с утра эксперимент. Натянув рукав свитера на ладонь, он взял кисточку и расчистил лунку, затем принялся орудовать губкой. Шло время, а прожилки не исчезали, и не было щелчка. Он поддернул рукав и хмыкнул. Все было ясно: нужный эффект давало только непосредственное, так сказать, взаимодействие руки и инструмента. Непосредственный контакт, которому препятствовала ткань свитера. А значит, все они, похищенные с Земли, не просто рабсила, а НЕОБХОДИМАЯ рабсила. И неважно, в чем тут причина: в особенностях ли кожного покрова человеческой руки; в химическом ли составе кожных выделений; в строении ли ладони… Важно то, что эту работу, в результате которой, по-видимому, похитители весьма заинтересованы, не может выполнить какой-нибудь механизм. И, возможно, не могут выполнить, например, не земляне, а марсиане. Или выполнить-то могут, да урожай будет не тот. А самого рекордного урожая можно добиться только с помощью землян. Можно строить только предположения о том, как захватчики пришли к такому выводу: экспериментировали, рассчитывали, искали по всей Вселенной наиболее подходящих для данной роли существ?.. Опять же, не это самое главное. Главное – эта работа ИМЕННО для землян. Намерены ли касториане эксплуатировать одну группу пленников или наладят работу посменно? И сколько урожаев они думают собрать? И сколько полей на этой планете? Может быть, группа землян здесь не одна, может быть, таких групп сотни. Что если сейчас на звездных плантациях касториан уже трудится половина земного населения? Судя по всему, захватчики видели в землянах только рабочий скот и не собирались вступать ни в какие контакты. Не нужны им были контакты. Собственно, людям ведь тоже не приходит в голову попытаться обмениваться взглядами на жизнь с лошадьми или ослами…
Виктор окинул унылым взглядом необъятное поле: опасаться, что в ближайшее время можно остаться без работы, пока не приходилось.
…Борозда все тянулась и тянулась, и все ближе был неподвижный Кубоголовый, и все чаще Белецкому вспоминался вкусный «холодец» и мягкий топчан в каморке. Господи, как же мало надо человеку! Какая там рыбалка, какой Бодлер, какие там полки на балконе, какие телепередачи? «Холодец» да топчан – вот и все, что нужно для счастья. Только как же он свою каморочку-то узнает, двери ведь все на одно лицо?.. Хоть бы вишенки какие наклеили или там слоника – как на шкафчиках в детском саду. Конечно, каморки-то, наверное, одинаковые, но все-таки хотелось бы лечь на свое место, а не там, где лежал кто-то другой. И комнатку, в общем-то, не мешало бы попросторней. Небось, им это было бы запросто, касторианам проклятым…
Вероятно, мысли о «холодце» пришли в голову не одному Белецкому: люди работали молча и сосредоточенно, лишь изредка разгибаясь, чтобы вытереть пот и прикинуть оставшееся до Кубоголового расстояние. Виктор старался не обгонять Анну и, передвигаясь от лунки к лунке, то и дело смотрел на нее, надеясь получить ответный взгляд – но тщетно.
Лишь закончив работу и заняв места на платформе люди немного оживились. Платформа сразу же заскользила в сторону ангара.
– Сегодня за пять пятьдесят шесть уложились, – заявил бородач с пучком волос на затылке, постучав пальцем по наручным часам. – Втягиваемся помаленьку.
– А после кормежки еще на шесть часов запрягут, – буркнул Толик. – И будем вкалывать как папы Карлы.
– Не вешай нос, ребята, – раздался от борта простуженный голос Петровича. – Нам что, привыкать вкалывать?
Толик поскреб в затылке и со вздохом сказал:
– Привыкать-то не привыкать, но не за просто же так. Согласен, земляк? Хоть бы курева, гады, подкинули, ведь хана без курева.
– И культурно-массовых мероприятий организовать, – с ехидцей подхватил кто-то из сгрудившихся у борта.
– А что – и мероприятий, – с вызовом отозвался Толик. – Самым важным из всех искусств для нас является кино, вино и домино. Что, не так? Классики иногда и кое-что путевое говорили.
– Какой же это классик, Брежнев, что ли?
– А хоть и Брежнев – плохо тебе жилось при Брежневе? Уж не хуже, чем сейчас. Довели народ, заразы!
– А кто довел-то? Кто?
– Господа, не надо о политике – и так тошно.
Закружился обычный автобусно-гастрономный общий разговор глухих с глухими, и под этот разговор платформа благополучно прибыла к ангару.
На этот раз никаких препятствий при входе не обнаружилось, и Виктор вместе с товарищами по труду благополучно вошел в ангар. На столе уже поджидал «холодец». Виктор бросил взгляд на вереницу дверей – и замер. Их одноликость, а вернее, безликость, кое-где была нарушена: коричневым пятном выделялась обитая дерматином дверь с блестящей табличкой; другая была желтой и полированной; третья – с круглым окошком наподобие иллюминатора в корабельной каюте. А еще одна – со светлой наклейкой, на которой красовались две ярко-красные вишенки, чуть прикрытые сверху зеленым листочком. Как в детском саду…
Виктор, не веря своим глазам, подошел к этой двери, взялся за круглую гладкую ручку, открыл – и вновь замер. Не было тесной каморки с топчаном, лишенного индивидуальности места для сна. Была просторная комната с диваном, двухтумбовым столом с пишущей машинкой и стопками бумаги, было кресло и полка с бритвенным прибором и зеркалом, ковер на полу и люстра под потолком, и настольная лампа, и была приоткрытая дверь, ведущая, кажется, в другую комнату, и занавешенное окно, за которым угадывались деревья…
«Принимают к сведению… Разбираются… Выполняют… Принимают к сведению… Разбираются… Выполняют…» – заезженной пластинкой крутилось в голове ошеломленного Белецкого.
Да, они были не простыми пленниками. Они были очень ВАЖНЫМИ и очень НУЖНЫМИ пленниками.
– Вот это апартаменты! – восхищенно сказали сзади. – А у меня? Маша, посмотри, что там у меня? И у себя проверь, ты же хотела, чтобы биде…
7
Красное заходящее солнце застыло над кромкой далекого леса, воздух был неподвижным и теплым. Березы на холме возвышались подобно колоннам эллинского храма, бросая длинные тени на траву, усыпанную золотыми монетками сухих листьев. Тропинка, стекая с холма, вливалась в раскинувшееся почти до горизонта поле и терялась во ржи. В детстве Белецкий любил вместе с ребятами мчаться вниз по этой тропинке, раскинув руки как крылья и изображая гудящий самолет. Их детский сад вывозили летом на дачу – подъезжали большие автобусы, мамы целовали на прощание своих малышей, и малыши с веселым визгом устраивались на сиденьях, держа корзинки с разными сладостями.
Эта березовая роща на холме была постоянным местом их игр на даче. А чуть дальше, за березами, тянулся глубокий овраг, промытый талой водой и летними ливнями; в нем они под руководством воспитательницы Нины Ивановны добывали глину и лепили разных зверюшек… Овраг и сейчас был там, слева от Белецкого. И хотя многое стерлось в памяти за четверть века, он сразу узнал березовую рощу детства.
Анна сидела рядом с ним на поваленном гладком стволе и тоже молчала, глядя на разметавшийся по краю неба закат. Белое платье делало ее похожей на молоденькую березку – гибкую, тонкую, задумчивую… Анна была его гостьей, его спутницей здесь, в этом мире, созданном из его воспоминаний.
Они сидели и молчали, отдыхая, зная, что никуда не надо торопиться. Ужин закончился совсем недавно и до начала рабочего дня оставалось целых десять часов.
А вообще продолжительность здешних суток и установленный для пленников распорядок дня стали окончательно ясными довольно быстро: из двадцати трех часов шесть и даже меньше (в зависимости от быстроты проходки отмеченного Кубоголовым участка) отводились на работу, остальное время, кроме завтрака, обеда и ужина, состоящих из все того же «холодца», предоставлялось каждому в свободное и безраздельное пользование. Время отбоя не регламентировалось – гуляй хоть до утра, – а вот подъем производился по гудку. Жека продолжал ужасным памятником торчать у входа, и желающих поспать подольше и не выйти на работу не находилось.
Шла уже четвертая неделя их жизни в чужом мире.
Однообразная работа стала привычной, она не требовала особых физических усилий и превратилась в необходимое мероприятие по поддержанию хорошего тонуса. Кубоголовый не увеличивал норму, день за днем отмеряя совершенно одинаковые площади, и отстающих вскоре не осталось: все шли ровно, в одну линию, а если кто-то и вырывался чуть вперед, нарушая строй, его осаживал окрик Петровича. Работали хоть и без песен, но и без обреченного уныния первых дней. Поле постепенно преображалось: в лунках возле ангара появились всходы, и с каждым днем все дальше тянулись ряды странных то ли растений, то ли грибов, то ли плодов с тремя толстыми мясистыми короткими ножками цвета моркови и плоской, слегка волнистой пятнистой шляпкой, похожей на подгоревший блин. Их прозвали «блинчиками» и не трогали после того, как доминошник дядя Вася Чумаченко попытался выдернуть из лунки один «блинчик» и получил чувствительную оплеуху из пустоты. Впрочем, касториане, как про себя называл неведомых чужаков Белецкий, без необходимости не наказывали забранный с Земли «ограниченный трудовой контингент» (это уже по определению Петровича), а, напротив, заботились о поддержании его в работоспособной форме. Все убедились в этом после случая с приемщицей обуви Екатериной Михайловной, которая на четвертый или пятый день пребывания в трудовом лагере еле-еле встала по утреннему гудку, скрученная приступом радикулита. Кое-как добравшись до двери своего жилища, она убедилась, что дверь заперта. Екатерина Михайловна толкала дверь, стучала, кричала, но тщетно – сидящие за столом в зале не слышали ее. Потом женщина, испуганная тем, что может разделить участь Жеки, обнаружила у своей постели тарелку с «холодцом». Сообразив, что «прогул» ей не засчитают, Екатерина Михайловна успокоилась, позавтракала и подчинилась невидимой силе, придавившей ее к постели. Невидимые мягкие руки гладили ее страдающую поясницу, легкое покалывание сменялось волнами тепла, растекавшимися по всему телу, и в итоге, к обеду, повеселевшая женщина, избавившись от боли, не вышла, а выпорхнула к столу и рассказала всем о пройденном ею курсе лечения.
Подобным же образом было ликвидировано осеннее обострение язвы желудка у тощего бородатого мужичка лет сорока, которого знакомые называли «Батей».
После того, как пленники поняли, что, выполняя их желания, касториане вместо каморок могут предоставить им любую жилплощадь, внутренний вид жилищ совершенно изменился. За входными дверями теперь размещались просторные многокомнатные квартиры с полным набором мебели, коттеджи, виллы и даже дворцы с десятками залов, фонтанов, колонн, с висячими садами, бассейнами, зеркалами, мраморными лестницами и ажурными галереями – все зависело от воображения заказчика. Рядом с этими чудесами архитектуры зеленели полянки или простирались парки, текли реки или тянулась пустыня с египетскими пирамидами – опять же, по желанию проживающих. И после обеда, и после ужина можно было сколько душе угодно бродить по своим владениям и, если захочется, устроиться на ночлег не в своей квартире или дворце, а где-нибудь на берегу озера, в лесу, на скирде, в высокой степной траве… Даже уйдя очень далеко от жилища, не стоило тревожиться о том, что не успеешь вернуться к началу рабочего дня: сразу же после утреннего гудка рядом с жильцом из легкого облачка возникала дверь – единственное, что оставалось неизменным изнутри во всех бывших каморках, – ведущая в зал ангара с длинным столом для совместной трапезы. Кстати, выход из самого ангара тоже стал беспрепятственным, не закрытым невидимой прочной стеной силового поля, и желающие могли прогуляться вдоль подрастающих «блинчиков» под неизменно серым беспросветным чужим небом.
Изменились не только каморки. Неведомые исполнители желаний сработали и одежду по вкусу заказчиков. Куда там «Бурда-моден», куда там всем этим Карденам вкупе с Юдашкиными! К обеду выходили в самых разнообразных нарядах, хотя для работы одевались поскромнее – не очень-то удобно возиться у лунок в длинном полупрозрачном платье или замшевых брюках в обтяжку и ежеминутно откидывать узкий серебристый галстук… Наиболее приемлемой для работы оставалась выданная «спецодежда», но ее надевать перестали.
В послеобеденное время ходили друг к другу в гости, гуляли по потусторонним окрестностям жилищ, играли в возникшие по мановению все той же волшебной палочки карты, домино и шахматы, рассказывали анекдоты и вспоминали разные забавные и не очень забавные истории сексуального, в основном, характера. Мужики обрывали с деревьев листья, сушили и крутили самокрутки. Обсуждали возможность переработки «холодца» на самогон. Поблескивая глазами, жадно глядели на женщин; женщин среди пленников оказалось большинство, можно было выбирать. Женщины демонстрировали наряды и косметику, похохатывали над анекдотами, вязали, тоже играли в карты и, проиграв в «дурака», лезли под стол и кукарекали под общий восторг окружающих. В мужских компаниях с подмигиваньем и ухмылочками велись разговоры о том, какую пришлось уламывать, а какую нет, и сколько раз дала, и сколько раз взяла, и сколько раз кто смог, и какие позы перепробовали. Остроносая торговка Валентина оказалась, судя по этим рассказам, настоящей сексуальной разбойницей, наконец-то нашедшей свое призвание и раскрывшей свой талант в многочисленном мужском окружении. Ее трехэтажный коттедж с зеркальными комнатами мужики называли «секс-клуб „На Валюхе“, однако саму хозяйку прилюдно величали уважительно „Валентина Санна“ и не позволяли себе в ее присутствии никаких насчет нее шуточек…
Белецкий поначалу тоже ходил, смотрел и слушал. Но очень скоро почувствовал тошноту. Тошноту не физическую, а какую-то другую, но еще более неприятную. «Это Психее моей дурно сделалось», – сказал он себе и уединился в своей скромной двухкомнатной квартире с видом на березовую рощу, а иногда, по настроению и желанию – на речную долину, окруженную сосновым лесом. С этой вертлявой речушкой с грозным именем Тьма, быстро бегущей среди некошенных лугов, были связаны у него самые яркие впечатления безоблачной пионерской юности. Самое яркое и неповторимое всегда бывает в детстве и юности, и там и остается навсегда, лишь временами оживая щемящими горько-сладкими воспоминаниями..
Он запирал дверь на замок, садился в кресло или за письменный стол, размышлял, стучал на пишущей машинке, гулял по березовой роще, вдыхая полузабытые, но, оказывается, сохранившиеся где-то в глубине души запахи детства. Нынешнее его положение, дающее много свободного времени, отсутствие обычной журналистской спешки и кучи всяких важных и не очень важных повседневных дел, проблем и забот давало очень редкую в обыденной суматошной жизни возможность просто посидеть и подумать, погрузиться в себя, что-то осмыслить, что-то выразить на бумаге. Ему были неинтересны карты, домино и шахматы. Десять лет назад, в студенческие годы, он записал в своем дневнике: «В небесном воинстве своя градация: от Серафимов до Престолов, от Господств до Властей, от Начал до Ангелов. Мне, конечно, никогда не подняться до ангельских высот, но я никогда не буду и тем, что зовется „райя“. Я не на небе и не на земле, я где-то между ними, хотя, вероятно, все-таки ближе к земле, чем к небу… И все-таки выше тех, кто на земле!» С годами чрезмерная самовлюбленность исчезла, но что-то все же осталось. И журналистом он себя считал не из самых последних.
Подташнивало его и от постоянных разговоров «про баб» со смакованием подробностей. Он не был ханжой, но считал, что есть вещи, о которых не стоит распространяться. А сексуальные эти разговоры повторялись каждый день. Мужики, лишенные привычных пивбаров, самогона в гараже и телевизора с политическими новостями, вели их азартно, взахлеб, с шуточками и прибауточками – и не было другой темы для обсуждения.
Вышло так, что повальная «сексуализация» умов повлияла и на изменение его отношений с Анной. Хотя он и старался всячески привлечь ее внимание, движимый скорее не чувством, а азартом («комплексом Дон Жуана», как характеризовал для себя это качество сам Виктор), девушка не проявляла к нему особенного интереса, хотя и поддерживала беседу и не отказывалась от его общества. Конечно, разница в восемь-девять лет в таком возрасте кажется большой, говорил себе Белецкий, но попыток своих не оставлял, увлеченный этой игрой. И все-таки он не ставил себя на одну доску с остальными мужиками, хотя прекрасно понимал, что доска-то такая же, только, может быть, более гладко оструганная…
А отношение к нему Анны изменилось после одной из поездок на платформе. Он, как всегда, стоял рядом с ней у борта, негромко рассказывая какую-то историю, которых у любого журналиста в избытке. Анна рассеянно смотрела на тянущиеся за бортом ряды подросших и окрепших «блинчиков» и слегка улыбалась не очень веселой улыбкой. Внезапно в ним повернулся парень с жирными, словно вымазанными маслом волосами и заведенной здесь, на сельхозработах, жидкой бороденкой. Одет был парень в салатного цвета куртку со множеством карманов и карманчиков, закрытых на «молнии» и кнопки, широкие синие шаровары «а-ля запорожский казак», на ногах имел добротные кроссовки из телевизионной рекламы фирмы «Рибок», а на шее – разноцветный узкий ошейник, явно связанный кем-то из женской части «ограниченного трудового контингента». Раза два или три видел его Белецкий в той, прежней жизни, у винного отдела гастронома да у бочки с пивом, что все лето проторчала на пустыре, а уже здесь услышал, что парня называют то «Киней», то «Халявщиком».
– Слышь, чувак, – сказал Киня-Халавщик, обращаясь к Виктору, но глядя при этом на задумчивую Анну, – ты вот эти разговоры разговариваешь каждый день, ты уже достал своими разговорами, слышь? Ну че ты к солнешке этой привязался со своими разговорами? Ты че, радио, что ли, или телевизор? Ну че ты ей вкручиваешь, дядя? Небось, жинке такое не вкручиваешь, небось, жинку-то так не достаешь.
Белецкий никогда не отличался хорошей реакцией. Он относился к числу представителей того самого «остроумия на лестнице», когда удачный ответ приходит в голову слишком поздно. Не на месте события, а именно на лестнице, когда уходишь без слов, а в пространстве между пятым и четвертым этажом тебя вдруг осеняет – но поздно уже вернуться и отбрить обидчика, потому что дорога ложка к обеду и дорого слово к месту; а возвращаться и метко отвечать – бессмысленно, потому что там, в компании, уже забыли о том, что говорилось пять минут назад.
Пока Белецкий соображал, что ответить, Киня-Халявщик нехорошо ухмыльнулся и добавил:
– Ты или займись девушкой по-серьезному, а не разговорами, или отвали, дай другим заняться. Такой товарец пропадает!
Больше он сказать ничего не успел, потому что после неожиданного удара Белецкого отшатнулся к борту и свалился с платформы, зацепив ногой громко захрустевший «блинчик». Платформа тут же остановилась и Халявщик забрался обратно, громко обещая расправиться с Белецким, но его быстро утихомирили.
– Получил – и поделом тебе, поделом! – затараторила бойкая женщина, стоящая рядом с испуганной Анной. – Чего к людям пристаешь? Совсем совесть потерял!
Ее поддержали другие, Петрович призвал соблюдать дисциплину, широкоплечий бородач посоветовал Кине не лезть не в свое дело – и Киня умерил свой пыл, хотя и пробурчал что-то насчет того, что обломает Белецкому рога.
Инцидент не получил никакого продолжения, но Анна теперь старалась проводить время в обществе Белецкого, полагая, наверное, что он сможет защитить ее от приставаний.
Вот так и вышло, что в своей березовой роще Виктор все чаще бывал вместе с Анной. Временами и он заходил к ней в гости, и они гуляли возле ее дома, который стоял рядом с песчаным пляжем, полукольцом огибающим морскую бухту со спокойной прозрачной водой…
8
Солнце уже скрылось за лесом, в наступивших сумерках белели стволы берез.
– Как здесь тихо, – задумчиво сказала Анна. – Закат погас – и все замерло.
– Я сижу один. Закат погас… – медленно начал Белецкий. – В дверь души стучатся в поздний час путники, окутанные тьмой: неосуществленные надежды с болью возвращаются домой…
– Ух ты! – Анна посмотрела на него с уважением. – Сам сочинил?
Белецкий засмеялся.
– Нет, что ты, это до меня сочинили. Тагор.
– Тагор… – Девушка пожевала травинку. – Что-то, кажется, слышала. Из древних, да?
– Да уж не так, чтобы из очень… – Белецкий вздохнул. Анна была представительницей нового поколения, которое выбирало не Тагора, а «Пепси». – Впрочем, я тоже что-то такое пытался изобразить в молодые годы.
– (Не мог он удержаться от желания слегка распустить перья перед девчонкой, пусть даже и не без иронии над собой.) – Помню, закату тоже уделял внимание. «В небе закат догорал… Молча поля засыпали… Птицы ночные летали… м-м… Грустный мотив умирал… Шел, одинок и устал, музыку слушал печали… Мглою окутались дали – смерть начала карнавал…» И так далее, строф десятка полтора, не меньше. – Белецкий на некоторое время погрузился в воспоминания и вдруг встрепенулся. – Между прочим, сейчас вот вспомнил несколько своих строк, тоже давних, и, по-моему, вполне могу потягаться с Нострадамусом. Вот, послушай: «И возникнут у края
– В урочный час. Пусть забирают – Нас»… Как тебе? Чем тебе не пророчество? Край – это ведь та самая окраина городская, откуда нас умыкнули.
– Господи! – Анна поежилась. – Нашелся Нострадамус на наши головы. Ну скажи, Витя, ну что они такие, ну сколько это еще будет продолжаться? – Голос ее задрожал. – Почему они нам ничего не объясняют?
Белецкий осторожно положил одну руку ей на плечо, другой нежно провел по светлым волосам, по щеке, вытер мокрые ресницы девушки.
– Возможно, еще объяснят. Хотя мое мнение такое, что никто нам ничего объяснять не будет. И так ведь все понятно: они создают нам условия для приятной жизни, а мы работаем. Ты – мне, я – тебе. Взаимовыгодное сотрудничество. И длится оно будет, естественно, по мере необходимости.
– Когда же эта мера необходимости закончится, Витя?
Белецкий пожал плечами.
– Знать нам это не дано. Или им наплевать на наши переживания по этому поводу – тебя ведь не волновали бы чувства твоей лошади, которая пашет от зари до зари у тебя на поле и не знает, когда это кончится, и кончится ли вообще?. Или нас вполне осознанно и умышленно держат в неведении. Возможно, находясь именно в состоянии неведения, мы наиболее эффективно воздействуем на «блинчики». А если будем знать, что скоро домой, то эффект пропадет: «блинчики» будут уже не те. Потеряют свои вкусовые качества.
– Так они что, едят их, что ли?
– Это я для примера, Анечка. Бог его знает, что они с ними делают: может быть, едят; может быть, сушат, толкут и употребляют как средство для травли тараканов. Или как приворотное зелье. Или варят и делают губную помаду. Или в нос закапывают при насморке да приговаривают: «Матерь Божья, заступница, сними с меня сухоты и грызоты, с легких, с печени, с сердца, из-под сердца, с белых рук, с белых ног». В общем, гадать бесполезно, ясно одно: для наших работодателей это нужный продукт, и мы им чем-то очень подходим для его получения. Вот они и стараются, обеспечивают все условия для нормального быта и отдыха. – Белецкий похлопал ладонью по березовому стволу, на котором сидел рядом с девушкой. – Прямо как хороший профсоюз. Ну разве мог я предположить, что вновь попаду когда-нибудь в березовую рощу детства? Она ведь теперь изменилась, многое там изменилось – был я там лет семь назад, хотя знал: никогда не надо возвращаться, потому что вернешься уже не туда…
Лес на горизонте слился с потемневшим небом, над верхушками берез проступили слабые звезды. Анна опять зябко передернула плечами, хотя вечер был по-летнему теплый, прижалась к Белецкому.
– Не понимаю, откуда это все здесь появилось, Витя? Твои березы, мое море, розовый сад у Клавы Марченко… Как они все это сделали, откуда места столько набрали в нашем сарае?
– Миры можно из воздуха творить, было бы только умение. И желание, конечно. В каждой песчинке может находиться целая Вселенная, а то и две. Материала для сотворения сколько угодно – надо лишь уметь его обработать. Они умеют, как видишь. Ну, а насчет места в сарае… Представь себе, например, развернутую газету. Нашу «Вечернюю». Или «Диалог». Она ведь больше, чем, скажем, поллитровая банка? А вот если ее сложить аккуратно или скомкать – так ведь она же влезет в банку, согласна?
– Ты прямо как наш Дед, – помолчав, сказала Анна. – Был у нас такой преподаватель. Всегда все растолковывал, и с таким видом, будто только ему одному и известна истина. Будто он сам, как Господь, эту истину сотворил и ничего другого быть не может.
– Ну почему же… – Белецкий несколько смутился. Выдернули ему несколько перышек, ничего не скажешь. – Я вовсе не претендую на открытие истины. Всего лишь предполагаю, стараюсь как-то объяснить… Может быть, истина вовсе в другом месте находится. В противоположном направлении. На другой стороне. Может быть, мы вообще здесь не для того, чтобы «блинчики» выращивать да в карты резаться. Цель у них, у умыкателей наших совсем другой может оказаться.
– Какой другой? – Анна слегка вздрогнула. – Что ты выдумываешь?
– А вот какой: знаешь, что такое сепаратор?
– Н-ну, штуковина такая для молока. Отделяет что-то там… Сепаратный мир…
– Умница. По латыни – «отделитель». Аппарат для разделения разнородных компонентов. Вот они, касториане, и поместили нас в сепаратор, дабы отделить зерна от плевел, агнцев от козлищ и тому подобное. Попросту говоря, процеживают нас сквозь ситечко, смотрят, кто есть ху, как Горбачев говаривал. Кто чего достоин. А потом тех, кто действительно гомо сапиенсом себя показал, переселят в какой-нибудь прелестнейший мир, дадут еще одну жизнь и начнут посвящать в тайны Вселенной. А остальных – в истопники навечно, подкидывать уголек в недра звезд. Вот тебе и еще одна истина.
Девушка дернула плечом, сбросив его руку, отодвинулась и холодно сказала:
– Себя ты, конечно, к гомо сапиенсам причисляешь. А остальных – к быдлу неразумному и непросвещенному.
– При чем здесь я, Аннушка-голубушка? – Белецкий вновь привлек ее к себе. – Это я просто к примеру, насчет истины. Не дано нам найти истину, не дано узнать цель чужаков этих касторианских, если они сами нам ее не поведают. Предположений можно строить сколько угодно, и какое-то из них даже может быть правильным. Только вот какое?.. Не помню, кто из древних говорил… по-моему, Секст Эмпирик…
– О! Все красуешься, гомо сапиенс, – язвительно прервала его Анна, но второй попытки отстраниться не сделала.
– Да нет, ты послушай, мысль хорошая. Представьте себе, говорит Секст Эмпирик, что где-то есть дом, в котором находится много золота. И вот десяток воров пробираются туда ночью и ищет в потемках. Каждый что-то там нашел и думает, что нашел именно золото, но точно не знает, даже если держит в руках действительно золото. Вот так же и мудрецы ищут истину в мире – даже если кто-то из них ее и нашел, то не знает – истина ли это или нет. Хорошо сказано, а?
– Гомо сапиенс! – вновь съехидничала Анна, но Белецкий не обратил внимания на реплику, погрузившись в свои мысли.
– Их цели нам неведомы, – медленно продолжал он, глядя на звезды. – Нам и свои-то цели неведомы, вот ведь беда какая. Идем куда-то, а куда?.. зачем?.. сами ли идем?.. по чьему-то велению-хотению?.. Опять же, один мудрый человек, Лейбниц, вот что сказал: «если бы стрелка компаса обладала сознанием, она бы считала свободным свое отклонение к северу». Или, если хочешь, Спиноза: «обладай летящий камень сознанием, он вообразил бы, что летит по собственному хотению»… Вот так, возможно, и с нами обстоит дело: вылезли из пещер, заполонили всю планету, загадили, обзавелись всякими техническими побрякушками, на звезды посматриваем, спутники запускаем и думаем, что живем сами по себе, как сами хотим и желаем. А на самом-то деле, возможно, кто-то или что-то нас ведет, направляет, называй ты его хоть Богом, хоть Космическим Разумом… Тянет нас куда-то, как стрелку компаса. Куда? Ты ведь только посмотри, что делается: механизация, автоматизация, роботизация, компьютеризация – пусть пока в младенческом состоянии, но в перспективе абсолютная… Тенденция определенная и устойчивая. Что дальше? Чем заниматься, когда ничем не надо будет заниматься? Всеобщая праздность, сибаритство – и в итоге вымирание. Смена караула. Человеческая цивилизация почила в бозе, цивилизация машинная осталась. Может быть, эти касториане и есть цивилизация машинного уровня… Но опять же – где цель? В чем смысл? Смена уровней, долгий путь перевоплощений – на пути к вселенскому единству, к слиянию с этим самым Высшим Разумом? Или никакой цели и вовсе не существует? Представь, что есть некий абсолютно равнодушный ко всему застывший космический океан. Иногда то тут, то там пролетает над ним ветерок – и кое-где на воде появляется рябь. Появится – и исчезнет без следа. Вот эта рябь и есть миры, в которых существует жизнь. Возникла, породила разум, разрослась в цивилизацию – у нас, на Марсе, в Туманности Андромеды, неважно где – и исчезла без всяких последствий. И вновь поверхность океана гладкая и спокойная. До следующего дуновения… Понимаешь, Аннушка-голубушка?
– А? – Девушка вздрогнула, огляделась и сладко потянулась всем телом.
– О-ох, усыпил ты меня своими разговорами. Это пан Кравцов у нас любил пофилософствовать: подопрет рукой подбородок, уставится поверх наших голов и бубнит, а мы с девчонками выкройки рассматриваем, а ребята в «балду» играют. – Она погладила Виктора по руке. – Ты вот рассуждал о чем-то там, а мне приснилось, как я в магазине толкаюсь. Хорошо, что здесь магазинов нет…
Девушка потерлась щекой о его плечо, и он мысленно плюнул на все свои рассуждения и обнял ее, со сладостным возбуждением ощутив под тонкой тканью платья молодое упругое тело.
…Она не сопротивлялась, когда он раздевал ее на траве под березами и звездами. Она часто дышала, и груди ее были горячими и нежными, и губы ее тоже были горячими и нежными, и он прорвался в нее как поток, рушащий плотину, как ветер, распахивающий окно – и закачались березы, и закачались звезды, и содрогался в едином ритме весь странный ночной мир вокруг…
…Все было хорошо, все было чертовски хорошо, и не было никаких проблем, и день грядущий не нес никаких забот, не нужно было никуда спешить, задыхаться в переполненном автобусе, созерцать опостылевшие телевизионные маски, выслушивать серые слова и что-то говорить самому. Все было хорошо…
9
Утром обнаружилось, что «блинчики» изменились. Они оплыли, словно растаявшее на горячем блюдце мороженое, осели, лишившись толстых морковных ножек, и превратились в невысокие желеобразные холмики, сохранив от прежнего вида только свою пятнистость.
– Процесс опять пошел, – прокомментировал заядлый доминошник Коля Таран и плюнул с платформы на претерпевшие очередную метаморфозу плоды трудов «ограниченного контингента». – Скоро жабы оттуда полезут с во-от такенными жлебальниками и начнут нами закусывать.
– Не мели, Мыкола! – зычно одернул его Петрович. – Никаких жаб тут и в помине нет и не будет. Работай себе да лупи по столу костяшками, дуплись на оба конца – и все дела. И не разводи тут нездоровые настроения.
Петрович, судя по его высказываниям, давно сдал в архив планы проведения рекогносцировки и разработки вариантов избавления от плена с определением направления главных ударов. Петрович оказался отменным картежником, знатоком огромного количества анекдотов и историй из жизни военнослужащих. Он пел под гитару (в его доме оказалась гитара), занимался (и, кажется, небезуспешно) «амурными» делами и сожалел лишь о том, что нет рядом бывших армейских приятелей-сослуживцев.
А вообще пленники постепенно разбились на отдельные группки, согласно, так сказать, своим склонностям и интересам, и потихоньку начали возникать даже новые семейные пары… Это дало повод к незлобивым шуточкам типа: «Ох, Людмила, забросят тебя домой, твой-то тебе ноги повыдергивает!» – или: «Смотри, Анатольевич, жинка тебе достоинство укоротит, когда вернешься, а Любаше глаза повынимает», – и прочим в том же духе.
Выгрузились, разошлись по бороздам, не обращая уже никакого внимания на Кубоголового, воспринимая его просто как деталь однообразного незатейливого пейзажа. Белецкий работал, производя заученные движения, он свыкся с ролью автомата и не думал о том, что делает: руки и ноги справлялись с работой без участия сознания. Рядом, справа и слева, выполняли производственные задачи десятки таких же автоматов, одетых и обутых кто во что возжелал, накормленных, поправивших здоровье, сексуально удовлетворенных, беззаботных и предвкушающих близкий приятный традиционный отдых.
Белецкий изредка обменивался улыбками с работающей рядом Анной и с трудом подавлял приливы желания, с замиранием сердца вспоминая ночь прошедшую и, распаляя воображение, рисуя ночь будущую. Много, много ночей!
Это ведь вовсе не измена, говорил он себе, это просто действия с учетом сложившейся ситуации. Действия, наиболее соответствующие ситуации. Кто знает, сколько еще предстоит здесь пробыть? Может быть, всю оставшуюся жизнь… А потребности-то требуют удовлетворения…
Потребности… Когда-то, довольно давно, в незабывшемся еще прошлом, людей вели тернистым, но верным путем в светлое будущее, к сияющим вершинам коммунизма. Да-да, Белецкий хорошо помнил прочитанные или услышанные в детстве восхитительные торжественные слова: «сияющие вершины коммунизма». Прекрасные вершины были именно тем местом, где каждый отдаст «по способностям» и воздастся ему «по потребностям».
И вот, выходит – дошли? Пусть не сами дошли, пусть их насильно сюда затащили – но они достигли сияющих вершин. И способности используются, и потребности удовлетворяются.
Вообще идея коммунизма, как общества, которое воплотило бы этот принцип использования и удовлетворения, была Белецкому весьма симпатична. Пусть даже это общество зовется не коммунистическим, поскольку само слово «коммунизм» считается нынче чуть ли не матерным; пусть будет постиндустриализм, пусть будет неокапитализм или что-либо другое. Не в названии дело. Дело – в воплощении принципа. От каждого – то. Каждому – это. Основа. Фундамент. Краеугольный камень.
Так вот они – сияющие вершины? Вот он – блаженный край мечты? Здесь ведь лучше, чем там, у звезды по имени Солнце, в озабоченном проблемами городе озабоченной проблемами страны? Вот они, счастливые люди, попавшие-таки на седьмое небо и обретшие, наконец, прекрасную жизнь на надежной тверди сияющих вершин. Довольные. Сытые. Не беспокоящиеся о завтрашнем дне. Каждому – по потребностям..
«А ты доволен?» – спросил он себя. И ответил себе: «Нет, мне этого мало. Мне нужно что-то еще. Потому что я не такой, как они. „И все-таки выше тех, кто на земле!“ Я не такой…»
Анна наклонилась над лункой в двух метрах от него, он посмотрел на ее обтянутые черными брючками ягодицы, мысленно сжал их руками и едва удержался от желания броситься к ней, обхватить сзади и… Она, словно почувствовав его неистовое желание, обернулась и, прищурившись, ласково и призывно посмотрела на него.
…Работу, как всегда, закончили в срок, придя к финишу ровной линией, ноздря в ноздрю. Сложили инвентарь и, переговариваясь, с шуточками-прибауточками направились к летающей платформе, минуя Кубоголового как пустое место. И лишь Толик-погребокопатель, поотстав, вдруг свернул к надзирателю.
– Слышь, товарищ заведующий, – сказал Толик, остановившись перед белой фигурой и подобострастно глядя на нее снизу вверх. – Я с просьбой от имени коллектива. – В голосе его звучали умоляющие нотки.
Услышав проникновенный голос Толика, Белецкий, шедший вместе с Анной в числе последних, остановился, с любопытством ожидая продолжения. Лично он никаких просьб к Кубоголовому не имел и никаких полномочий Толику не давал. Может быть, состоялось какое-нибудь закрытое собрание членов клуба «На Валюхе»?
– Вот вы нас тут обслуживаете, обеспечиваете всем необходимым – спасибо вам от меня и от коллектива, опять же, – сладкоголосо зажурчал Толик, демонстрируя обнаружившиеся вдруг запасы красноречия. – Все нормально, жаловаться не на что. О здоровье заботитесь, о печенках наших-селезенках. Курева нам не даете, мы уж сами выкручиваемся. Ни винишка нам не предоставляете, ни другого алкоголя, потому что вредно, понимаем. И не просим. – Челобитчик сделал вполне театральную паузу и трагическим голосом воззвал к Кубоголовому, добравшись, наконец, до того главного, ради чего и произносилась речь: – Но хоть пива-то вы можете нам дать? Не самогоняры – пива! Оно же полезное, его же даже врачи рекомендуют. Хотя бы по кружечке после работы, а? От имени коллектива, не от себя же лично. Правильно, мужики? – обернулся он к платформе.
«Правильно, правильно!» – раздались голоса из гущи трудового контингента, с интересом слушающего новоявленного полпреда.
«Что же это за сияющие вершины такие, если хочешь пива – а его нет?»
– подумал Белецкий и, подмигнув Анне, тоже крикнул:
– Одобряем!
– В общем, просим пивка, хотя бы к обеду, хотя бы по кружечке, – завершил свое обращение Толик, вытер пот со лба и выжидающе посмотрел на Кубоголового, словно тот прямо сейчас должен был извлечь из-под своих одежд желтую цистерну с вожделенным напитком.
Кубоголовый как всегда остался бесстрастным, и Толик, потоптавшись немного, пошел к платформе.
– Как ты думаешь, дадут? – спросила Анна. – Я бы тоже не отказалась. Мы с девчонками в общежитии пили иногда, мальчики нам красивые такие баночки приносили. «Стэффл», что ли.
– Кто его знает? – ответил Белецкий. – Пейте пиво пенное… Хорошо бы, если бы прислушались к мнению коллектива. С их стороны будет просто некрасиво и, я бы сказал, неправильно не прислушаться к мнению трудящихся.
– Ох и язвочка же ты, Витюша, – нежно сказала Анна и ущипнула его за локоть.
Спустя некоторое время, подходя к привычно сервированному столу, на котором никакого пива не наблюдалось, Белецкий получил возможность ответить девушке.
– Язвочка – не язвочка, а все-таки очень далеки они от запросов народа. Пива им для народа жалко.
– Может, они просто его делать не умеют? – предположила девушка.
– Гады, – удрученно сказал Толик, обводя взглядом стол. – Кровь нашу пьют за спасибо. Ну ни хрена понять не могут, дятлы раздолбанные!
– Глас народа – глас божий. – Белецкий назидательно поднял палец. – Не внемлющего гласу Божьему ждет возмездие. По-моему, касториане очень рискуют.
А вернувшись в свое жилище переодеться и немного поработать за письменным столом перед визитом к Анне, он обнаружил, что касториане вняли-таки гласу. На прикроватной тумбочке в спальне стояла обычная поллитровая темно-зеленая бутылка со знакомой этикеткой. Можно было подумать, что «Жигулевское» подвезли из ближайшего гастронома, если бы не одна деталь: горлышко было закупорено не стандартной жестяной пробкой, а полупрозрачной белой пленкой.
«Ну, черти, уважили, – думал Белецкий, сидя на кровати и с удовольствием потягивая прохладный приятный напиток. – Сегодня пиво дали, а завтра что давать будут по просьбам трудящихся?..»
…Появление пива стало главным предметом разговоров за ужином. Толик чувствовал себя героем, бурно радовался, шутил и тут же вместе с другими мужиками устроил экспресс-опрос на предмет выявления чудиков, что терпеть не могут «Жигулевское» и готовы отдать его истинным любителям.
– Живем, мужики! – радостно восклицал Толик. – Сегодня играем на пивко!
– Надо еще телевизор у них попросить, – заявила Маша, супруга Валерия Александровича. – Чтобы у всех желающих был телевизор, а то прозябаем, как в Африке.
«О, господи! – подумал Белецкий, глядя на радостно возбужденных людей, уминающих „холодец“. – Неужели и телевизоры обеспечат?»
Сидящая рядом Анна прижалась к нему бедром и по спине Белецкого забегали приятные мурашки. Письменный стол и машинка могли подождать – еще будет время.
– Надо поставить вопрос о выходных, – басовито гудел сантехник Аркадий. – Нужно требовать хотя бы один выходной, мы же не нанимались ежедневно вкалывать.
– И чтобы картошечки с луком! – подхватил кто-то на дальнем конце стола. – И еще вареников!
– Огурцов маринованных…
– «Сникерса»…
– По две бутылки пива…
– А мне мой «москвичок», по поляне погасать!
«А ведь дадут, ей-Богу, дадут»… Белецкий не знал, откуда вдруг появилась у него такая уверенность, но что-то говорило ему: дадут. Каждому – по потребностям.
Возбужденный люд разбредался от стола, договариваясь о занятиях на вечер, группируясь по интересам, насытившийся и беспечный. Белецкого легонько хлопнули по руке и он обернулся. Киня-Халявщик осклабился, глядя мимо него, на Анну. Рядом стояли еще трое парней.
– Все солнышке зубы заговариваешь, журналист? Че ты девочку терзаешь?
Белецкий взглянул на Анну, задавая немой вопрос. И Анна поняла, и едва заметно кивнула, словно говоря: «можно».
– Почему ты решил, что я ее терзаю? – спросил Белецкий, весело глядя на туповатое лицо Халявщика. – Мы вместе терзаемся. Вот и сейчас идем терзаться.
Халявщик, судя по физиономии, слегка опешил, а потом растянул губы в улыбке и, кривляясь, поклонился.
– Ну, поздравляю, наконец-то! – Он развел руками, поворачиваясь к парням. – Пошли, ребята, нам здесь делать нечего. Тут уже забито. – И добавил, вновь адресуясь к Белецкому: – Так бы сразу и сказал.
– Извините, мальчики, – кокетливо сказала Анна и взяла Белецкого под руку. – Нам пора.
Ситуация разрядилась, парни отошли и все, казалось, разрешилось наилучшим образом. Однако у Белецкого остался в душе неприятный осадок, словно он поступил как-то не так.
…Впрочем, осадок незаметно растворился, когда вновь, теперь уже на берегу тихой морской бухты, Белецкий начал ласкать податливое и горячее молодое женское тело…
10
Спал он плохо, беспокойно, то и дело просыпаясь от непонятно откуда навалившейся духоты и с завистью прислушиваясь к ровному дыханию лежащей рядом Анны. Обрывки снов мелькали словно кадры старого кинематографа – какие-то незнакомые лица, странные здания, длинные коридоры и лестницы, ведущие неизвестно куда. Он бежал по коридорам, поднимался и спускался по лестницам, то ли спасаясь от погони, то ли догоняя кого-то, падал в темноту, просыпался и вновь, как в трясину, погружался в очередной сон.
Вырвавшись из узкого коридора, он вдруг остановился, почувствовав, что впереди – невидимая преграда. Возникший ниоткуда Кубоголовый медленно подошел к нему и замер по другую сторону преграды. И Белецкий впервые услышал его голос, ровный, монотонный, негромкий, но отчетливый голос.
«Пришло – время – возвращения».
Кубоголовый исчез, и тут же загудел гудок, не обычный, а длинный-длинны-длинный гудок…
Белецкий, хватая воздух пересохшим ртом, вывалился из постели, потянулся за джинсами, все еще не в состоянии отделить сон от реальности. За распахнутым окном дома Анны распростерлась под светлеющим небом невесть из чего сотворенная морская гладь.
– Ой, что это он сегодня? – Девушка приподняла голову, испуганно слушая гудок, и внезапно гудок умолк, оставив звенящую тишину. – Мне такое сейчас приснилось… Будто он сказал, что нам пора возвращаться.
– Значит – пора, – сказал Белецкий. – Наше время истекло.
Открыв дверь, ведущую из жилища Анны в «трапезную», Белецкий окончательно убедился, что наступила пора перемен. Длинный стол исчез, и «трапезная» вновь, как когда-то давным-давно, стала аккуратной станцией метрополитена с белыми кафельными стенами и белым потолком. На месте выхода опять выросла глухая стена. Люди неуверенно, словно опасаясь чего-то, появлялись из-за дверей и останавливались, обводя беспокойными взглядами зал, превратившийся в станцию отправления.
– Слушай, журналист, тебе ничего такого сейчас не приснилось? – Растрепанный со сна любитель шахмат Филлер в незастегнутой рубашке и надетых задним карманом вперед спортивных брюках часто моргал, словно пытался удалить из глаза соринку. – А то мне, понимаешь, официальное заявление сделали.
– Мне тоже, – ответил Белецкий. – Полагаю, что каждому из нас сделали такое заявление. Сейчас подведут итоги, вручат грамоты – и «прощай, моя голубка, до новых журавлей»…
– Ты посмотри, Витя! – Анна дернула его за рукав. – Ты посмотри!
Белецкий обернулся. У той стены, где раньше был выход и где возвышался в назидание всем потенциальным мятежникам прозрачный цилиндр-саркофаг с телом бедолаги Жеки, теперь никакого цилиндра не было. Всего минуту назад был – Белецкий видел его, выходя в зал, – а теперь пропал. А Жека ворочался на гладком полу, пытаясь подняться – как будто это было так сложно! – и до оцепеневших людей долетало:
– Козлы недоделанные… Ну, козлы…
– Ожил! – ахнула активистка мессианского общества Жозефина Грановская, упала на колени и перекрестилась. – Несокрушима сила Господа нашего. Ожил, как Лазарь!
«Лазарь», наконец, поднялся и, пошатываясь, как пьяный и не переставая бормотать ругательства, направился к людям.
– Они его не убивали, они его просто заморозили, – тихо сказал рыжеволосый Филлер. – А теперь отпустили. Значит, действительно – «прощай, моя голубка»? Или пребывание наше здесь – бесовское наваждение, не более? Демоны играли нами…
Белецкий вздохнул полной грудью. Господи, неужели – свершится? Неужели закончен срок и урожай соберут без них? Кто – сами касториане? Или умыкнут кого-то из других миров, тех, кто наиболее пригоден именно для уборки урожая? Неужели – все кончилось?
А если и вправду – наваждение? Чем черт не шутит… Вот и пошутили с ними черти, напустили бесовского тумана, прикинулись инопланетными пришельцами. Может быть, не зря священники православные втолковывают: и астрологи, и экстрасенсы, и полтергейст, и явление НЛО – все от дьявола, все – проделки сатаны и слуг его?..
Все кончилось…
– Витюша, миленький, мне почему-то страшно! – Анна схватила его за руку, глядела круглыми зелеными глазами.
Белецкий погладил ее по щеке.
– Не бойся, Аннушка-голубушка. Тебе же ясно и понятно сказали…
Он не окончил фразу, потому что в конце зала, у стены, вдруг заклубился туман, превращаясь в знакомые белые фигуры с кубообразными головами. Кубоголовые держали в руках нечто, напоминающее луки, как и тогда, давным-давно, в день вторжения.
И взвился вдруг под высокий потолок пронзительный женский крик:
– Не-ет! Не хочу! Не хочу наза-ад! Не хочу-у!..
И – прорвалось. Вновь зашумели, закричали, заголосили, словно вернулись те давние минуты, первые минуты в этом зале, похожем на станцию метро.
– Да что же это? Почему они опять решают за нас?..
– Остановитесь, не надо!..
– Не хочу-у!..
– Милые, родные, не трогайте, оставьте меня здесь!..
– Мы не твари неразумные, мы – люди! С нами надо считаться!..
– Мы что, плохо работали? Я плохо работала, да? Не забирайте назад, изверги… ой!.. то есть миленькие, вы же можете… Ну, умоляю, не забирайте!
– Коллектив просит, от имени коллектива… Мы еще вам пригодимся…
– Прячьтесь от них, товарищи! Пусть попробуют поймать!..
– Мужчины, вы мужчины или импотенты недоделанные? Отнимите у них эти палки!..