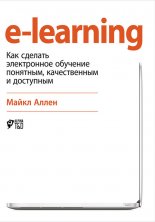Женщина на заданную тему Минкина-Тайчер Елена

© Елена Минкина-Тайчер, 2025
© ООО «Вимбо», 2025
© Издание на русском языке, оформление. Строки, 2025
Мишель, моя прекрасная
«Нет, все-таки не повезло!» – на уютном и домашнем, как бабушкины сырники, русском языке подумала израильская девочка Мишель Полак. Подумала и с тоской поглядела в залитое утренним солнцем окно. Там, за горшками с геранью и расшитыми Лялей занавесками, светились стены их нового квартала, нарядные дома, облицованные золотистым иерусалимским камнем. Да, действительно, днем и ночью светились, как и старинные, еще до англичан построенные здания центра, и совсем древние, низкие, с бесконечными уступами и балкончиками, галереи невидимого отсюда Старого города.
Ляля не перестает восхищаться мудростью бывшего иерусалимского мэра: «Такая гармония тепла и света, древности и модерна»[1]. Впрочем, Лялю нетрудно восхитить, это вам не папа.
Черт, ведь еще совсем недавно слонялись с Эли по Старому городу, брели от Яффских ворот в толпе иностранцев, беззаботно болтали, жевали приторную пахлаву с толстыми зелеными фисташками. Сладости выкладывал на лотки смешливый молодой араб, ловко перебирая темными, стремительными, как у музыканта, пальцами. Эли тоже смеялся, облизывал ладони, этот тощий обжора мог есть что угодно!
– Вот видишь, – он, как обычно, умничал, откидывая назад нечесаные рыжие кудри, – восточный город, восточные лакомства, восточная архитектура. Кто сказал, что я имею на них больше прав, чем такой вот парень? Сколько лет он стоит тут – сто, двести, пятьсот? Посмотри, посмотри внимательно – да, он часть этого города, как рынок или крепостная стена! А теперь посмотри на меня?
(Что уж там было смотреть: россыпь веснушек по всей физиономии, очки в тонкой оправе, безразмерная футболка с криво вырезанным домашними ножницами воротом. Типичный американский хиппарь времен Лялиной молодости!)
– Мы верим только политикам, – Эли важно морщил нос, – а у них свои задачи. Грязные и мелкие задачи!
В тот раз Эли воображал себя пацифистом, то есть борцом за мир. Он вечно с кем-то борется: с родителями, учителями, охранниками в супермаркете. Теперь вот с армейским начальством. Уже два раза остался без отпуска. Если бы еще хоть кто-то обращал на него внимание! И в борьбе за мир ни пацифистам, ни солдатам пока не удалось победить.
Великий город! Противно думать, что там сейчас происходит – жуткие пустые тротуары, с которых только что отскребли следы последнего взрыва, бесконечные ряды полицейских, солдаты с оружием. Особенно жалко солдат – что толку ходить среди арабских торговцев, смотреть на их лицемерные улыбки, кого это спасет? Иностранцы испуганно оглядываются, торопливо обходят кафе и автобусные остановки. Интересно, кто и зачем приезжает в разгар интифады? Паломники давно разбежались. Может, какие-то религиозные фанатики? Нет, скорее журналисты. Дешевые болтуны. Со всего мира рвутся в опустевший опозоренный город.
Мобильник в кармане вздрогнул и бодро заверещал механической мелодией, ничего не поделаешь, надо отвечать, пока не включился автоответчик. Семь тридцать, значит, это не мама, мама звонит в восемь пятнадцать, сразу после утренней конференции в офисе.
– Маша, – знакомым прокуренным басом закричала Ляля, – Маша, ты опять поедешь на автобусе?
Дальше все известно.
«Не стой у самой остановки», – скажет Ляля.
«Смотри на сумки», – скажет Ляля.
«Я тебя умоляю! – скажет Ляля. – Лучше вообще пропусти, если хоть что-то подозрительное».
– Бабулечка, я уже ушла, – быстро отвечает Мишель, – у меня нулевой урок. Целую.
Вранье, конечно. В этом месяце у нее вообще нет нулевых уроков. Две недели до экзаменов! Почему, почему они не понимают, что такие звонки и разговоры – пустая трата нервов?! Полная ерунда! Все-все полная ерунда, начиная с имени.
Уже давным-давно никакая она не Маша, сама же Ляля и придумала новое имя. Кстати, отличная идея оказалась, ребята в классе балдеют – «Michelle, ma belle…»[2]. И все благодаря Битлам. Хорошо, что Ляля такая фанатка оказалась, до сих пор многие песни наизусть помнит.
И про автобус что зря причитать? Не идти же пешком через полгорода! «Смотри на сумки!» Все пассажиры смотрят на сумки, настоящая коллективная паранойя, а толку? Старшая сестра Машиной подруги, красавица и воображала Элинор, за которой полшколы бегало, вообще в автобусы не заходила, специально права на мотоцикл получила. А погибла от взрыва в пиццерии. Той самой, возле Старого города, куда они сто раз с родителями ходили. Эли прав, лучше вообще про это не думать.
Впрочем, Эли всегда прав. По крайней мере, он уверен, что всегда прав. Ей бы так научиться!
С тех пор как Мишель шестилетней ленинградской девочкой Машей Поляковой ступила на горячую местную землю, она мечтает научиться здешней уверенности и независимости. Лучше не вспоминать, сколько пережито страхов и обид. Впрочем, и не обид, а ненужных глупых огорчений.
Прямо перед отъездом мама купила ей яркую розовую куртку из нейлона. Мама вообще обожала покупать детские наряды, бегала по пустым ленинградским магазинам, стояла в каких-то очередях. «Это потому, что у нас не было возможности ее саму красиво одевать», – вздыхала Ляля. «Не усложняй, – ворчал Гинзбург, – просто Машка для нее – последняя кукла».
Куртка была пухлая, и рукава плохо сгибались.
– Красивенькая, правда? – спросила мама, поворачивая Машу в разные стороны.
– Слишком светлая, – с сомнением вздохнул практичный Гинзбург.
– Ты ничего не понимаешь! Вы привыкли в своей России ко всему серому! А за границей дети носят нарядные светлые вещи.
– Да уж, заграница, – усмехнулся папа. – С такой-то молнией!
Молния была из ярко-красной ткани с желтыми железными звеньями посередине.
– Зачем усложнять?! – возмутилась оптимистка Ляля. – Положитесь на меня!
В тот же вечер она притащила от подруги шикарную белую молнию, вшила вместо позорной железной, да еще выстрочила на левом рукаве смешного толстого мишку.
– Пожалуй, ничего, – согласился строгий папа, – похожа на импортную, берем! Там зимой сплошные дожди.
Ха! Ничего-то они не понимали! В первый же израильский дождь куртка разбухла, как подушка, и по спине потекли противные холодные струйки. Вокруг в тонких и совершенно непромокаемых костюмчиках бегали наглые одноклассники и строили рожи.
Но Маша уже знала, что дома ничего рассказывать не нужно. Каждый день они с Лялей ходили за продуктами в огромный нарядный магазин на площади. На длинных полках красовались непонятные коробки всех цветов и размеров, из огромных стеклянных банок ломились на свободу шоколадные вафли, фигурные печенья с изюмом, круглые, как мячики, жвачки. Горы персиков и мандаринов плавно переходили в поля сухофруктов, орехов и горячих, упоительно пахнувших булочек. В отдельном ряду продавались куклы Барби, причем не только девочки в розовых туфельках на каблуках, но и Барби-мужчины в строгих костюмах и даже маленькие кукольные дети. Ляля долго ходила вдоль рядов, напряженно рассматривала цены, а потом покупала всегда одно и то же: молоко в скользком пакете, бледный, как бумага, хлеб и ледяные негнущиеся индюшачьи ноги. По вечерам она варила из этих ног бульон и нудно пересчитывала дневные расходы, чего никогда не делала в Ленинграде. Папа с мамой учились в ульпане, по ночам грузили буханки в соседской пекарне, Гинзбург лежал на диване и надсадно кашлял.
– Мама говорит, что олим – ужасные жадины, – заявила Машина соседка по парте, маленькая противная девчонка с красивым именем Мааян, – у самих дорогие машины, а ребенку нормальную куртку не могут купить.
И почему до сих пор помнится? Ведь в тот же день мама побежала в лавку и на всю ночную выручку от буханок купила ей блестящий замечательный костюмчик.
Потому что куртка исчезла, а неуверенность осталась.
Как она боялась, что не позовут на костер в Лаг ба-Омер и придется сидеть дома с Лялей и Гинзбургом, пока остальные ребята балдеют у ночного огня! А карнавал на Пурим! Маша специально попросила родителей купить костюм клоуна. Да, не принцессы в чудесном длинном платье с кружевными оборками и не сказочной феи в сверкающей мантии, а толстого глупого клоуна с красным носом – пусть уж все смеются над костюмом, а не над ней самой.
А сколько мучений было с именем. «Мар-рыя! Шем ноцри»[3], – морщила нос Мааян. «Шем ноцри! Шем ноцри!» – радостно вторили мальчишки, прыгая как козлы.
– Да врежь ты ей раз, чтоб не выступала! – гневно требовал папа.
– Еще не хватало! Просто не обращай внимания, – убеждала мама.
– Может, нужно пойти в школу и объяснить, что в понятии «христианское имя» нет никакой крамолы? – размышлял вслух Гинзбург.
– С ума вы все посходили! – Ляля привычно махнула рукой. – Надо поменять имя, вот и все! Пусть будет Мишель, например. Просто шикарно. «I need you, I need you…» – пропела она с ужасным русским акцентом.
– А что, – рассмеялся папа, – хорошо звучит, Мишель Полак, почти как Мишель Пфайффер, экспортный вариант!
– Гениально! – проворчал Гинзбург. – Всю жизнь мечтал! Можно еще в честь этого назвать… прыгающего… Майкла Джексона!
– Папа, при чем здесь Майкл Джексон?! – Ляля даже вскочила. – Ты послушай: Ми – Шель. Мирьям и Шеля. В одном имени. Будто специально для тебя!
* * *
У шестнадцатилетнего Оськи Гинзбурга, тощего долговязого ленинградского подростка образца 1939 года, были три любимые женщины: мама, младшая сестра Шеля и учительница литературы Анна Львовна Резникова.
Правда, в первых двух случаях любовь была естественной, как дыхание, и абсолютно разделенной, потому что добрейшая, склонная к ранней полноте Мирьям Моисеевна Гинзбург, раздавленная нелепым арестом мужа в декабре тридцать седьмого, все силы своей души перенесла на резко повзрослевшего Оську и дочку, которую она вопреки всякой логике звала Кунечкой. А шестилетняя, вся в темных кудряшках Шеля-Кунечка хотя и была порядочной ябедой и плаксой, так страстно и преданно обожала старшего брата, так хвасталась во дворе его действительными и мнимыми подвигами, так доверчиво вкладывала пухлую шершавую ладошку в его торчащую из всех рукавов руку, что Оськино сердце таяло и трепетало, как и бывает при самой настоящей любви.
Гораздо сложнее и хуже обстояли дела с Анной Львовной. Миниатюрная (на голову ниже Оськи) и прекрасная, как само совершенство, Анна Львовна насмешливо покачивала гладко зачесанной головкой на все его жалкие бормотания у доски и чудесными тонкими руками выводила в журнале скучные тройки. Если бы только тройки! За красотой Анны Львовны, кроме немыслимой и непреодолимой разницы в возрасте величиною в целых восемь лет, кроме пропасти образования, стихов Демьяна Бедного и образа Катерины в темном царстве, стоял еще стройный щеголеватый летчик, каждый день ожидавший милую Анечку у ворот их старой, переделанной из женской гимназии школы.
Учитывая вышесказанное, нетрудно понять, почему Оська, призванный в октябре сорок первого, так и не решился попрощаться с Анной Львовной, а только отчаянно обнимал на вокзале маму и громко ревущую Шелю. Будто знал, что никогда их больше не увидит. И мама, и сестра умерли в первую же блокадную зиму, о чем рассказала приехавшему летом сорок четвертого лейтенанту Гинзбургу сморщенная, постаревшая на двадцать лет соседка Валя. Подвела мамина доброта. При отправке детсада в эвакуацию, уже на вокзале, Шеля устроила такой дикий рев, что сердце Мирьям Моисеевны не выдержало и она в последнюю минуту забрала домой свою ненаглядную Кунечку. Первое время они держались неплохо, но с похолоданием резко уменьшились запасы продуктов в городе, мучимая чувством вины Мирьям Моисеевна скормила Шеле последние остававшиеся в доме крохи и перешла на половину своего пайка. «Конечно, это не могло долго продолжаться, – сказала Валя, – так многие матери поумирали. А за ними и дети. Известная история».
Оглохший заледеневший Гинзбург долго стоял в пустом ненужном теперь дворе, потом побрел к Петроградской, ни на что не надеясь и даже не понимая, зачем и куда ведут его ослабевшие ноги, и очнулся только у темного, но по-прежнему красивого и добротного дома. Здесь, на четвертом этаже, когда-то, сто лет назад, еще до войны, жила Анна Львовна.
Удивительно, как сразу она открыла, худенькая, похожая одновременно на девочку и на старушку, как ахнула и бросилась обнимать жесткие Оськины плечи, как тихо плакала, слушая про маму и Шелю, и все гладила его криво подстриженные вихры.
Поздно ночью, разливая по кружкам безвкусный бледный чай, Анна Львовна рассказала, что ее папа, старый профессор математики Лев Абрамович Резников, умер от голода весной сорок второго (хорошо, что мама не дожила до войны), Леню убили при освобождении Белоруссии, а брата – в Курске, и только утром до него дошло, что Леня и есть тот самый летчик. Потом они сидели молча у окна, уже сняли затемнение, виднелись слабые огни над Невой, Гинзбург курил и надсадно кашлял, и Анна Львовна тихим будничным голосом спросила: «Ося, ты был когда-нибудь с женщиной?» И тут Гинзбург, бравый лейтенант артиллерии, выживший зиму под Сталинградом, дважды раненный и получивший медаль «За отвагу», позорно заплакал. Потому что в том скорбном и грязном деле, коим он занимался уже три года своей недлинной жизни, было место всему: злобе, преданности, страху, но только не любви. А он, к счастью, еще не успел узнать, что можно быть с женщиной без любви. И он все ревел и не мог остановиться, пока Анна Львовна голубоватыми худыми руками расстегивала его гимнастерку, и негнущийся ремень, и свою старенькую чудесную блузку, потому что он уже научился снимать рубашку при ранении груди и головы и даже с мертвого тела, как стянул в промерзшем подвале еще теплую рубаху с убитого друга Гарика, и только женской блузки не умели коснуться его грубые, дважды обмороженные руки.
Через день Гинзбурга отозвали из отпуска, наступление шло по всем фронтам.
До самой отправки поезда Анна Львовна отчаянно сжимала его рукав, по окаменевшему сказочно красивому лицу стекали капли летнего дождика. «Ты не вернешься, – повторяла она, – я знаю, ты тоже не вернешься, никто не возвращается». Но он вернулся, прямо в День Победы, как в известном тогда кино, и только на два дня опоздал к рождению Ляли, Елены Иосифовны Гинзбург.
* * *
Мишель выходит из автобуса, торопливо перебегает улицу. Как тягостно стало ездить – одинаковые, как пингвины, студенты ешивы, бойкие иерусалимские старушки, хозяйки с повязанными головами, почтенные раввины – все с ужасом смотрят друг на друга, ни улыбок, ни веселой утренней суеты.
По телефонным звонкам можно сверять часы.
7:45 – папа: «Марья Сергеевна! Ты на месте? Звони после школы. Целую».
7:50 – мама: «Мишутка! Доехала? Ну слава богу! Все, побежала, у меня французы».
7:55 – Гинзбург: «Машенька, прости, детка, хотел услышать твой голос. Да-да, беги на урок, я понимаю».
Стоило ли мечтать о собственном мобильном телефоне! Еще счастье, что год назад родился ее братишка Данечка, поэтому главные душевные силы семьи брошены на органическое питание и безвредные памперсы, иначе Мишель просто бы не выпустили из дому!
После взрыва в дельфинариуме[4] все рухнуло, а про лагерь даже заикаться не приходится! Праздничная программа, международный оркестр, соревнования народных танцев – все разрушено и сметено, как песочные куличики в хамсин. Жалкие детские забавы, кого они волнуют!
Рассказать бы кому-то десять лет назад, что она, бессловесная испуганная «Мар-рыя», станет президентом молодежного движения, что ее первой выдвинут на грандиозный международный слет в Иерусалиме и поручат вести торжественное открытие… И вот все-все пропало! Американцы и канадцы уже отказались от участия в слете, французы тем более. Российская делегация пока собирается приехать, у них своя Чечня не лучше, но родителей все равно не убедить. Ладно мама или Ляля, обычно спокойный Машин папа трясется и дрожит при одном упоминании дельфинариума! И Гинзбург вчера кричал целый день о ненужном риске, под конец даже заплакал – настоящая психическая атака. Знают, что Мишель не выдержит, она не умеет никого огорчать. Пропали каникулы! Правда, Ляля обещала что-то придумать, какую-нибудь заграничную поездку. У нее по всему миру подружки – и в Америке, и в Германии, но разве можно сравнивать!
* * *
Ах, эта Ляля! Другой такой фантазерки и хулиганки не нашлось бы на всей Петроградской стороне. «Потому что без матери растет», – оправдывался про себя Гинзбург. Анна Львовна, его родная единственная Анечка, умерла от порока сердца, когда Ляле едва исполнилось восемь лет.
Порок обнаружили через год после родов, самые лучшие врачи (к кому только не пробивался Гинзбург!) говорили одно и то же – результат длительного переохлаждения и ангин. Но Аня особенно не огорчалась.
– Вот смотри, – говорила она испуганному Гинзбургу, раскрыв свой любимый толковый словарь, – «порок – физический недостаток, отклонение от нормального вида». Отклонение, понимаешь, даже совсем и не болезнь.
Наверное, нужны были антибиотики, остановить процесс, предупредить дальнейшее обострение, но кто знал и понимал? Анна Львовна сразу после войны вернулась в школу – работать и кормить семью. В том же году, после тихого, но страшного семейного скандала, Гинзбург поступил на физический факультет. Ее не интересует муж-разнорабочий, твердила Аня, ломая свои чудесные тонкие пальцы, в первую очередь человек должен получить образование. Не хватало, чтобы она, взрослая тетка, взвалила на него себя и ребенка.
Нет, нет, Гинзбург рвался как мог: варил кашу скандалистке Ляле, таскал ящики в винном отделе, чинил по соседям приемники и примусы, даже писал курсовые за деньги. На занятия оставались ночные часы, но все казалось преодолимым – он чувствовал себя могучим как бык. Анна Львовна, его Анечка, с гордостью рассматривала зачетку, радостно улыбалась чуть синеватыми губами: «Тебе предложат аспирантуру, я уверена!» И он был счастлив, совершенно счастлив, хотя, несмотря на блистательные успехи, никто, конечно, не собирался предлагать аспирантуру сыну репрессированного инженера Гинзбурга.
Он стал преподавать физику в школе, на редкость легко вписался, сам мастерил приборы для кабинета, мальчишки его обожали, девчонки побаивались, но тоже любили за остроумие и справедливость. Ляля подрастала и становилась немного похожей на сестренку Шелю. По крайней мере, смотрела на него с таким же доверием и восторгом.
Долгие годы Гинзбурга мучила мысль, почему болезнь выбрала именно Анечкино сердце, мало ли было вокруг других жертв?
– Микробы обычно поражают деформированные клапаны, – нудно объяснял вежливый старенький доктор, – а у вашей жены – ревматический порок. Вот теперь осложнился септическим эндокардитом. Мало надежды на выздоровление. Очень мало.
Все оказалось правдой. Этот невидимый чертов эндокардит за несколько недель сожрал Анечкины клапаны, или как там оно называлось. Губы и пальцы стали темно-синими, ноги отекли, как подушки, она почти не могла дышать.
– Это не страшно, Осенька, – шептала она, гладя горячечной ладонью его беспомощные никчемные руки, – мне уже много лет. Знаешь, я все время боялась, что ты разлюбишь такую старуху. Ты опять женись на учительнице, у них подход к детям, Ляльку не станут обижать.
Ах, эта Лялька! В шестом классе она отрезала косу, в седьмом – сшила какой-то балахон из старой Оськиной гимнастерки и стала напяливать в школу вопреки бурным протестам учительского коллектива, в девятом Гинзбург нашел у нее в портфеле сигареты.
– Что так кричать, – заявило его ненаглядное детище, нагло задрав нос, – я все равно целый день дышу твоими жуткими папиросами. А сигареты с фильтром намного полезнее. Пап, ты лучше посмотри, какой натюрморт получился. – Она водрузила на стол перепачканный холст.
Натюрморт являл собой безобразно кривую синюю вазу на низком столике, тени на заднем фоне ложились тяжелыми седыми мазками, и поэтому ветка казалась еще более беззащитной. Тоненькая прозрачная ветка без единого листочка.
Вот так с ней было всегда. То стихи, то театр. Бредила шекспировскими сюжетами, до потери сознания зубрила монологи. Потом вдруг решила стать доктором, раздобыла анатомический атлас, все таскала по квартире какой-то жуткий череп, пока Гинзбург потихоньку не снес его на помойку. Потом начался запой рисованием, потом древней историей, археологией, географией.
Может, и вправду надо было жениться? Нет, Гинзбург отнюдь не стал монахом, наоборот, слишком легко освоил науку быть с женщиной в тоскующем от бабьего одиночества послевоенном школьном коллективе. Но все эти забавные и приятные минуты не имели ничего общего с его домом, его жизнью, его любовью. Может, груз такой любви оказался слишком тяжел для одной Ляли?
В последнем классе Ляля заболела музыкальной группой «Битлз». Шел 1962 год, весь мир с восторгом внимал знаменитой четверке, по Ленинграду ходили подпольные магнитофонные записи. Ляля как завороженная шептала манящие английские слова, раскачивалась в такт непривычным влекущим ритмам, громко фыркала, когда Гинзбург пытался подпевать. Хорошо бы она смеялась, если бы отец за три тома Тарле не устроил доченьку в лучшую английскую спецшколу.
На Новый год глубокой ночью он поставил под елку «подарок от Деда Мороза» – новенький магнитофон, не без труда добытый через маму одной из учениц. (Ха, видела бы Мишель это чудо техники в десять килограммов весу, с нескладными катушками и толстыми жесткими клавишами!)
Счастью Ляли не было границ, она то бросалась обнимать Гинзбурга, то кружилась по комнате, прижав к груди волшебные катушки и подпрыгивая от избытка чувств, то снова обнимала и целовала его в сизые, небритые по случаю выходного дня щеки. Господи, да Оська бы весь свет купил этой лохматой мартышке с выпуклыми, как у него самого, глазами и нежными Анечкиными руками!
Через два месяца Гинзбурга вызвали в школу.
– Знаете ли вы, Иосиф Ефимович, – сказала завуч, поджимая губы, – что Елена дружит с очень нехорошей компанией? Какие-то иностранные песни, нелепые наряды, курение. Хиппи, вы понимаете, самые настоящие хиппи! Я даже слышала, – она наклонилась, обдавая Гинзбурга запахом нафталина и духов «Красная Москва», – они собираются летом в какой-то поход, совершенно одни, без вожатых! Это же прямая дорожка к беспорядочным половым отношениям. – Завуч даже вспотела от волнения. – Вы должны срочно принять меры!
– Да, – сказала Ляля, задрав тощие ноги на спинку кресла, – только не в поход, а в экспедицию. Археологическую. Кстати, очень клевые ребята, не зануды, как в нашей школе! Будем искать осколки былых цивилизаций, тем более у нас тут цивилизацией пока не пахнет.
За месяц он все организовал. Через старого школьного друга Сашку Одоевцева, когда-то страстного энциклопедиста и коллекционера, а сейчас – доцента исторического факультета ЛГУ, нашел настоящую археологическую экспедицию, причем недалеко, под Псковом. Лялю (по его тайной просьбе) брали стажером при условии успешного поступления на тот же факультет. Сашка же, вернее Александр Петрович Одоевцев, нашел нужных репетиторов, хорошую литературу. Ляля училась как безумная, благо памятью уродилась в мать и легко читала наизусть «Евгения Онегина».
На дворе стояла незабываемая оттепель шестидесятых, евреев принимали практически на все факультеты. В середине августа студенткой первого курса Ляля уехала в Псков.
* * *
Нет, Эли и не думал звонить, зря Мишель сто раз проверяла автоответчик. Что этому воображале ее огорчения, рухнувший лагерь, споры с родными. Он с собственным отцом второй год не разговаривает.
– Подумаешь, международный съезд, – заявил он вчера, задрав грязный ботинок на сиденье автобуса и презрительно морща нос, – педагоги, вожатые, хоровые песни. Игрушки для детей младшего возраста! Поехала бы в Индию или Таиланд как нормальный человек, жизни поучилась.
(А ты думала, он скажет «не уезжай, не покидай меня»?)
– Мужчины – народ примитивный, – привычно повторяет Ляля, – особенно молодые. У них пока вместо мозгов одни гормоны, им главное – азарт, охота. Ускользающая добыча гораздо привлекательнее той, что в руках, понимаешь? Поэтому никогда нельзя показать, что ты искренне любишь его, скучаешь, боишься потерять. И главное, никаких упреков и выяснения отношений! Хочешь удержать – научись исчезать, молчать, притворяться независимой и равнодушной.
Наверное, Ляля права, но как же Мишель все осточертело! Смешно сказать, в ее семнадцать лет такая старинная история.
Тогда, года три назад, она от одиночества забрела в районный молодежный клуб. Нет, скорее не клуб, а довольно-таки сырой и холодный подвал, правда, разрисованный веселыми рожицами. По углам стояли диваны, кажется принесенные со свалки, на разномастных стульях висели куртки и сумки, огромный стол, сложенный из двух кусков фанеры, накрывал белый лист картона, на котором две смешные лохматые девчонки старательно рисовали какие-то буквы. Еще двое ребят играли в шахматы, шмыгая носами от холода, лохматый долговязый мальчишка осваивал ударную установку, довольно ловко перескакивая с одного барабана на другой. Да, это был приют таких же бедолаг, не вписавшихся в правильную школьную жизнь, тихая обалденная тусовка, где никто не смеялся над твоими увлечениями или ошибками. Потом оказалось, что в клубе есть свои вожатые и даже, кажется, психологи, каждую среду устраивали заседания актива: составляли план на неделю, принимали новых ребят, просто разговаривали.
– Опять заседание? – смеялся папа. – Совещания, прения, доклады? Знаешь, один хороший поэт даже посвятил вам стихотворение, так и называется – «Прозаседавшиеся»! А может, лучше спокойно книжку почитать, чем тусоваться со всякими бюрократами?
Ничего-то они не понимали! Впервые в израильской жизни Мишель оказалась равной среди равных. А вскоре к их группе восьмиклассников прикрепили вожатого из десятого, Эли Лейбовича. Конечно, все девчонки ахнули! Не только потому, что взрослый. Никто из ребят не знал и трети тех историй, что помещались в его рыжей голове. Строительство кораблей, открытие материков, изобретение прививок и антибиотиков, раскопки пирамид, создание атомного оружия… Говорят, на уроках Танаха Лейбович демонстративно читал разные посторонние книги, небрежно прикрыв рукой обложку – мол, наука выше религиозного мракобесия. Удивительно, как его вообще не выгнали из школы! Но с младшими ребятами Эли держался весело и просто, почти не воображал, рассказывал всевозможные истории, и настоящие, и фантастику из своих бесконечных книжек, и Мишель иногда казалось, что он говорит только для нее. По вечерам всей группой встречались в Старом городе (боже, как легко и весело можно было бродить!), шагали от Яффских ворот в густой толпе восторженных туристов, болтали. Эли изображал религиозного еврея, строго качал головой и кланялся. Расходились поздно, деревья отбрасывали кривые тени, трещали сверчки, и древние каменные стены тихо светились в кругах фонарей. Эли часто провожал Мишель до самого дома и потом уходил дворами, уверял, что так получается удобнее и короче.
– У вас индивидуальное шефство над каждым пионером? – лукаво улыбалась мама.
Вечно они придумывали глупости! И какие пионеры в Израиле?
– Да-да, – вторил папа, – у некоторых вожатых наблюдается повышенное внимание к отдельным подопечным.
Через два месяца на общем собрании Эли попросил снять с него обязанности вожатого младшей группы, так как он влюблен в одну из девочек. Мишель тогда просто дышать перестала, а старшие ребята принялись смеяться и хлопать Эли по плечу. Они уже давно догадались.
Дальше вспоминать не хочется. Через два месяца ему все надоело – точно, как говорила Ляля. Если сейчас задуматься, вполне справедливо. Какой толк от влюбленной четырнадцатилетней девочки? Ну ходит за тобой, слушает рассказы, испуганно закрывает глаза, если пытаешься ее поцеловать. Многие ребята уже имели настоящих взрослых подружек, ездили в Эйлат и на Кинерет, вместе ночевали. Это с ее-то старомодным домашним воспитанием! Смешно сказать, Мишель до сих пор ни разу не пила противозачаточных таблеток. Наверное, последняя из всех девчонок в классе.
Потом прошли два очень тоскливых года. Мишель издалека наблюдала за меняющимися Элиными подружками. Помня наставления Ляли, она беспечно смеялась при встречах, болтала о разной чепухе, часто убегала посреди разговора, будто ее ждала груда неотложных дел. Казалось, все давно забыли об их недолговечном романе. Как ни странно, Лейбович продолжал с ней дружить, по-прежнему любил рассуждать и рассказывать истории из последних книжек. Кажется, он единственный из ребят читал дни и ночи напролет не хуже Гинзбурга. Все у него в жизни не ладилось, родители постоянно ссорились (вроде там оказалась замешана другая женщина), с отцом он по-прежнему не разговаривал. В школе было еще хуже, Эли окончательно поругался с учителем Танаха, в знак протеста прямо на уроке читал романы на английском языке, что учителя особенно злило. Дело чуть не дошло до отчисления, мама в последний момент перевела его в частную платную гимназию, что, конечно, не улучшило отношений с отцом. Потом он вообразил себя прожигателем жизни, пару раз сильно напился, беспрерывно курил, чего Мишель не выносила. Подружки менялись все чаще и становились все «хуже качеством», как сказал бы папа. Одна вообще была известна тем, что с пятнадцати лет успела переспать почти со всеми знакомыми ребятами в школе, а заодно и с некоторыми девчонками.
Мишель страстно мечтала завести собственного бойфренда, что на первый взгляд не составляло большой проблемы. Мальчишки из класса давным-давно забыли «Мар-рыю», все наперебой рвались с ней дружить, особенно один, огромный, толстый и очень добрый американец со смешным акцентом. Почти каждый день американец «случайно заходил» и сидел в Машиной комнате до глубокой ночи, вызывая улыбки мамы и гневное возмущение Гинзбурга, неловко обнимался, звал поехать к отцу в Нью-Йорк. А еще один мальчик, тихий вежливый саксофонист, сочинил ей в подарок пьесу. Настоящую хорошую пьесу, которую потом не раз исполнял школьный оркестр. Но ничего не выходило, кроме разочарования и обид, все было скучно, скучно и еще раз скучно, американец даже плакал и обещал убить ее и себя, но, конечно, вскоре нашел другую подружку, с которой и укатил в Америку на каникулы. Жизнь вокруг стремительно неслась, и только Мишель одиноко шла по обочине.
Аттестат Эли получил на удивление неплохой. Все-таки он был умный, черт рыжий, и английский здорово знал благодаря своим книжкам. Но с армией, конечно, успел наломать дров. На первой же допризывной комиссии будущий солдат Лейбович заявил, что отказывается брать в руки оружие. Нет, он ничего не боится, просто не согласен с политикой правительства, проводимой в семидесятые годы, с ошибками, допущенными при подписании последнего договора о мире, и не считает нужным убивать людей из-за неправильно разделенных территорий.
– А если начнут убивать тебя? – спросил кто-то из комиссии. – Или твоих родителей?
– Ну что ж, я буду защищаться. Но существуют разные формы защиты – убеждение, например.
– Чтобы я этого пацифиста больше не видел, – сказал усталый пожилой военный. – Или в джобники[5], или двадцать первый![6]
И Эли направили куда-то в пустыню, копать – как и положено джобнику.
В день призыва Мишель отпросилась из школы. Все-таки они были старые приятели, надо проводить по-человечески, пусть и в джобники. К ее удивлению, на призывном пункте не оказалось никого из многочисленных друзей и подружек Эли, только родители (он наконец стал разговаривать с отцом!) и старший брат.
– В некоторые минуты жизни, – он как-то странно неловко улыбался, – в некоторые минуты жизни нужны только самые близкие люди.
Так же криво улыбаясь, он обнял Мишель, расцеловал в обе щеки. Все заторопились, мама попыталась всплакнуть, но, взглянув на Эли, тут же перестала.
Через пару дней он позвонил как ни в чем не бывало, рассказал про новую жизнь, про ребят в отряде. Многие казались вполне приличными пацанами и могли стать настоящими друзьями.
– Слушай, – сказал он между прочим, – меня посетила оригинальная мысль: почему бы тебе опять не стать моей гёрлфренд? Никто не знает меня лучше. И разве я тебе не нравлюсь? Конечно, не слишком красивый, зато умный!
– Ну уж нет, – весело рассмеялась Мишель, – это мы уже проходили.
И тут же подумала про себя: «Да! Наконец-то!»
– Ты зря смеешься, что мы теряем, в конце концов? Не получится так не получится! Банкетный зал еще не заказан.
– Молодец, девочка! – сказала Ляля. – Все-таки победила, он у твоих ног!
– Научила на свою голову, – буркнул Гинзбург, – стратегиня несчастная. Может, этот замечательный поклонник хоть штаны сменит на менее рваные? И на каком языке прикажешь с ним объясняться?
Данечка сидел на горшке и беспрерывно смеялся, будто все понимал. Хорошо, что родители были на работе и не участвовали в этой интересной дискуссии.
Через месяц Эли отпустили в отпуск на выходные. Его друзья, в большинстве своем тоже солдаты, тут же затеяли тусовку на море, на трех машинах (родительских, конечно), каждый со своей подружкой.
– С ночевкой? – спросил папа. – На море?
– Пусть едет, – вздохнула мама, – все равно когда-нибудь повзрослеет.
– Учти, – тихо сказала Ляля, не поворачивая головы, – забеременеть можно с самого первого раза, просто с первой минуты. И чтобы никаких комментариев! – заключила она, строго поглядев на Гинзбурга.
И зачем было брать столько пива? Еще не стемнело, а эти обалдуи гордо тащили к стоянке второй ящик. Стоило волноваться, надевать красивый новый лифчик, выпрашивать у Ляли духи!
Мальчишки долго разводили огонь, чиркая пестрыми зажигалками (папа в любую погоду разжигал костер одной спичкой), потом так же долго и неуклюже жарили шашлыки. Мясо получилось пересоленным и горелым, но они лопали со страшным аппетитом и беспрерывно рассказывали про свою армию, будто прослужили долгие годы, а не один месяц. Все рассказы получались одинаковые – тупое начальство и дежурства на кухне, но они никак не могли остановиться и хохотали все громче, захлебываясь и перебивая друг друга. Малознакомые девчонки тихо шептались о чем-то своем, пива они, конечно, пить не стали, так что страшно было подумать, сколько пришлось на каждого из этих новоиспеченных воинов. А папа еще смеялся, что израильтяне не умеют пить «по-человечески»!
Эли лежал на песке, положив ей на колени теплую, непривычно стриженную голову, хотелось не шевелиться и только тихонько гладить детский лоб, но вскоре у нее сильно затекла спина, так как совсем не на что было опереться. Эли полудремал, но успевал вставлять едкие замечания по поводу армейских порядков. Интересно, если вместо ее колен подсунуть какую-нибудь подушку, заметит он вообще или нет? Разговор в это время перешел на правительство, как и всегда бывает в израильских компаниях, Эли вскочил, доказывая преимущества политики Барака, она тихонько поднялась, разминая затекшие ноги, и ушла в темноту.
Море громко шуршало, окатывало холодными брызгами кроссовки. Сильно пахло рыбой и еще чем-то тяжелым и гнилым. Раздался стук камней за спиной, неужели он пошел ее догонять? Как бы не так, просто ветер опрокинул мокрую доску. Есть ли спасение от одиночества в чужом нескладном мире? Она брела все дальше, и было все хуже и страшнее в беспокойной сырой темноте. Нет, надо взять себя в руки! Что, собственно, произошло? Просто давно не видел друзей, да еще не выспался – выехал в пять утра из своей пустыни. Да еще чертово пиво! Вдруг Эли ищет ее, волнуется? И завтра опять уедет, неизвестно куда и насколько. «С любимыми не расставайтесь», – всегда повторяет Ляля. Мишель заспешила обратно, утопая в сыром песке.
Две пары обнимались у прогоревшего костра, остальные куда-то разбрелись. Никто ее не искал и не думал искать! Мишель растерянно потопталась вокруг стоянки, потом догадалась заглянуть в машину. Эли крепко спал, раскинувшись на заднем сиденье. Дверь никак не открывалась, потом жутко хлопнула, когда она догадалась наконец дернуть какую-то незаметную ручку, но он даже не шелохнулся. Мишель с трудом откинула переднее сиденье, свернулась калачиком. Промокшие ноги гудели, жесткий валик давил шею, и глухо шумело ненужное чужое море.
– Как погуляли? – нарочито безразлично спросила Ляля. Она, как всегда, что-то кроила из пестрого тонкого материала. Кажется, уже все иерусалимские модницы носили Лялины наряды, образовалась даже маленькая очередь.
– Нормально. – Мишель решила не вдаваться в подробности.
– Ну что значит нормально? Расскажи что-нибудь про местную молодежь, мне же интересно! Пели, танцевали?
Жалко, что она никогда не умела врать.
– Да нет, не особенно, – вздохнула Мишель, – ребята много пива привезли, всех развезло, уснули рано.
– И Эли?
– И Эли.
– Понятно, – сказала Ляля и застучала ножницами. Ткань распалась на косые треугольники, Мишель уже знала, что скоро они станут забавной юбкой с разноцветными клиньями. – У меня идея, – сказала Ляля слишком веселым голосом. – Звоню Сабринке, и отправляем тебя к ней на каникулы. Что может быть лучше Праги в июле месяце! «О, слезы на глазах! Плач гнева и любви! О, Чехия в слезах!..» – ты хоть знаешь, кто написал?
Что там было знать! Ляля целыми днями готова цитировать свою ненаглядную Цветаеву. Мишель тоже пыталась читать одно стихотворение – «Попытка ревности», оно здорово начиналось:
- Как живется вам с другою, —
- Проще ведь? – Удар весла! —
- Линией береговою
- Скоро ль память отошла… —
Но дальше начинались такие непонятные фразы, что она забросила.
– Ляля, – спросила она тихо, – а может, все придумали? Разные мечтательницы типа твоей Цветаевой? Может, по-другому и не бывает?
– Бывает! – хрипло закричала Ляля. – Ты слышишь?! Бывает по-другому!
* * *
Конечно, он мог бы заметить и раньше, этот папаша Гинзбург. А с другой стороны, чего, собственно, волноваться? Взрослая девица, почти восемнадцать лет, в университет поступила, из экспедиции вернулась живая и здоровая. Наоборот, он как-то успокоился. Квартира старая, но вполне родная, со своими теплыми углами и заваленными книжными полками. Денег хватает, особенно с тех пор, как он активно занялся репетиторством. Лялька абсолютно та же – худая, лохматая, в обнимку с Битлами и картинами, с сигаретой в тоненьких ломких пальцах. Может быть, более тихая, чем обычно. Слишком тихая.
Гинзбургу недавно исполнилось тридцать девять. Друзья и коллеги предпринимали последние отчаянные попытки его женить. Черная шевелюра сильно поседела, но сам он оставался еще хоть куда, так, по крайней мере, уверяли любившие Осипа женщины. Честно признаться, их было сразу несколько, милых, чудесных, но совершенно необязательных женщин. Гинзбург отчаянно увиливал от решительных объяснений, отделывался цветами и в конце концов сбегал к своим привычным углам и книжкам. Вечерами заходили друзья, из тех, что отдыхали в его холостяцком доме от семейной рутины. Партия шахмат, армянский коньяк в большой, довоенной, граненого хрусталя рюмке, Лялины укачивающие Битлы за стеной. Стоило ли менять надежный уют на непредсказуемую жизнь с женщиной, чужие запахи и наряды, суету, визиты к подругам и родственникам?
В последнее время часто заходил Саша, Александр Петрович Одоевцев. Гинзбург был страшно благодарен ему за Лялю, да и вообще любил этого молчаливого книжника и эстета, с идеально завязанным галстуком под круглой чеховской бородкой. Ляля, обычно болтушка и воображала, молча накрывала кружевной салфеткой тяжелый, тоже довоенный круглый столик, выносила прозрачные бабушкины чашки, домашние пироги и печенье с корицей – она вдруг пристрастилась к кулинарии. Иногда она вовсе не выходила, только Битлы звучали как-то особенно протяжно и грустно.
Было известно, что Одоевцев женат, имеет двоих детей, но сам он об этом говорил редко, в гости не приглашал, чему Гинзбург был рад в душе, так как всегда тяготился общением с чужими женами. Да и они его недолюбливали, давно и справедливо считая не вдовцом, а вольным и опасным для чужих семей холостяком.
Самое потрясающее и невообразимое – что он тоже ее любил!
Ну, она – понятное дело, даже в мечтах не могла вообразить ничего похожего. Доцент, лучший лектор факультета – и при этом самый ловкий походник и рыбак из всей экспедиции, молчун – и блестящий рассказчик, непритязательный турист и сказочный джентльмен. Одно имя чего стоило – Александр Петрович Одоевцев, почти декабрист! Он и занимался периодом декабристов, но не главными, всем известными героями, как Трубецкой или Волконский, а почему-то Бенкендорфом, причем у него получалось, что Бенкендорф совсем не такой однозначный злодей и глушитель прогресса, как они учили в школе.
Ляля не просто терялась – немела от ужаса, когда Одоевцев с ней заговаривал, в жизни не чувствовала себя более бестолковой дурехой. А чего стоили ее былые увлечения! Все эти болтливые мальчишки, то краснеющие на ровном месте, то вдруг хватающие тебя за лифчик, так что хочется убить на месте. Конечно, Александр Петрович немолодой, даже почти пожилой человек, страшно сказать, на год старше ее отца, но какое это имеет значение, когда вся окружающая жизнь жестоко и безнадежно разделила их, навсегда разделила.
И при этом он ее любил! Да! Ляля сразу заметила, хотя ничего, ну совершенно ничего не происходило. Просто он боялся ее взгляда и руку ей не подал, когда перелезали овраг, всем девчонкам подал, а перед ней отвернулся и чуть не упал в липкую грязь.
И вдруг затеял вечер поэтов Серебряного века. Она знала почему – он слышал, как Ляля накануне рассказывала девчонкам, что обожает Цветаеву (Гинзбург ей раздобыл сборник по страшному блату). И вот он устроил потрясающий вечер, читал Ходасевича, и Гумилева, и Мандельштама, которых никто тогда не слышал, а потом перешел на Цветаеву: «кабы нас с тобой да судьба свела… руки даны мне – протягивать каждому обе… быть мальчиком твоим светлоголовым…» и еще:
- Голос – сладкий для слуха,
- Только взглянешь – светло.
- Мне – что? Я старуха,
- Мое время прошло…
Она чуть не расплакалась и быстро ушла от костра в темноту, а через полчаса или даже меньше Одоевцев нашел ее. Как он сказал? «Ляля, милая, простите меня. Это было неуместно». Да, так и сказал – неуместно. И еще спросил: «Вы помните Пьера Безухова? Его разговор с Наташей?» Она еще глупо растерялась, Пьер Безухов – что-то из школы, «образ положительного героя» и прочая скука, из одного протеста не дочитала до конца.
– Если бы я был не я, – прошептал он, – а лучший и красивейший человек… и был бы свободен…
Он сжал ее холодные поцарапанные в недавнем походе руки, поцеловал в ладони.
Так когда-то целовал Гинзбург, когда она была совсем маленькой, еще при маме.
Она сама его соблазнила.
Да, он приходил, пил коньяк с ничего не замечающим Гинзбургом, рассказывал о планах новой экспедиции. Ляля почти не участвовала в разговорах, только слушала и умирала от этого немыслимого, чуть хрипловатого голоса. Она страстно увлеклась кухней, потому что Одоевцев иногда оставался к ужину. Боже, все кулинарные рецепты оказались на один лад, из книги «О вкусной и здоровой пище», где не чувствовалось никакого вкуса! Она расспрашивала старушку-соседку «из бывших», стояла в очередях, изобретала свои печенья и соусы. Потом принялась шить наряды – мастерила из старых маминых платьев роскошные и несуразные юбки, знала, что ему все нравится. Потом она придумала, как спровадить Гинзбурга – купила билет на «Петрушку» Стравинского, без предупреждения, на тот же вечер, кто бы устоял!
Одоевцев пришел, как обычно, около восьми, растерялся, не увидев отца, но она не стала отвечать на вопросы, она обняла его прямо тут, в коридоре, около вешалки со старыми шляпами, она целовала его руки, прекрасные мужские руки с длинными пальцами, и щеки, и бороду и плакала от избытка чего-то переполнявшего грудь. И тогда он вдруг застонал еле слышно и обнял Лялю за колени, да, за колени, как маленький. Она сама сняла платье, потому что он запутался в юбках и складках, сама потянула его к старому помятому дивану Гинзбурга. Было, конечно, больно, но это не имело никакого значения, он обнимал ее, обнимал все крепче, отчаяннее, как тонущий человек, и вдруг застонал, громко, до крика, так что Ляля вовсе забыла о себе и только закрывала его от этого страдания и муки.
Потом он все никак не мог уйти, хотя совсем не стоило сегодня встречаться с Гинзбургом, он все целовал ее руки, плечи, крепко сжимал ладонями обветренные щеки. И только у двери, уже стоя в пальто, вдруг охнул, испуганно заглянул в круглую, поглупевшую от счастья физиономию:
– Слушай, а ты понимаешь что-нибудь в женских проблемах? Ты умеешь предохраняться?
– Нет еще, – беззаботно ответила Ляля, – но скоро научусь.
Но учиться в тот раз не пришлось. Потому что она уже была беременна. Уже два часа или даже больше. С той самой минуты, как он застонал в ее объятьях.
* * *
Наступивший 1963 год оказался для Гинзбурга на редкость неудачным. Все началось с постыдной, какой-то водевильной истории с любимыми женщинами – они узнали о существовании друг друга. Проще говоря, запутался с бабами, старый дурак! Главное, сам виноват, подвела унаследованная от Мирьям Моисеевны доброта и нерешительность. Первая из его возлюбленных, певица, замечательная яркая брюнетка, одним прикосновением могла свести с ума, но была немного истерична, да еще обременена ревнивым мужем. Вторая, давняя коллега, милая и одинокая учительница химии, наоборот, не слишком привлекала сексуально, но за прошедшие годы стала добрым и верным товарищем. Немыслимым казалось расстаться с любой из них, он окончательно заврался, был уличен во лжи и вскоре обнаружил себя в обидном, но заслуженном одиночестве. Друзья к тому времени тоже как-то разбрелись – у одного родился ребенок, второй тяжело запил, хороший человек Саша Одоевцев неожиданно уволился и уехал к черту на рога, в Иркутск кажется, ему предложили кафедру.
За всеми этими нескладными событиями Гинзбург немного забыл про Лялю, тем более она все время проводила дома, старательно училась и не надоедала капризами, как бывало прежде. Страсть к кулинарии прошла, что привыкшего к ее увлечениям Гинзбурга совсем не удивило, зато она перестала курить и вместо нечесаной стрижки отрастила волосы и собирала их в маленький гладкий хвостик, становясь трогательно похожей на Анну Львовну. Только с нарядами ее привычки не изменились, все мастерила себе разные хламиды из старых маминых платьев. Однажды, посмотрев на очередной мешок, совершенно скрывающий чудесную Лялькину фигурку, Гинзбург заявил:
– Все! Восемнадцать лет, невеста, можно сказать, завтра же идем и покупаем нормальное красивое платье. Как раз ко дню рождения!
– Хорошо, – безразлично согласилась Ляля, – только не завтра, а попозже. Через три месяца.
– Через три месяца? Почему? Что ты опять затеваешь?! – вдруг испугался Гинзбург. – Почему именно через три?
– Потому, – спокойно ответила Ляля.
Что, что он мог поделать?!
Он бы убил этого подлеца, задушил собственными руками, но Лялька категорически отказывалась назвать имя. На все вопросы она только отрицательно мотала головой.
– Старый приятель-хиппарь?
– Нет!
– Однокурсник?
– Нет!
– Может, какой-то насильник?
– Нет, нет, нет!
– Ляля, девочка, но ведь нельзя же так, пусть хоть придет, объяснится, это же целая новая жизнь, не игрушки какие-нибудь!
– Он ничего не знает, – тихо сказала Лялька.
Ну как, как могла она рассказать? Про это совпадение друг с другом, эту нежность в руках, губах, в словах, бессвязно осыпающих ее? И его восторг, и отчаяние. И его беспомощный отъезд ровно через месяц, в самый разгар сессии, в какую-то чужую ненужную глушь – «я не имею права ломать жизнь всем на свете, я преступник, старый и бессильный преступник».
Разве можно было рассказать? Все сразу становилось обычной банальной историей – роман студентки с женатым преподавателем. Скучно и мерзко. Гинзбург бы никогда не простил. Никто бы не понял и не простил. Никто бы не поверил, что она совершенно не жалеет, что это было, было и останется с ней. Навсегда останется с ней.
Гинзбург узнал через год. Анечка, дочка Ляли, уже прочно стояла и даже пыталась ходить, держась пухлыми ручками за стенки манежа.
Однажды, вернувшись с работы и привычно толкнув вечно незакрытую дверь, Гинзбург был поражен странной тишиной, стоявшей в квартире. Анечка, правда, гулькала, но не слышалось в ответ привычной Лялиной скороговорки, не шипели сковородки, не лилась вода. Гинзбург бросился в комнату. Ляля молча стояла у окна. Прямо на полу лицом к Анечке сидел мужчина, сжимая руками голову, как при сильной боли. Это был Александр Петрович Одоевцев. Старый, еще школьный друг Сашка Одоевцев, милейший человек, эстет и эрудит, страстный ученый и коллекционер.
– Ты?! – осененный внезапной догадкой, закричал Гинзбург. – Так это ты, гад?!
Сашка встал, откинул голову, как бы ожидая пощечины.
Красиво! Онегин и Ленский, Пушкин и Дантес, Моцарт и Сальери, кто там еще, черт бы их побрал! Только драться ему недоставало с этим престарелым соблазнителем.
– Сколько у тебя детей? – неожиданно для себя спросил Гинзбург.
– Двое, – хрипло прошептал Сашка, – две девочки.
– Не мог хоть сына сделать, – зло сплюнул Гинзбург, – бабник несчастный!
* * *
Сначала Анечка звала Гинзбурга папой, что никого в яслях не удивляло, видали отцов и постарше. Но Ляля ее быстро отучила. «Это не папа, – повторяла она, заглядывая в младенческую, но уже осмысленную мордашку, – это Гинзбург, скажи: Гинз-бург». Так она сама звала его с детства следом за мамой. Мама помнилась плохо, какие-то отдельные эпизоды. Вот они идут на елку в Дом культуры, мама поправляет ее колючий шарф и вдруг целует в обе щеки прямо посреди улицы около будки с милиционером. Вот выбирают подарок на день рождения, маме нравятся книжки, а Ляле – кукла, огромная роскошная кукла в длинном платье, понятно, очень дорогая, на всякий случай Лялька начинает нудно реветь, Гинзбург сердится, а мама быстро бежит к кассе и платит. Вот она сидит с тетрадкой у стола в больничной палате, вокруг чужие тетеньки, мама, лежа на высокой подушке, диктует четким учительским голосом: «Наш па-па Гинз-бург са-мый доб-рый, са-мый силь-ный, са-мый луч-ший», – и объясняет, где нужно ставить запятые.
Как бы она справилась без отца с Анечкой, со всей этой историей?
– Не надейся, – сказал Гинзбург, – больше я такой ошибки не совершу! Никаких магнитофонов и английских школ, никаких рисований и курений! Будем растить нормального здорового ребенка.
Анечка росла нормальным здоровым ребенком, ходила в районную математическую школу, читала сказки Андерсена, по вечерам при активном участии Гинзбурга решала смешные головоломки. Училась она прекрасно, увлекалась химией, шахматами и почему-то футболом, из одежды признавала только джинсы, которые Ляля, наступив на горло собственным вкусам, мастерски перешивала из жестких бесформенных штанов, купленных в магазине «Рабочая одежда». С девятого класса Аня начала заниматься в кружке «Юный математик» при университете, легко и свободно поступила на модный факультет компьютеров, благо в качестве репетитора выступал все тот же Гинзбург, на втором курсе познакомилась с выпускником того же факультета, ленинским стипендиатом Сережей Поляковым, и через год мирно вышла за него замуж. Еще через год родилась Маша. С именем внучки долго решали, Гинзбург хотел помянуть и мать, и сестру, но никак вместе не получалось, имя Мишель дожидалось своего часа где-то в неизвестном, незнакомом Израиле.
Про отца Аня никогда не спрашивала, по крайней мере у Гинзбурга, приходилось только догадываться, что ей насочиняла Ляля. Саши Одоевцева к этому времени уже не было в живых.
В тот первый его приезд Гинзбург воздержался от дальнейших высказываний и, зло сплюнув, ушел ночевать к знакомым. Но когда через три месяца Одоевцев приехал вновь, такой же растерянный и виноватый, с цветами в одной руке и кучей дурацких ненужных погремушек в другой, Гинзбург посмотрел на помертвевшую Лялю, на надутую, обиженную общим невниманием Анечку и развернул его лицом к двери:
– Ты уже сделал свой выбор год назад, когда уехал. Дай ей возможность жить дальше.
Больше Одоевцев не приезжал. Раз в год, на Анечкин день рождения, приходил крупный денежный перевод, на Новый год неизменно появлялся Дед Мороз с подарком, всегда необычным и замечательным. Накануне первого класса, кажется, это было в семидесятом, они проснулись от странного шума на лестнице, в дверь раздался громкий стук, и два дюжих дядьки внесли тяжелое коричневое пианино. А еще через пять лет, в очередной экспедиции по рекам Сибири, Одоевцев утонул. Подробности Гинзбург узнал от вдовы, которая, вернувшись с детьми в Ленинград, обзванивала старых друзей и знакомых мужа. Какая-то нелепая обидная смерть, лодка перевернулась у самого берега, все легко выплыли. Может быть, Саша ударился головой или сердце вдруг отказало?
Первое время Гинзбург скрывал смерть Одоевцева от Ляли, но она, конечно, узнала, отчаянно затосковала, заметалась, то хотела ехать на место гибели, то на могилу в Иркутск, потом вдруг загорелась мыслью познакомить Анечку с сестрами. Однажды субботним вечером, вопреки всем протестам и доводам отца, она набралась смелости и позвонила в темную, давно не крашенную дверь с надписью: «Одоевцевы – 2 звонка».
Немолодая изящная женщина совсем не удивилась, увидев Лялю, Александра Петровича хорошо помнили в Ленинграде, и теперь в дом часто приходили бывшие ученики и коллеги покойного мужа. Ляля послушно рассматривала семейные фотографии, слушала перечень работ и достижений Александра Петровича, особенно в последние годы, когда он возглавил кафедру.
– Я так не хотела этого переезда, – тихо говорила женщина, – но было бы предательством его останавливать. Вы знаете, мужа не интересовали амбиции, деньги, даже научное первенство. Всю жизнь был предан только двум вещам – работе и семье.
Две взрослые красивые девочки смотрели с разложенных фотографий, одна, светлоголовая и глазастая, страшно напоминала Аню.
– Да, это младшая, – заметив ее взгляд, сказала женщина, – копия Саши. Вы не представляете, каким он был мужем и отцом. Невосполнимо. Все невосполнимо. – Она заплакала сдержанно и безнадежно.
Больше Ляля никогда в этот дом не приходила.