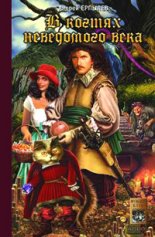Фараон Прус Болеслав
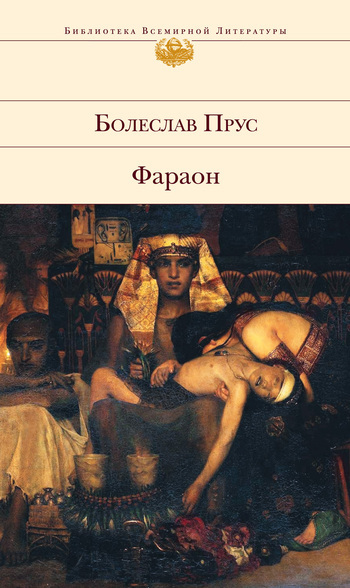
Женщина, выплакавшись, снова заговорила:
– А сегодня пришел этот писец со своими людьми и говорит мужу: «Если нет у тебя пшеницы, отдай нам двух твоих сынишек; тогда достойный Дагон не только снимет с тебя эти недоимки, но еще будет выплачивать за каждого мальчишку ежегодно по драхме…»
– Горе мне с тобой! – прикрикнул на нее муж, которого только что топили. – Сгубишь ты нас всех своей болтовней… Не слушай ее, добрый господин, – обратился он к Рамсесу. – Корова думает, что она хвостом отпугивает мух, а бабе кажется, что языком отгонит сборщиков податей. Не знают ни та, ни другая, что они дуры.
– Сам ты дурак, – оборвала его баба. – Пресветлый господин наш… И вид-то у тебя, как у царевича…
– Будьте свидетелями, – шепнул сборщик своим людям, – эта женщина кощунствует…
– Цветок душистый! Голос твой – что звук флейты… Выслушай меня, – молила женщина Рамсеса. – Так вот, муж мой и говорит этому чиновнику: «Я бы вам скорее отдал пару быков, если б они у меня были, чем своих мальчуганов, хоть бы вы мне платили за каждого по четыре драхмы в год. Уйдет ребенок из дому служить – никто его уж больше не увидит».
– Удавиться бы мне! Лучше бы уж рыбы клевали тело мое на дне Нила! – кряхтел муж. – Ты весь хутор погубишь своими жалобами… баба…
Сборщик, видя поддержку с наиболее заинтересованной стороны, выступил вперед и опять заговорил, гнусавя:
– С тех пор как солнце восходит из-за царского дворца и заходит за пирамидами, творились в этой стране разные чудеса… При фараоне Семемпсесе[22] происходили чудесные явления у пирамид Кахуна,[23] и чума посетила Египет. При Боетосе[24] разверзлась земля под Бубастом и поглотила множество людей… В царствование Неферхеса[25] воды Нила в продолжение одиннадцати дней были сладки, как мед. Случались и не такие еще чудеса, о которых я знаю, ибо я преисполнен мудрости. Но никогда никто не видел, чтоб из воды вышел какой-то неизвестный человек и в поместье достойнейшего наследника престола стал препятствовать сбору налогов.
– Молчать! – крикнул Рамсес. – И убирайся вон отсюда. Никто не отберет у вас детей, – прибавил он, обращаясь к женщине.
– Мне не трудно убраться, – ответил сборщик, – потому что в моем распоряжении легкая лодка и пять гребцов. Но дайте же мне, ваша честь, какой-нибудь знак для господина моего Дагона.
– Сними парик и покажи Дагону знак на твоей башке и скажи ему, что такие же знаки я распишу по всему его телу.
– Вы слышите, какое оскорбление! – прошептал сборщик своим людям, пятясь к берегу с низкими поклонами. Он сел в лодку, и, когда его помощники отчалили и отплыли на несколько десятков шагов, он погрозил в сторону берега кулаком и крикнул:
– Чтоб вам все внутренности скрутило, бунтовщики! Святотатцы! Я отправлюсь отсюда прямо к наследнику престола и расскажу ему, что творится в его поместье.
Потом взял дубинку и стал тузить своих людей за то, что они не заступились за него.
– Так будет и с тобой!.. – кричал он, угрожая Рамсесу.
Царевич вскочил в свою лодку и, взбешенный, велел лодочнику плыть вдогонку за дерзким служащим ростовщика. Но субъект в бараньем парике бросил дубинку и сам сел на весла, а люди его помогали ему так усердно, что погоня ни к чему не привела.
– Скорее сова догонит ласточку, чем мы их, прекрасный мой господин, – сказал, смеясь, лодочник Рамсесу. – А вы небось не водный техник, а офицер и, пожалуй, из самой гвардии царя? Сразу – бац по голове! Мне это дело знакомо: я и сам пять лет прослужил в армии и колотил по макушке да по пузу, и неплохо жилось мне на свете. А если меня, бывало, кто сшибет – я сразу смекаю, что это кто-нибудь из важных… У нас в Египте – да не покинут его никогда боги! – страшно тесно: город на городе, дом на доме, человек на человеке. И кто хочет как-нибудь повернуться в этой гуще, должен лупить по голове.
– Ты женат? – спросил наследник.
– Хм! Когда есть баба и место на полтора человека, тогда женат, а вообще – холостой. Я ведь служил в армии и знаю, что баба хороша один раз в день – и то не всегда. Мешает.
– А не пойдешь ли ко мне на службу? Не пожалеешь.
– Прошу прощения, но я сразу увидел, что вы могли бы полком командовать, даром что так молоды. Только на службу я ни к кому не пойду, я – вольный рыбак. Дед мой был, с позволения сказать, пастухом в Нижнем Египте, а род наш от гиксосов. Правда, донимает нас глупое египетское мужичье, но меня только смех берет. Мужик и гиксос, скажу прямо, как вол и бык. Мужик может ходить и за плугом, и перед плугом, а гиксос никому не станет служить. Разве что в армии царя – на то она и армия!
Веселый лодочник продолжал разглагольствовать, но наследник больше не слушал. В душе его все громче звучали мучительнейшие вопросы, совершенно для него новые. Так, значит, эти островки, мимо которых он плыл, относятся к его поместьям. Странно, что он совсем не знал, где находятся и каковы его хутора. И, значит, от его имени Дагон обложил крестьян новыми поборами, а то необычайное оживление, которое он наблюдал, плывя вдоль берегов, и объяснялось тем, что здесь их выколачивали. Крестьянину, которого били на берегу, очевидно, нечем было платить. Дети, горько плакавшие в лодке, были проданы по драхме за голову на целый год. А женщина, которая, стоя по пояс в воде, проклинала увозивших, – это их мать…
«Очень беспокойный народ эти женщины, – говорил себе царевич. – Одна только Сарра кротка и молчалива, а все другие только и знают, что болтать, плакать, кричать…»
Ему вспомнился крестьянин, уговаривавший свою сердитую жену: его топили, а он не возмущался; с ней же ничего не делали, а она орала. «Да, женщины беспокойный народ!.. – повторял он мысленно. – Даже моя почтенная матушка… Какая разница между ней и отцом! Царь не хочет и знать о том, что я забыл о походе ради девушки, а вот царице есть дело даже до того, что я взял в дом еврейку. Сарра – самая спокойная женщина, какую я знаю. Зато Тафет тараторит, плачет, орет за четверых…»
Потом Рамсесу вспомнились слова жены крестьянина о том, что они уже месяц не едят хлеба, а только семена и корешки лотоса. Семена эти, как мак, а корни – без всякого вкуса. Он не стал бы их есть и три дня подряд. Ведь даже жрецы, занимающиеся лечением, рекомендуют менять пищу. Еще в школе его учили, что надо мясо чередовать с рыбой, пшеничный хлеб с финиками, ячменные лепешки с фигами. Но целый месяц питаться семенами лотоса!.. Да, а как же лошадь, корова?… Лошади и коровы любят сено, а ячменные клецки приходится насильно пихать им в глотку. Возможно, и крестьяне предпочитают питаться семенами лотоса, а пшеничные и ячменные лепешки, рыбу и мясо едят без удовольствия. Впрочем, особенно благочестивые жрецы, чудотворцы, никогда не прикасаются ни к мясу, ни к рыбе. Очевидно, вельможи и сыновья фараона нуждаются в мясной пище, как львы и орлы, а крестьянам достаточно травы, как волу…
А что мужика окунали в воду за недоимки, так разве сам он, купаясь с товарищами, не толкал их в воду и сам не нырял? Сколько было при этом смеха! Нырять – это развлечение. Что же касается палки, то мало ли его били в школе?… Это больно, но, должно быть, не всем. Собака, когда ее бьют, визжит и кусается, а вол даже не оглянется. Так и это: человеку знатному больно, когда его бьют, а мужик кричит только для того, чтобы подрать глотку. Да и не все кричат. Солдаты или офицеры – те даже поют под палками…
Эти мудрые соображения не могли, однако, заглушить едва уловимого, но неотвязного беспокойства в душе наследника. Его арендатор Дагон требует с крестьян уплаты незаконных податей, чего они уже не в силах сделать!
Впрочем, в эту минуту наследника интересовали не столько крестьяне, сколько его мать. Ей-то, наверно, известно о хозяйничании финикиянина. Что она скажет по этому поводу сыну, как посмотрит на него? Как лукаво улыбнется!.. Она не была бы женщиной, если бы не напомнила ему при случае: «Ведь я же говорила тебе, Рамсес, что этот финикиянин разорит твои поместья!..»
«Если б эти предатели-жрецы, – продолжал размышлять царевич, – пожертвовали мне двадцать талантов, я бы завтра же прогнал Дагона, чтобы мои крестьяне не терпели побоев и не хлебали нильской воды, а мать не подсмеивалась надо мной… Десятая… сотая часть тех богатств, что лежат в храмах, радуя лишь ненасытную алчность жрецов, на целые годы освободила бы меня от финикиян…»
И тут Рамсес пришел к неожиданному для себя заключению, что между крестьянами и жрецами существует глубокий антагонизм.
«Это из-за Херихора повесился тот крестьянин на границе пустыни. Это для того, чтобы содержать жрецов и храмы, тяжко трудятся около двух миллионов египтян… Если бы поместья жрецов принадлежали казне фараонов, мне не пришлось бы занимать пятнадцать талантов и мои крестьяне не подвергались бы таким бесчеловечным притеснениям. Вот где источник бед Египта и слабости его царей!»
Царевич сознавал, что крестьяне терпят жестокую несправедливость, и, решив, что виновники зла – жрецы, обрадовался. Ему не приходило в голову, что его суждения могут быть ошибочны и несправедливы.
Впрочем, он не судил, а только возмущался. Но возмущение человека никогда не обращается против него самого, подобно тому, как голодная пантера не ест самое себя, а, виляя хвостом и прижимая к голове уши, высматривает вокруг себя жертву.
Глава XIII
Прогулки наследника престола с целью разыскать жреца, который спас Сарру, а царевичу дал дельный совет, привели к неожиданному результату. Жреца так и не удалось найти, зато среди египетских крестьян стали распространяться легенды о царевиче. Какой-то человек разъезжал по ночам в небольшом челноке из деревни в деревню и рассказывал крестьянам, что наследник престола освободил людей, которым за нападение на его дом грозила работа в каменоломнях; кроме того, царевич избил служащего, вымогавшего у крестьян незаконные налоги. «Царевич Рамсес находится под особым покровительством Амона – бога Западной пустыни, – который является его отцом», – добавлял незнакомец в заключение.
Простой народ жадно слушал эти рассказы и охотно верил им, во-первых, потому, что они совпадали с фактами, во-вторых, потому, что рассказывавший сам появлялся, как дух: приплывал неизвестно откуда и исчезал.
Рамсес совсем не говорил с Дагоном о своих крестьянах и даже не вызвал его к себе; ему было неудобно ссориться с финикиянином, от которого он получил деньги и к которому, пожалуй, еще не раз вынужден будет обращаться.
Однако спустя несколько дней после столкновения Рамсеса с писцом Дагона банкир сам явился к наследнику престола с каким-то завязанным в белый платок предметом. Войдя в комнату, он опустился на колени, развязал платок и вынул из него чудесный золотой кубок, богато украшенный разноцветными каменьями и резьбой. На подставке был изображен сбор винограда, а на чаше – пиршество.
– Прими этот кубок, достойный господин, от раба твоего, – сказал банкир, – и пусть он служит тебе сто… тысячу лет… до скончания веков.
Рамсес, однако, догадался, чего добивается финикиянин. Поэтому, не прикасаясь к драгоценному подарку, он сказал, строго взглянув на Дагона:
– Ты видишь, Дагон, багряный отлив внутри кубка?
– Конечно, – ответил банкир, – как же мне не заметить этого багрянца, по которому видно, что кубок из чистейшего золота.
– А я тебе скажу, что это кровь детей, отнятых от родителей! – грозно ответил наследник престола и ушел, оставив Дагона одного.
– О Ашторет! – простонал финикиянин.
Губы у него посинели и руки стали дрожать так, что он с трудом снова завернул свой кубок.
Несколько дней спустя Дагон отправился с этим кубком на хутор к Сарре. Он нарядился в дорогое платье, тканное золотом; в густой бороде у него был спрятан стеклянный шарик, из которого струились благовония, в волосы он воткнул два пера.
– Прекрасная Сарра, – начал он, – да низольет Яхве столько благословений на твою семью, сколько сейчас воды в Ниле. Ведь мы, финикияне, и вы, евреи, – соседи и братья. Я сам пылаю к тебе такой пламенной любовью, что если б ты не принадлежала достойнейшему господину нашему, я дал бы Гедеону – да здравствует он благополучно! – десять талантов и сделал бы тебя своей законной женой. Такая у меня страстная натура!
– Упаси меня бог, – ответила Сарра, – не нужно мне другого господина, кроме моего. Но с чего это, почтенный Дагон, пришла тебе охота навестить сегодня прислужницу царевича?
– Скажу тебе правду, как если бы ты была Фамарью, женой моей, которая, хоть она и знатная дочь Сидона и принесла мне большое приданое, стара уже и недостойна снимать сандалии с твоих ног…
– Сладкий мед, что течет из твоих уст, отдает полынью, – заметила Сарра.
– Сладость его, – продолжал Дагон, присаживаясь, – пусть будет для тебя, а горечь пусть отравляет мое сердце. У господина нашего, Рамсеса, – да живет он вечно! – львиные уста и ястребиная зоркость. Он соизволил сдать мне в аренду свои поместья, что наполнило радостью чрево мое. Но, увы, он не доверяет мне, и я ночи не сплю от огорчения, а только вздыхаю и обливаю слезами свое ложе, где лучше бы ты возлежала со мною, Сарра, вместо моей старухи, которая не в силах уже пробудить во мне страсть…
– Вы хотели говорить о чем-то другом… – перебила его Сарра, покраснев.
– Я уже и сам не знаю, о чем хотел говорить с тех пор, как увидел тебя, и с тех пор, как наш господин, проверяя, как я хозяйничаю в его имениях, избил дубинкой моего писца, собиравшего подати с крестьян, так что тот лишился здоровья. Ведь эти подати не для меня, Сарра, а для нашего господина… Не я буду есть фиги и пшеничный хлеб из этих поместий, а ты, Сарра, и наш господин… Я дал господину деньги, а тебе драгоценности. Почему же подлое египетское мужичье должно разорять нашего господина и тебя, Сарра?… А чтобы ты поняла, как волнуешь ты мою кровь своей красотой, и чтобы знала, что от этих поместий я не ищу никакой прибыли, а все отдаю вам, возьми, Сарра, вот этот кубок из чистого золота, разукрашенный каменьями и резьбой, которая привела бы в восторг самих богов.
С этим словами Дагон вынул из белого платка кубок, не принятый царевичем.
– Я не настаиваю, Сарра, чтобы этот золотой кубок хранился у тебя в доме и чтобы ты давала из него пить нашему господину. Отдай его твоему отцу Гедеону, которого я люблю, как брата, и скажи ему такие слова: «Дагон, твой брат-близнец, злополучный арендатор поместий наследника престола, разорен. Пей, отец мой, из этого кубка, думай о брате-близнеце Дагоне и проси Яхве, чтобы господин наш, царевич Рамсес, не избивал его писцов и не подстрекал своих крестьян, которые и без того не хотят платить». А сама ты, Сарра, знай, что если б ты допустила меня когда-нибудь до близости с тобой, я бы дал тебе два таланта, а твоему отцу талант, и еще стыдился бы, что даю так мало, ибо ты достойна, чтобы тебя ласкал сам фараон, и наследник престола, и благороднейший министр Херихор, и доблестный Нитагор, и самые богатые финикийские банкиры. Ты так прекрасна, что, когда я вижу тебя, теряю голову, а когда не вижу, закрываю глаза и облизываюсь. Ты слаще фиг, душистее роз… Я дал бы тебе пять талантов… Возьми же кубок, Сарра…
– Я не возьму кубка, – ответила она, – мой господин запретил мне принимать от кого-либо подарки.
Дагон уставился на нее удивленными глазами.
– Ты, вероятно, не представляешь себе, Сарра, как дорого стоит эта вещь?… К тому же я дарю ее твоему отцу, моему брату…
– Я не могу принять… – тихо повторила Сарра.
– О боги!.. – вскричал Дагон. – Ну хорошо, Сарра, ты заплатишь мне как-нибудь, только не говори своему господину… Такая красавица, как ты, не может обходиться без золота и драгоценностей, без своего банкира, который доставал бы для нее деньги, когда ей захочется, а не только тогда, когда пожелает ее господин!..
– Не могу!.. – прошептала Сарра, не скрывая своего отвращения к Дагону.
Финикиянин сразу же переменил тон и продолжал смеясь:
– Прекрасно, Сарра!.. Я хотел только убедиться, верна ли ты нашему господину. Теперь я вижу, что верна, хотя глупые люди болтают…
– Что?… – вспыхнула девушка, бросаясь к Дагону со сжатыми кулаками.
– Ха-ха-ха! – смеялся финикиянин. – Как жаль, что этого не слышал и не видел наш господин. Но я ему когда-нибудь расскажу, когда он будет в хорошем настроении, что ты не только верна ему, как собака, но даже отказалась взять золотой кубок, потому что он не велел тебе принимать подарки. А этот кубок, поверь мне, Сарра, соблазнил уже не одну женщину… и каких женщин…
Дагон посидел еще немного, расточая похвалы добродетели и покорности Сарры, и наконец нежно распрощался с нею, сел в свою лодку с шатром и отплыл в Мемфис. Но по мере того как лодка удалялась, улыбка исчезала с лица финикиянина, сменялась выражением гнева. Когда же дом Сарры скрылся за деревьями, Дагон встал и, воздев руки, стал причитать:
– О Баал Сидон! О Ашторет! Отомстите за мою обиду проклятой дочери Иуды. Да сгинет ее коварная красота, как капля дождя в пустыне! Да источат болезни ее тело, безумство да обуяет ее душу! Да прогонит ее господин из дому, как паршивую свинью! Да придет время, что люди будут отталкивать ее иссохшую руку, когда она, истомленная жаждой, будет молить их, чтобы они дали ей глоток мутной воды!
И он долго еще плевался, продолжая что-то бурчать себе под нос, пока черная туча не закрыла на минуту солнце и не забурлила вода вокруг лодки, вздымаясь пенистыми валами.
Когда он кончил, солнце снова засияло, но река продолжала клокотать, как будто начинался новый подъем воды.
Гребцы Дагона испугались и перестали петь, но, отделенные от своего господина завесой шатра, они не видели, что он там делал.
С тех пор финикиянин не показывался больше на глаза наследнику престола. Однако, вернувшись как-то раз к себе в павильон, царевич застал в своей спальне прекрасную шестнадцатилетнюю финикийскую танцовщицу, весь наряд которой состоял из золотого обруча на голове и тонкого, как паутина, шарфа на плечах.
– Кто ты? – спросил он.
– Я – жрица и твоя прислужница. А прислал меня господин Дагон, чтобы я отвратила твой гнев от него.
– Как же ты это сделаешь?
– Вот так… Садись сюда, – сказала она, усаживая его в кресло. – Я стану на цыпочки, чтобы быть выше, чем твой гнев, и вот этим освященным шарфом буду отгонять от тебя злых духов. Кыш!.. Кыш!.. – зашептала она, кружась перед Рамсесом. – Пусть руки мои прогонят тучи с твоего чела… Пусть мои поцелуи вернут глазам твоим ясный взор… Пусть биение моего сердца наполнит музыкой слух твой, повелитель Египта! Кыш!.. Кыш!.. Он не ваш… он мой… Любовь требует такой тишины… что даже гнев должен смолкнуть перед ней.
Танцуя, она играла волосами Рамсеса, обнимала его, целовала в глаза. Наконец, утомленная, присела у его ног и, положив голову к нему на колени, пытливо смотрела на него, полуоткрыв губы и прерывисто дыша.
– Ты не гневаешься больше на твоего слугу Дагона? – шептала она, гладя лицо царевича. Рамсес хотел было поцеловать ее в губы, но она соскочила с его колен и убежала.
– О нет, нельзя!
– Почему?
– Я – девственница, жрица великой богини Астарты. Ты должен очень любить и чтить мою покровительницу и только тогда мог бы поцеловать меня.
– А тебе можно?…
– Мне все можно, потому что я жрица и дала обет сохранить чистоту.
– Зачем же ты сюда пришла?
– Рассеять твой гнев. Я это сделала и ухожу. Прощай и будь всегда здоров и милостив!.. – прибавила она с неотразимым взглядом.
– Где же ты живешь? Как тебя зовут? – спросил царевич.
– Меня зовут Ласка, а живу я… Э, да стоит ли говорить тебе? Ты еще не скоро придешь ко мне.
Она махнула рукой и исчезла, а царевич, как одурманенный, продолжал сидеть в кресле. Однако немного погодя он встал и, выглянув в окно, увидел богатые носилки, которые четыре нубийца быстро несли к берегу Нила.
Рамсес не жалел, что она ушла. Она его поразила, но не увлекла.
«Сарра спокойнее… и красивее, – подумал он. – К тому же… эта финикиянка, должно быть, холодна и ласки ее заучены».
Но с этой минуты царевич перестал сердиться на Дагона, а как-то раз, когда он был у Сарры, к нему пришли крестьяне и, поблагодарив за защиту, сообщили, что финикиянин не заставляет их больше платить новые подати.
Так было под Мемфисом. Зато в других поместьях царевича арендатор старался наверстать свое.
Глава XIV
В месяце хойяк, с половины сентября до половины октября, воды Нила достигли самого высокого уровня и начали чуть заметно убывать. В садах собирали плоды тамариндов, финики и оливки. Деревья зацвели во второй раз.
В эту пору благочестивейший Рамсес XII покинул свой солнечный дворец под Мемфисом и с огромной свитой на нескольких десятках разукрашенных судов отправился в Фивы благодарить тамошних богов за обильный разлив, а заодно совершить жертвоприношения на могилах своих вечно живущих предков.
Всемогущий повелитель весьма милостиво простился со своим сыном и наследником. Однако управление государственными делами на время своего отсутствия поручил Херихору.
Царевич Рамсес так принял к сердцу это доказательство монаршего недоверия, что три дня не выходил из своего павильона, ничего не ел и только плакал. Потом он перестал бриться и перебрался в усадьбу к Сарре, чтобы избежать встреч с Херихором и назло матери, которую считал виновницей своих несчастий.
На следующий же день в этом уютном уголке его навестил Тутмос, притащив с собой две лодки с музыкантами и танцовщицами и третью, нагруженную всякими яствами, цветами и винами. Царевич, однако, отправил музыкантов и танцовщиц обратно и, взяв Тутмоса под руку, пошел с ним в сад.
– Наверно, тебя прислала сюда моя мать – да живет она вечно! – чтобы отвлечь меня от еврейки? – спросил он своего адъютанта. – Так передай ей, что если бы даже Херихор стал не только наместником, но сыном фараона, – это не мешало бы мне делать то, что я хочу. Я понимаю, что это значит… Сегодня у меня захотят отнять Сарру, а завтра власть. Пускай же знают, что я не откажусь ни от того, ни от другого.
Наследник был раздражен. Тутмос пожал плечами и, помолчав, ответил:
– Как буря уносит птицу в пустыню, так гнев выбрасывает человека на скалы несправедливости. Разве можно удивляться недовольству жрецов тем, что наследник престола связывает свою жизнь с женщинами другой страны и веры? Сарра им тем более неугодна, что она у тебя одна. Если бы ты имел несколько женщин и разных, как у всех молодых людей высшего круга, никто бы не обращал внимания на еврейку. Да в конце концов, что они ей сделали дурного? Ничего. Напротив, какой-то жрец защитил ее от разъяренной толпы головорезов, которых ты соблаговолил потом освободить из тюрьмы.
– А моя мать? – перебил его наследник.
Тутмос рассмеялся.
– Твоя досточтимая матушка любит тебя, как свои глаза и сердце. Но, по правде говоря, ей тоже не нравится Сарра. Знаешь, что сказала мне однажды царица?… Чтобы я отбил у тебя Сарру!.. Вот ведь какую придумала шутку!.. Я ответил ей тоже шуткой: «Рамсес подарил мне свору гончих и двух сирийских лошадей, когда они ему надоели. Пожалуй, он когда-нибудь отдаст мне и свою любовницу, которую я должен буду принять от него, да еще, возможно, с некоторым приложением».
– Напрасно ты так думаешь. Я теперь не расстанусь с Саррой – и именно потому, что из-за нее отец не назначил меня своим наместником.
Тутмос покачал головой.
– Ты сильно ошибаешься, – возразил он, – так ошибаешься, что меня это даже пугает. Неужели ты действительно не знаешь истинной причины немилости фараона, которая известна всякому здравомыслящему человеку в Египте?
– Ничего не знаю.
– Тем хуже, – проговорил в смущении Тутмос. – Разве тебе не известно, что со времени маневров солдаты, особенно греки, во всех кабачках пьют за твое здоровье?…
– Для того они и получили деньги.
– Да, но не для того, чтобы орать во всю глотку, что когда ты после его святейшества – да живет он вечно! – вступишь на престол, ты начнешь большую войну, в результате которой в Египте произойдут перемены. Какие перемены?… И кто при жизни фараона смеет говорить о планах его наследника?…
Наследник нахмурился.
– Это одно, а теперь скажу тебе и другое, – продолжал Тутмос, – так как зло, как гиена, никогда не ходит в одиночку. Ты знаешь, что крестьяне поют песни про то, как ты освободил из тюрьмы нападавших на твой дом, и, что еще хуже, говорят, что когда ты вступишь на престол, то снимешь с простого народа налоги. А ведь известно, что всякий раз, как среди крестьян начинались разговоры о притеснениях и налогах, дело кончалось мятежом. И тогда или внешний враг вторгался в ослабленное государство, или Египет распадался на столько частей, сколько в нем было номархов… Сам посуди, наконец, подобающее ли это дело, чтобы в Египте чье-нибудь имя произносилось чаще, чем имя фараона, и чтобы кто-нибудь становился между народом и нашим повелителем. А если ты мне разрешишь, я расскажу тебе, как смотрят на это жрецы.
– Разумеется, говори…
– Так вот, один премудрый жрец, наблюдающий с пилонов храма Амона движение небесных светил, рассказал такую притчу: «Фараон – это солнце, а наследник престола – луна. Когда луна следует за лучезарным богом поодаль, бывает светло днем и светло ночью. Когда же луна слишком близко подходит к солнцу, тогда она теряет свое сияние и ночи бывают темные. А если случается так, что луна становится впереди солнца, тогда наступает затмение и во всем мире переполох».
– И вся эта болтовня, – перебил Рамсес, – доходит до ушей царя? Горе мне! Лучше бы мне не родиться сыном фараона!..
– Фараон, будучи богом на земле, знает все. Однако он слишком велик, чтобы обращать внимание на пьяные выкрики солдатни или на ропот мужиков. Он знает, что каждый египтянин отдаст за него жизнь, и ты – первый.
– Верно! – ответил огорченный царевич. – Но во всем этом я вижу лишь новые козни жрецов, – прибавил он, оживляясь. – Значит, я затмеваю величие нашего владыки тем, что освобождаю невинных из тюрьмы или не позволяю своему арендатору вымогать у крестьян незаконные подати? А то, что достойнейший Херихор управляет армией, назначает военачальников и ведет переговоры с чужеземными князьями, а отца заставляет проводить дни в молитвах…
Тутмос зажал уши и затопал ногами.
– Замолчи! Замолчи!.. Каждое твое слово – кощунство. Государством управляет только царь, и все, что творится на земле, совершается по его воле. Херихор же слуга фараона и делает то, что повелевает ему владыка. Когда-нибудь ты сам убедишься в этом (пусть никто не поймет моих слов в дурном смысле!).
Лицо царевича так омрачилось, что Тутмос поспешил проститься с другом.
Усевшись в лодку с балдахином и занавесками, он облегченно вздохнул, выпил добрый кубок вина и предался размышлениям.
«Ух!.. Слава богам, что у меня не такой характер, как у Рамсеса, – думал он. – Это самый несчастный человек, несмотря на то что так высоко вознесен судьбой… Он мог бы обладать красивейшими женщинами Мемфиса, а остается верен одной, чтобы досадить матери! Но досаждает не царице, а всем добродетельным девам и верным женам, которые сохнут от огорчения, что наследник престола, и к тому же такой красавец, не посягает на их добродетель и не принуждает их к неверности. Он мог бы не только пить лучшие вина, но даже купаться в них, а между тем предпочитает простое солдатское пиво и сухую лепешку, натертую чесноком. Откуда у него эти мужицкие вкусы? Непонятно! Уж не загляделась ли царица Никотриса некстати на обедающего батрака?…
Он мог бы с утра до вечера ничего не делать. Всякие знатные господа, их жены и дочки готовы кормить его с ложечки, как ребенка. А он не только сам протягивает руку, чтобы взять себе поесть, но, к великому огорчению всех молодых дворян, сам моется, сам одевается, а его парикмахер от безделья все дни напролет ловит силками птиц, зарывая в землю свой талант. – О Рамсес, Рамсес!.. – горестно вздыхал щеголь. – Ну разве при таком царевиче может развиваться мода?… Из года в год носим мы все такие же передники, а парик удерживается только благодаря придворной знати, так как Рамсес совсем отказался от него, и это весьма умаляет достоинство благородной знати.
А всему виною… брр… проклятая политика… Какое счастье, что мне не надо гадать, о чем думают в Тире или Ниневии, заботиться о жалованье войскам, высчитывать, на сколько прибавилось или убавилось население в Египте и какие можно собрать с него налоги! Страшное дело говорить себе: мои крестьяне платят мне не столько, сколько мне надо или сколько я расходую, а сколько позволяет разлив Нила. Ведь кормилец наш Нил не спрашивает у моих кредиторов, сколько я им должен…»
Так размышлял утонченный Тутмос, то и дело подкрепляясь золотистым вином. И, пока лодка доплыла до Мемфиса, его сморил такой глубокий сон, что рабам пришлось нести его до носилок на руках.
После его ухода, который похож был скорее на бегство, наследник престола глубоко задумался. Его охватило тревожное чувство. Как воспитанник жреческой школы и представитель высшей аристократии, царевич был скептиком. Он знал, что в то время как одни жрецы умерщвляют свою плоть и постятся, надеясь обрести умение вызывать духов, другие считают это пустой выдумкой и шарлатанством. Он не раз видел, как священного быка Аписа, перед которым падает ниц весь Египет, колотили палкой самые низшие жрецы, задававшие ему корм и подводившие к нему коров для случки.
Понимал он также, что отец его, Рамсес ХII, который был для народа вечно живым богом и всемогущим повелителем мира, в действительности такой же человек, как и все, – только он больше хворает, чем другие люди его возраста, и очень связан в своих действиях жрецами.
Все это знал царевич и над многими вещами подтрунивал про себя, а иногда и вслух. Но его вольнодумство склонялось перед непреложной истиной: шутить с именем фараона никому нельзя!..
Царевич знал историю своей страны и помнил, что в Египте знатным и сильным прощалось многое. Знатный господин мог засыпать канал, убить тайно человека, посмеиваться втихомолку над богами, принимать подношения от чужеземных послов… Но что не допускалось ни под каким видом, так это разоблачение жреческих тайн и измена фараону. Тот, кто совершал то или другое, исчезал бесследно, иногда и не сразу, а спустя целый год, хотя бы его и окружали многочисленные друзья и слуги. О том, куда он девался и что с ним случалось, никто не смел и спрашивать.
С некоторых пор Рамсес понял, что солдаты и крестьяне, превознося его имя и толкуя о каких-то его планах, предстоящих переменах и будущих войнах, оказывают ему дурную услугу. Ему казалось, что безыменная толпа нищих и бунтовщиков насильно поднимает его, наследника престола, на вершину высочайшего обелиска, откуда он может только упасть и разбиться насмерть. Когда-нибудь впоследствии, когда после долгой жизни отца он станет фараоном, он будет обладать и правом и средствами совершать такие дела, о которых никто в Египте не смеет даже подумать. А сейчас ему действительно следует остерегаться, как бы его не сочли бунтовщиком, посягающим на основы государства.
В Египте существует один признанный повелитель – фараон. Он управляет, он высказывает желания, он думает за всех, и горе тому, кто осмелился бы сомневаться в его всемогуществе либо говорить о своих планах и намерениях и даже о возможности каких бы то ни было перемен.
Все планы возникали лишь в одном месте – в зале, где фараон выслушивал своих ближайших советников и высказывал свое мнение. Всякие перемены исходили только оттуда. Там горел единственный зримый светоч государственной мудрости, озаряющей весь Египет. Но и об этом безопаснее было молчать.
Эти мысли с быстротой вихря проносились в голове наследника, когда он сидел в саду Сарры на каменной скамье под каштановым деревом и смотрел на окружающий ландшафт.
Воды Нила уже начинали спадать и становились прозрачными, как хрусталь. Но вся страна еще была похожа на большой залив, густо усеянный островками, где виднелись дома, окруженные садами и огородами, или купы высоких раскидистых деревьев.
Вокруг этих островков торчали журавли с ведрами, при помощи которых обнаженные меднокожие люди в грязных набедренниках и чепцах черпали воду из Нила и передавали ее все выше и выше в расположенные один над другим водоемы.
Одна картина особенно привлекла внимание Рамсеса. Это был крутой холм, на склоне которого работали три журавля – один черпал воду из реки и переливал ее в самый нижний водоем. Другой из нижнего поднимал ее на несколько локтей выше в средний, третий из среднего передавал воду в водоем, расположенный на самой вершине. А там такие же голые люди черпали воду и поливали огороды или с помощью ручных насосов опрыскивали деревья.
Движения то спускающихся, то поднимающихся вверх журавлей, мелькание ведер, струи, выбрасываемые насосами, были до того ритмичны, что управляющих ими людей можно было принять за автоматы. Никто не обмолвится словом с соседом, не переменит места и только мерно сгибается и разгибается с утра до вечера, из месяца в месяц, и так – с детства до самой смерти. «И эти существа, – размышлял царевич, глядя на работающих земледельцев, – хотят сделать меня исполнителем своих бредней. Каких перемен могут они требовать в государстве?… Разве чтобы тот, кто черпает воду в нижний водоем, перешел наверх и, вместо того чтобы поливать гряды из ведра, стал обрызгивать деревья из насоса?»
Его охватила ярость против этих людей: из-за их дурацкой болтовни он не был назначен наместником.
Вдруг он услышал тихий шорох деревьев, и чьи-то нежные руки легли на его плечи.
– Что ты, Сарра? – спросил царевич, не поворачивая головы.
– Ты грустишь, господин мой. Моисей не так обрадовался земле обетованной, как я, когда ты сказал, что переезжаешь сюда, чтобы жить со мной. И вот уже целые сутки мы вместе, а я еще не видела улыбки на твоем лице. Ты даже не говоришь со мной, ходишь хмурый и ночью не ласкаешь меня, а только вздыхаешь.
– Я очень огорчен…
– Поделись со мной. Печаль – как сокровище, данное нам на хранение. Пока стережешь его один, даже сон бежит от глаз, и только тогда становится легче, когда найдешь себе товарища.
Рамсес обнял ее и посадил рядом с собой на скамейку.
– Когда крестьянин, – сказал он с улыбкой, – не успеет до разлива убрать с поля урожай, ему помогает жена. Она же поит коров, носит ему обед из дому, обмывает его, когда он возвращается с работы. Отсюда и создалось представление, что женщина может облегчить мужчине заботы.
– А ты в это не веришь, господин?
– Заботы наследника престола, – ответил Рамсес, – не в силах облегчить женщина, даже такая умная и властная, как моя мать…
– О господи! Какие же это заботы, скажи мне, – не отставала Сарра, прижимаясь к плечу наследника. – По нашим преданиям Адам ради Евы покинул рай; а это был, пожалуй, самый великий царь самого прекрасного царства.
Царевич задумался. Потом сказал:
– И наши мудрецы учат, что не один мужчина отказывался от высоких почестей ради женщины. Но не слышно, чтобы кто-нибудь благодаря женщине возвысился. Разве какой-нибудь военачальник, которому фараон отдал дочь с богатым приданым и наградил высокой должностью. Нет, помочь мужчине стать великим или хотя бы вырваться из сетей забот женщина не в силах.
– Может быть, потому что ни одна не любит так, как я тебя, господин мой, – прошептала Сарра.
– Я знаю, что такая любовь встречается редко… Ты никогда не требовала подарков, не покровительствовала людям, которые не стесняются искать карьеры даже в спальнях великокняжеских любовниц. Ты кротка, как овечка, и тиха, как ночь над Нилом. Поцелуи твои – как благовония страны Пунт, а объятия сладки, как сон утомленного трудом человека. Ты – чудо среди женщин, так как уста их всегда наполняют мужчину тревогой, а любовь обходится дорого. Но, при всех своих совершенствах, чем можешь ты облегчить мои заботы? Можешь ли ты сделать так, чтобы царь предпринял большой поход на Восток и назначил меня главнокомандующим, или дал мне хотя бы корпус Менфи, которого я добивался, или сделал меня правителем Нижнего Египта? И можешь ли ты внушить всем подданным царя, чтобы они думали и чувствовали, как я, самый преданный ему?
Сарра опустила руки на колени и печально прошептала:
– Правда, этого я не могу… Я ничего не могу!..
– Нет, ты можешь многое!.. Можешь развеселить меня, – ответил, улыбаясь, Рамсес. – Я знаю, что ты училась танцевать и играть. Сбрось свое платье, длинное, как у жрицы, охраняющей огонь, переоденься в прозрачную кисею, как… финикийские танцовщицы. И танцуй, ласкай меня, как они…
Сарра схватила его за руку и с пылающими глазами воскликнула:
– Ты знаешься с этими распутницами? Скажи… Пусть я услышу о своем несчастье… А потом отошли меня к отцу в нашу долину среди пустыни, где я встретила тебя на свое горе.
– Успокойся, – сказал царевич, играя ее волосами. – Мне приходится видеть танцовщиц если не на пирушках, то на царских торжествах или во время молебствий в храмах. Но все они вместе не стоят тебя одной… Да и кто из них мог бы сравниться с тобой? Ты как статуя Исиды… изваянная из слоновой кости, а у тех у каждой какой-нибудь недостаток. Одни слишком толсты, у других слишком худые ноги или безобразные руки, а есть и такие, что носят чужие волосы. Нет ни одной, которая была бы так прекрасна, как ты!.. Будь ты египтянкой – все храмы добивались бы иметь тебя предводительницей хора. Да что я говорю – если бы ты сейчас появилась в Мемфисе в прозрачном платье, жрецы примирились бы с тобой, только бы ты согласилась участвовать в процессиях.
– Нам, дочерям Иудеи, нельзя носить нескромные одежды.
– И ни танцевать, ни петь? Зачем же ты училась этому?
– Наши женщины и девушки танцуют только друг с другом во славу господа, а не для того, чтобы возбуждать в сердцах мужчин пламя страсти. А поем мы… Подожди, господин мой, я спою тебе…
Она встала со скамейки, ушла в дом и вскоре вернулась обратно. За ней молодая девушка с испуганными черными глазами несла арфу.
– Кто эта девушка? – спросил царевич. – Погоди, где-то я видел этот взгляд… Ах да, когда я был здесь в последний раз, чьи-то испуганные глаза следили за мной из-за кустов.
– Это Эсфирь, моя родственница и прислужница. Она живет у меня уже месяц, но боится тебя, господин, и всегда убегает. Возможно, что она когда-нибудь и смотрела на тебя из-за кустов.
– Можешь идти, дитя мое, – сказал царевич остолбеневшей от робости девушке. Когда же она скрылась за деревьями, спросил: – Она тоже еврейка? А этот сторож твоей усадьбы, который смотрит на меня, как баран на крокодила?
– Это Самуил, сын Ездры, тоже мой родственник. Я взяла его вместо негра, которого ты, господин, отпустил на свободу. Ты ведь разрешил мне самой выбирать слуг?
– О да, конечно! А надсмотрщик над рабочими? У него тоже желтый цвет кожи, и глядит он смиренно, как ни один египтянин. Он тоже еврей?
– Это Езекиил, сын Рувима, родственник моего отца, – ответила Сарра. – Тебе он не нравится, господин мой?… Это все очень преданные тебе слуги.
– Нравится ли он мне? Он здесь не для того, чтобы мне нравиться, а чтоб охранять твое добро, – отвечал царевич, барабаня пальцами по скамье. – Впрочем, мне нет никакого дела до этих людей… Пой, Сарра…
Сарра опустилась на траву у его ног и, взяв несколько аккордов на арфе, запела:
– Где тот, у кого нет тревог, кто, отходя ко сну, мог бы сказать: «Вот день, который я провел без печали»? Где человек, который, сходя в могилу, сказал бы: «Жизнь моя протекла без забот и страдании, как тихий вечер над Иорданом»?
А как много таких, что каждый день поливают хлеб свой слезами и дом их полон воздыханий!
С плачем вступает в мир человек, со стоном покидает он землю. Исполненный страха входит он в жизнь, исполненный горечи нисходит в могилу, и никто не спрашивает его, где бы он хотел остаться.
Где тот, кто не изведал горечи жизни? Быть может, ребенок, которого смерть лишила матери? Или младенец, не знающий материнской груди, ибо голод иссушил ее раньше, чем он успел прильнуть к ней устами?
Где человек, уверенный в себе, который без страха ждет завтрашнего дня? Не тот ли, что работает в поле, зная, что не в его власти дождь и не он указывает дорогу саранче? Не купец ли, отдающий свои богатства на волю ветров, не зная, откуда они подуют, и жизнь доверяющий слепой пучине, которая все поглощет без возврата?
Где человек без тревоги в душе? Не охотник ли, преследующий быстроногую лань и встречающий на своем пути льва, для которого его стрела – игрушка? Или солдат, что, в трудах и лишениях шествуя к славе, встречает лес острых копий и бронзовых мечей, жаждущих крови? Или великий царь, что под порфирой носит тяжелые доспехи, недремлющим оком следит за войсками могучих соседей, а ухом ловит каждый шорох, дабы у него же в шатре не сразила его измена?
Всегда и повсюду исполнено печали сердце человека. В пустыне угрожают ему лев и скорпион, в пещерах – дракон, между цветами – ядовитая змея. При свете солнца жадный сосед замышляет, как бы отнять у него землю, ночью коварный вор нащупывает дверь в его кладовую. В детстве он беспомощен, в старости бессилен, в цвете лет окружен опасностями, как кит водною бездной.
Потому, о Господь, создатель мой, к тебе обращается исстрадавшаяся душа человека. Ты ее послал в этот мир, где столько засад и сетей. Ты вселил в нее страх смерти, ты преградил все пути к покою, кроме одного, который ведет к тебе. Как дитя, не умеющее ходить, хватается за подол матери, чтобы не упасть, так жалкий человек взывает к твоему милосердию и обретает успокоение…
Сарра умолкла. Царевич задумался и немного погодя сказал:
– Вы, евреи, мрачный народ. Если б в Египте так верили, как учит ваша песня, на берегах Нила замер бы смех, богатые попрятались бы в подземельях храмов, а народ, вместо того чтобы работать, укрылся бы в пещерах и тщетно ждал бы там милости богов. У нас другая жизнь. Мы всего можем достичь, но каждый должен надеяться лишь на себя. Наши боги не помогают трусам. Они спускаются на землю лишь тогда, когда герой, отважившийся на сверхчеловеческий подвиг, исчерпает все свои силы. Так было с Рамсесом Великим, когда он бросился в гущу вражеских колесниц, – их было две с половиною тысячи и в каждой по три воина. Лишь тогда бессмертный отец Амон пришел ему на помощь и довершил разгром. А если б, вместо того чтобы драться, он стал ожидать помощи вашего бога, тогда на берегах Нила египтянин давно ходил бы лишь с ведром и глиной, а презренные хетты – с папирусами и дубинками! Поэтому, Сарра, твоя красота скорее, чем твоя песнь, рассеет мою тоску. Если бы я вел себя, как еврейские мудрецы, и дожидался защиты неба, вино убегало бы от уст моих и женщины забыли бы дорогу к моему дому. А главное – я не был бы наследником фараона так же, как мои сводные братья, из которых один не может пройти через комнату, не опираясь на двух рабов, а другой прыгает по деревьям!..
Глава XV
На следующее утро Рамсес послал своего негра с поручениями в Мемфис, и к полудню к хутору Сарры причалила большая лодка с греческими солдатами в высоких шлемах и блестящих доспехах.
По команде шестнадцать человек, вооруженных щитами и короткими копьями, высадились на берег и построились в две шеренги. Они собирались уже двинуться к дому Сарры, как их остановил второй посланец царевича; он приказал солдатам остаться на берегу и вызвал к наследнику престола только начальника их, Патрокла.
Отряд, повинуясь команде, стоял неподвижно, словно два ряда колонн, обитых блестящей жестью. За посланным пошел только Патрокл, в шлеме с перьями и пурпурной тунике, в золоченых латах, украшенных на груди изображениями женской головы с клубком змей вместо волос.
Наследник принял славного генерала в воротах сада. Он не улыбнулся, как всегда, даже не ответил на низкий поклон Патрокла, а, холодно взглянув на него, сказал:
– Передай, достойнейший, солдатам моих греческих полков, что я не буду производить с ними учений, пока царь, наш повелитель, вторично не назначит меня их начальником. Они лишились этой чести, когда спьяну вздумали кричать обо мне в кабаках то, что я считаю для себя оскорблением. Обращаю также твое внимание на недопустимую распущенность греческих полков. Твои солдаты в общественных местах болтают о политике, о какой-то предполагаемой войне, что похоже на государственную измену. О таких делах могут говорить только фараон и члены государственного совета. Мы же, солдаты и слуги нашего повелителя, какое бы положение ни занимали, обязаны только молча исполнять приказы всемилостивейшего властелина. Прошу тебя, достойнейший, передать это моим полкам и желаю тебе здравствовать!
– Приказание твое будет исполнено, – ответил грек и, повернувшись на месте, звеня оружием, направился к своей лодке.
Он знал о разговорах солдат в харчевнях и сразу понял, что случилось что-то неприятное для наследника престола, которого армия обожала. Поэтому, подойдя к отряду, стоявшему на берегу, он придал своему лицу грозное выражение и, неистово размахивая руками, крикнул:
– Доблестные греческие солдаты! Собаки паршивые, чтоб вас источила проказа!.. Если с этой минуты кто-нибудь из греков произнесет в кабаке имя наследника престола, я разобью кувшин об его голову, а черепки всажу ему в глотку – и вон из полка! Будете свиней пасти у египетских мужиков, а в ваши шлемы куры станут яйца класть. Такая судьба ждет безмозглых солдат, не умеющих держать язык за зубами. А теперь – налево кругом и марш в лодку, чтоб вас мор истребил! Солдат царя должен прежде всего пить за здоровье фараона и благороднейшего военного министра Херихора – да живут они вечно!
– Да живут вечно! – повторили солдаты.
Все сели в лодку хмурые. Однако, подъезжая к Мемфису, Патрокл расправил морщины на лбу и велел запеть песню, под которую особенно легко шагалось и особенно бойко ударяли о воду весла. Это была песня про дочь жреца, которая так любила военных, что клала в свою постель куклу, а сама проводила все ночи с часовыми в караульной.
Под вечер к хутору Сарры причалила другая лодка, из которой вышел на берег главный управляющий поместьями Рамсеса.
Царевич и этого вельможу принял в воротах сада – может быть, из строгости, а может быть, не желая, чтоб тот заходил в дом к наложнице-еврейке.
– Я хотел, – заявил наследник, – повидать тебя и сказать, что среди моих крестьян ходят какие-то нелепые россказни о снижении податей или о чем-то в этом роде… Надо, чтобы крестьяне знали, что я их от податей не избавлю. Если же кто-нибудь, несмотря на предупреждение, не перестанет болтать об этом, – будет наказан палками.
– Может быть, лучше брать с них штраф… дебен или драхму, как прикажешь? – вставил главный управляющий.
– Может быть… Пусть платят штраф, – ответил царевич после минутного раздумья.
– А не наказать ли самых строптивых палками, чтобы лучше помнили милостивый приказ?
– Можно. Пусть строптивых накажут палками.
– Осмелюсь доложить, – проговорил шепотом, не разгибая спины, управляющий, – что одно время крестьяне, подстрекаемые каким-то неизвестным, действительно говорили о снятии налогов. Но вот уже несколько дней, как эти разговоры вдруг прекратились.