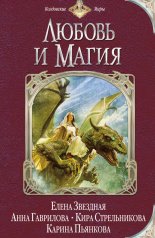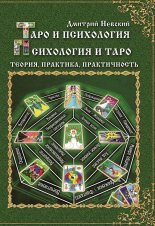Мои странные мысли Памук Орхан

– Делаю уже пять лет, и к тому же заготовку для нее производят в Эскишехире, – сказал Мевлют. – Но я раньше покупал сырье, самое лучшее, которое было в лавке «Вефа», затем его обрабатывал, добавлял собственные приправы.
– То есть ты дома просто насыпаешь в нее сахара?
– Буза может быть и сладкой, и кислой.
– Да ладно, ну что ты такое говоришь! Буза бывает только кислой, а кислоту ей придает закваска.
– А в бузе есть спирт? – спросила одна из женщин.
– Девочка, ну ты совсем ничего не знаешь! – воскликнул один из мужчин. – Буза – это напиток Османов, у которых спирт и вино были под запретом. Мурад Четвертый по ночам переодевался и ходил по городу, приказывая закрыть не только пивные, не только кофейни, но и лавки, где торговали бузой.
– А почему он приказывал закрыть кофейни?
Начался пьяный спор, который Мевлют привык видеть у припозднившихся гуляк и в пивных. На мгновение о нем забыли.
– Вот, торговец, скажи – есть в бузе алкоголь?
– В бузе алкоголя нет, – соврал Мевлют. Его отец всегда отвечал именно так.
– Как это нет, торговец? В бузе есть алкоголь, но его очень мало. В османские времена некоторые богомольцы, которым хотелось расслабиться, именно поэтому и твердили, что в бузе алкоголя нет, а сами со спокойным сердцем выпивали по десять стаканов. Но во времена республики, когда Ататюрк[8] разрешил пить ракы и вино, торговля бузой, в которой не осталось смысла, сразу прекратилась. Это случилось еще семьдесят лет назад.
– Может, вернутся исламские запреты и вернется буза, – сказал Мевлюту пьяный человек с тонким носом, бросая на него провокационные взгляды.
– В бузе алкоголя нет, – повторил Мевлют как ни в чем не бывало. – Если бы он там был, я бы ее не продавал.
– Смотри, видишь, вот человек верующий, не то что ты, – сказал один из мужчин тонконосому.
– Ты говори за себя. Я все про свою веру знаю и ракы пью, когда хочу, – ответил тот. – Торговец, а ты что, боишься, раз говоришь, что в бузе алкоголя нет?
– Я не боюсь никого, кроме Аллаха, – ответил Мевлют.
– Вай, ты слышал его ответ?
– Ты что, не боишься по ночам на улицах собак, грабителей?
– Бедный разносчик бузы никому не нужен, – с улыбкой отвечал Мевлют. – Он не нужен ни грабителям, ни разбойникам, ни ворам. Я уже двадцать пять лет занимаюсь этим делом. Меня еще ни разу не ограбили. Разносчика бузы уважают все.
– За что?
– За то, что буза – это то, что осталось нам от прошлого, от наших предков. В наше время на улицах Стамбула не насчитается и сорока разносчиков бузы. Очень мало кто, как вы, покупает ее. Но многие, когда слышат голос торговца, вспоминают прошлое и радуются. Вот что позволяет торговцу бузой жить, и вот что делает его счастливым.
– А ты что, святоша?
– Да, я боюсь Аллаха, – ответил Мевлют, прекрасно зная, что эти слова их напугают.
– А ты любишь Ататюрка?
– Гази Мустафа Кемаль-паша в тысяча девятьсот двадцать втором году был у нас, в Акшехире, – сказал Мевлют. – После этого он отправился в Анкару, создал там республику и в конце концов в один прекрасный день приехал в Стамбул, где остановился на Таксиме в Парк-отеле. Однажды выглядывает он из окна и замечает, что за окном и шумно, и весело, но чего-то не хватает. Он спрашивает у своего адъютанта, в чем дело, а тот ему отвечает: «Паша, мы запретили всем уличным торговцам появляться на улицах, чтобы не прогневать вас. Потому что в Европе такого нет». В ответ на это Ататюрк очень рассердился. «Уличные торговцы как соловьи для улиц, они – радость и жизнь Стамбула. Вы ни в коем случае не должны их запрещать». С того самого дня в Стамбуле разрешено совершенно свободно торговать на улицах.
– Слава Ататюрку, – сказала одна из женщин.
Некоторые из сидевших за столом повторили за ней: «Слава Ататюрку». Мевлют повторил вслед за ними.
– Хорошо, а если к власти придут исламисты, разве Турция не уподобится Ирану?
– Армия не позволит этим исламистам ничего делать. Военные устроят переворот, закроют их партию, бросят всех в тюрьму. Разве не так, торговец?
– Я маленький человек, – ответил Мевлют. – Меня политика не касается. Политика – это дело больших людей.
Сидящие возбужденно загалдели.
– Торговец, я думаю точно так же, как и ты. Я боюсь только Аллаха и тещу.
– Послушай, торговец, а у тебя теща есть?
– К сожалению, я с ней так и не познакомился.
– А как же ты женился?
– Мы с женой влюбились друг в друга и сбежали. На такое не каждый способен.
– А как вы познакомились?
– На свадьбе у родственников. Я три года писал ей письма.
– Молодец, торговец, а ты парень не промах.
– А что сейчас твоя ханым делает?
– Занимается работой по дому. Это трудно, и на такое не каждая женщина способна.
– Торговец, если мы выпьем твоей бузы, мы опьянеем еще больше?
– От моей бузы никто не пьянеет, – сказал Мевлют. – Вас восемь человек, наливаю вам два литра.
Он вернулся на кухню, налил в стаканы бузу, отсыпал жареный нут и корицу, а затем пересчитывал деньги. Затем Мевлют решительно попрощался со всеми и надел ботинки, словно его ждали другие клиенты и он вынужден торопиться.
– Торговец, на улице дождь и грязь, береги себя! – прокричали ему вслед. – Хорошей торговли, чтоб на тебя никогда ни воры, ни собаки не нападали!
– Торговец, приходи к нам еще! – крикнула одна из женщин.
Мевлют прекрасно знал, что на самом деле они больше не захотят бузы: они позвали его только ради того, чтобы развлечься. Уличный холод освежил Мевлюта.
– Бууузаа!
За двадцать пять лет он повидал много людей, подобных этим людям, слышал эти вопросы тысячи раз и уже привык к ним. В конце 1970-х он множество раз видел подобные пьяные застолья: его расспрашивали о жизни картежники, сводники, жиголо, проститутки. Мевлют умел быстро завершать с ними свои дела и, не теряя времени, вновь оказываться на улице.
Впрочем, в последнее время его редко приглашали войти в дом, присоединиться к застолью. Двадцать пять лет назад почти каждый покупатель зазывал его к себе. Очень многие спрашивали: «Не мерзнешь ли ты, ходишь ли по утрам в школу, хочешь ли ты чая?» Некоторые звали его в гостиную и даже сажали за стол. Но он торопливо уходил, не успевая насладиться этими приглашениями и заботой, так как тогда у него было много работы и он постоянно был занят тем, что доставлял клиентам их заказы. В прежние времена горожане редко вели подобные пьяные беседы. Не то что сейчас! Его приятель Ферхат полушутя-полусерьезно говаривал ему: «Скажи мне, если люди пьют текелевскую ракы в сорок пять градусов всей семьей, то зачем им твоя трехградусная буза? Это дело давно устарело, брось ты его, ради Аллаха, Мевлют. Теперь этим людям твоя буза не нужна, чтобы напиться».
Мевлют свернул на тихие улочки, спускавшиеся к Фындыклы, быстро налил пол-литра бузы постоянному клиенту и, выходя из здания, в тени дома напротив заметил две подозрительные тени.
Повинуясь интуиции, через какое-то время он обернулся и мгновенно убедился в том, что два подозрительных типа идут следом за ним. Он два раза сильно, два раза слабо тряхнул колокольчиком, который держал в руках, и вновь прокричал: «Буза!» Он решил быстро спуститься по лестнице, а затем вновь подняться уже по другой лестнице в Джихангир и, срезая путь, отправиться домой.
Когда он спускался, один из преследователей окликнул его:
– Торговец, торговец, постой-ка!
Мевлют сделал вид, что не слышит. Торопливыми шагами, сжимая шест на плечах, он продолжил осторожно спускаться. В том месте, куда не доставал свет фонарей, ему пришлось сбавить скорость.
– Торговец, мы же сказали тебе – постой! Что мы, враги тебе? Мы хотим купить бузы.
Мевлюту стало стыдно из-за собственной трусости, и он остановился. Пролет лестницы, на котором он стоял, был довольно темным из-за того, что финиковое дерево закрывало его от света фонаря. Тем летом, когда он украл Райиху и торговал мороженым, в этом месте он на ночь оставлял свою трехколесную тележку.
– Сколько стоит твоя буза? – развязным тоном спросил один из спускавшихся за ним.
Теперь все трое стояли под финиковым деревом в темноте. Обычно тот, кому хотелось бузы, спрашивал цену, однако спрашивал он ее, как правило, тихо и вежливо, не с таким вызовом. Мевлют всерьез забеспокоился. Он назвал цену вполовину меньше обычной.
– Ух ты, как дорого! – сказал один из мужчин, тот, что был крупнее. – Ну-ка, дай-ка нам два стаканчика. Надо же, какие ты деньги зарабатываешь.
Мевлют опустил на землю свои бидоны, вытащил из кармана передника большой пластмассовый стакан, налил бузы и протянул стакан второму человеку, который был меньше и моложе.
– Пожалуйста.
– Спасибо.
Когда Мевлют наливал второй стакан, он уже испытывал почти что чувство вины из-за повисшего странного молчания. Крупный это тоже почувствовал.
– Ты куда-то бежишь, торговец. Что, у тебя так много работы с твоей бузой?
– Нет, – покачал головой Мевлют. – Работы очень мало. Таких клиентов, как раньше, больше нет. Никто теперь не покупает бузу. Я сегодня и выходить-то не собирался, но дома у меня болеют дочери, нужно заработать денег на суп.
– А сколько ты зарабатываешь за день?
– Говорят, нельзя спрашивать женщину о возрасте, а мужчину – о зарплате, – ответил Мевлют, протягивая крупному незнакомцу стакан бузы. – Скажу одно: иногда, как сегодня, возвращаюсь домой без денег.
– Ты не очень-то похож на того, кто голодает. Откуда ты?
– Я из Бейшехира.
– Сколько ты лет уже в Стамбуле?
– Двадцать пять!
– Ты живешь здесь уже двадцать пять лет и до сих пор говоришь, что ты из Бейшехира?
– Хотите корицы? – спросил Мевлют.
– Дай, пожалуй. Сколько стоит корица?
Посыпая корицей напиток в стаканах, Мевлют ответил: «Ну что вы, корица и жареный нут для наших клиентов бесплатно». Он вытащил из кармана два пакетика с жареным нутом. Вместо того чтобы отдать пакетики, как он обычно делал, он открыл их и, как внимательный официант, насыпал нут обоим в стаканы.
– Бузу лучше всего пить с жареным нутом, – проговорил он.
Те двое переглянулись и выпили стаканы до дна.
– Сегодня у нас был плохой день, так хотя бы ты для нас стараешься, – сказал тот, что был постарше.
Мевлют сообразил, к чему может привести продолжение, и перебил его:
– Если у вас нет денег, я могу взять их у вас потом, братцы! Если мы не будем помогать друг другу в эти трудные времена, то грош нам цена. Я угощаю вас.
С этими словами он взялся было за шест, собираясь улизнуть.
– Ну-ка, постой, торговец, – сказал крупный. – Мы же сказали, что сегодня ты для нас стараешься. Ну-ка, дай-ка нам все свои деньги.
– Братец, я же сказал, что сегодня у меня нет денег, – проговорил Мевлют. – Я сегодня продал всего-то пару стаканчиков одному-двум клиентам…
Второй, щуплый, мгновенно вытащил из кармана складной нож. Он нажал на кнопку, и нож с легким щелчком открылся. Он приставил острие ножа к животу Мевлюта. Тот, что был покрупнее, быстро встал за спиной Мевлюта и крепко схватил его за руки.
Щуплый, прижимая складной нож к животу торговца, другой рукой торопливо ощупал маленькие кармашки его передника и каждый уголок его пиджака. Все, что он находил, мелкие бумажные деньги и монеты, он тут же клал себе в карман. Мевлют разглядел, что этот человек очень молод и очень некрасив.
Но тут крупный ему сказал:
– Смотри себе под ноги, торговец. Ну, машаллах, денег у тебя оказалось много, так что ты не напрасно от нас бежал…
– Ну все, хватит! – перебил его Мевлют.
– Хватит? – хмыкнул молодой. – Ну какое там «хватит», ну конечно, не хватит. Ты тут двадцать пять лет назад приехал, город уже обобрал, а теперь будешь говорить, что хватит, да еще и указывать?
– А что у тебя есть в Стамбуле, дом, квартира, ну-ка, говори! – прорычал крупный.
– Видит Аллах, у меня даже дерева здесь своего нет, – соврал Мевлют. – У меня вообще ничего нет.
– Как это – нет? Ты что, дурак?
– Вот не повезло.
– Слышь, ты, каждый, кто двадцать пять лет назад приехал в Стамбул, себе уже хотя бы гедже-конду[9] построил. А теперь на их участках красуются большие дома.
Мевлют постарался вырваться, но это не привело ни к чему, кроме того, что нож уколол его в живот. Мевлюта обыскали с головы до ног еще раз, и весьма тщательно.
– Говори, ты дурак или просто дурачком прикидываешься?
Мевлют молчал. Тот, кто стоял у него за спиной, ловким опытным движением завернул ему левую руку за спину:
– О, посмотрите-ка на него, что здесь есть. Машаллах, ты деньги свои тратишь не на дом, не на баню, а себе на часы, дружок наш из Бейшехира! Теперь с тобой все понятно.
Часы швейцарской марки, которые подарили Мевлюту на свадьбу, в мгновение ока исчезли с его запястья.
– Разве разносчика бузы можно грабить? – воскликнул Мевлют.
– Конечно можно, – нагло ответил тот, кто держал его руки. – Ты тут голоса особенно не подавай и назад не смотри.
Оба грабителя удалялись. Мевлют понял, что это были отец с сыном. Он подумал о том, что никогда бы не смог со своим собственным отцом вот так запросто заниматься грабежом. Он тихонько спустился с лестницы, свернул в одну из улиц, поднимавшихся в сторону спуска Казанджи. Вокруг царило безмолвие, не было ни души. Что он скажет дома Райихе? Сможет ли он скрыть от всех то, что с ним произошло?
Ему подумалось, что ограбление было плодом его фантазии. Он ничего не скажет Райихе, ведь его никто не грабил. На несколько секунд он поверил было в это, и горечь обиды стихла. Он позвенел колокольчиком.
«Буза!» – хотел было привычно крикнуть он и тут же почувствовал, что не сможет издать ни звука.
Впервые за двадцать пять лет Мевлют возвращался домой с полными бидонами, не выкрикивая свое обычное «Буза!».
Как только он вошел в свою однокомнатную квартирку, то по царившей внутри тишине понял – обе его дочки-школьницы уже давно спят.
Райиха сидела на краю постели, рукодельничала, краем глаза глядя в телевизор с выключенным звуком, и ждала Мевлюта.
– Все, я больше не торгую бузой, – сказал Мевлют.
– С чего это? – удивилась Райиха.
– Я бросил торговлю бузой, говорю тебе.
– Ферхат работает инспектором по электроснабжению и много зарабатывает, – сказала Райиха. – Позвони ему, пусть найдет тебе работу.
– Умру, но Ферхату не позвоню, – сказал Мевлют.
Часть III
(Сентябрь 1968 – июнь 1982)
Мой отец ненавидел меня с того дня, как я появился на свет…
Стендаль. Красное и черное
1. Дни Мевлюта в деревне
Если бы мир умел говорить, что бы он рассказал?
Теперь, чтобы понять, почему Мевлют принял именно такое решение, почему был так привязан к Райихе и почему боялся собак, мы вернемся в его детство. Мевлют появился на свет в 1957 году в деревне Дженнет-Пынар под городком Бейшехир провинции Конья и до двенадцати лет из своей деревни никуда не выезжал. Окончив с отличием начальную школу, он думал, что отправится продолжать учебу и работу к отцу в Стамбул, но отец не пожелал видеть его у себя, и до осени 1968 года Мевлют прожил в деревне, устроившись пастухом. До конца дней своих предстояло Мевлюту задаваться вопросом, почему его отец принял подобное решение. Его друзья, двоюродные братья Сулейман с Коркутом, в Стамбул уехали, а Мевлют остался один, отчего очень страдал. Он пас у холма небольшую отару – голов на восемь – десять. Каждый день его проходил в созерцании бесцветного озера вдали, автобусов и грузовиков, проносившихся по шоссе, птиц да тополей.
Иногда он прислушивался к шороху тополиных листьев, и ему казалось, что деревья пытаются ему что-то сказать. Бывало, деревья показывали Мевлюту потемневшие на солнце листья, а бывало – пожелтевшие. Внезапно задувал легкий ветерок, и картина смешивалась: потемневшие листья светились желтым, пожелтевшие мелькали темно-изумрудными краями.
Главным его развлечением было собирать сухие ветки, складывать их в кучу, а затем разводить костер. Когда ветки занимались пламенем, его пес Камиль принимался радостно носиться вокруг костра. Мевлют садился и протягивал к огню руки, пес тоже садился поодаль и, замерев, долго смотрел на огонь.
Все собаки в деревне узнавали Мевлюта, и даже если самой темной и тихой ночью он выходил за окраину, ни одна из них не лаяла ему вслед. Мевлют из-за этого чувствовал себя частью деревни. Деревенские собаки лаяли только на чужаков. Если собака набрасывалась на кого-то из деревенских, например на его двоюродного брата Сулеймана, лучшего друга Мевлюта, то тогда все говорили: «Смотри, Сулейман, ты, видно, замыслил что-то недоброе, как-то ты хитришь!»
Сулейман. По правде, ни одна из деревенских собак никогда на меня не набрасывалась. Мы сейчас переехали в Стамбул, и мне жаль, что Мевлют остался там, в деревне, я скучаю по нему. Но деревенские собаки и ко мне, и к Мевлюту относились совершенно одинаково. Я это хотел сказать.
Иногда Мевлют и его пес Камиль взбирались на вершину холма. Когда Мевлют смотрел на бескрайний пейзаж, то в нем просыпалось желание жить, быть счастливым, занять важное место под солнцем. Он надеялся, что отец в конце концов приедет за ним на автобусе из Стамбула и увезет его с собой. Ручеек, у которого он оставлял пастись своих овец, извивался внизу, и каждый его изгиб обрамляли невысокие скалы. Иногда Мевлют видел дым от костра, зажженного на другом конце равнины. Он знал, что костер зажгли такие же, как он, юные пастухи из соседней деревни Гюмюш-Дере, которые, как и он, не смогли поехать на учебу в Стамбул. Когда бывало ветрено и ясно, особенно по утрам, с холма, на который поднимались Мевлют и Камиль, можно было разглядеть маленькие домики Гюмюш-Дере, выбеленную изящную мечеть с тонюсеньким минаретом.
Абдуррахман-эфенди. Я живу в той самой деревне, Гюмюш-Дере, и поэтому чувствую в себе смелость кое-что сказать. Большинство из нас, жителей Гюмюш-Дере, Дженнет-Пынар и еще трех окрестных деревень, в 1950-е годы были бедняками. Каждую зиму у нас накапливались долги бакалейщику, которые мы с большим трудом возвращали весной. В марте мужчины отправлялись на заработки, на стройку в Стамбул. У некоторых совершенно не было денег, и Кривой Бакалейщик покупал им билет на автобус до Стамбула, а их имена записывал в самое начало списка должников в тетрадку. Был такой рослый, широкоплечий Юсуф, который в 1954-м уехал в Стамбул из нашей Гюмюш-Дере и который до того уже работал на стройке в Стамбуле. Он случайно стал разносчиком йогурта и, обходя улицу за улицей с йогуртом, заработал очень много денег. Так что он перевез к себе на работу в Стамбул сначала своих братьев, затем дядей, которые поселились в его холостом жилище. Мы, жители Гюмюш-Дере, до того совершенно не смыслили в йогурте. Но большинство из нас поехали в Стамбул торговать йогуртом. Я уехал в Стамбул в двадцать два года, сразу после службы в армии. Признаться, я несколько раз нарушал там дисциплину, сбегал, меня ловили, колотили и сажали в тюрьму, и поэтому моя служба продлилась целых четыре года. В те времена наши доблестные офицеры еще не успели повесить премьер-министра Мендереса[10], и он каждый день то утром, то вечером разъезжал по Стамбулу на своем «кадиллаке», и все старинные особняки, преграждавшие ему путь, тотчас сносились, чтобы уступить место широким проспектам. У торговцев и разносчиков, бродивших по стамбульским улицам среди руин, было очень много работы, но у меня торговать йогуртом не получилось. Все, кто родом из наших мест, обычно рослые, широкоплечие, сильные. А ваш покорный слуга, иншаллах, уродился худым и щуплым. Шест разносчика с привязанными к обоим концам бидонами с йогуртом, каждый по двадцать-тридцать литров, которые нужно было носить с утра до вечера, казался мне невыносимо тяжелым. Кроме этого, я начал по вечерам торговать и бузой, подобно большинству торговцев йогуртом. Шест разносчика, что ни погрузи на него, на шее и плечах новичка оставляет мозоли. Проклятый шест обошелся со мной еще хуже, чем с другими, – у меня искривился позвоночник, и, когда я заметил это, пришлось отправиться в больницу. Я месяц провел в больничных очередях, и наконец доктор объявил мне, что следует немедленно забыть про шест. Но конечно же, из-за денег я немедленно забыл не про шест, а про доктора. Так моя спина искривилась совершенно, и приятели придумали мне кличку Горбун Абдуррахман, а я страшно из-за этого переживал. Теперь в Стамбуле я старался держаться подальше от наших деревенских, но по-прежнему видел на улицах этого психа Мустафу, отца Мевлюта, с его братом Хасаном, дядей Мевлюта. В те дни я и пристрастился к ракы, лишь бы забыть о терзавшей мою спину боли. Вскоре я совершенно забыл о своей мечте когда-нибудь обзавестись в Стамбуле домом (хотя бы каким-нибудь сараем гедже-конду) и мало-мальским имуществом – вместо этого принялся просаживать заработанное. На оставшиеся деньги в родной деревне я купил небольшой участок, а затем женился на самой бедной, самой безродной девушке Гюмюш-Дере. В Стамбуле я усвоил урок – для того чтобы задержаться там, человек должен привезти вместе с собой по меньшей мере трех сыновей. И я подумал, пусть у меня родится трое сильных, как львы, сыновей, я отправлюсь с ними в Стамбул, и на первом холме за чертой города построю свой собственный дом, и на этот раз завоюю город. Но в деревне у меня родились не три сына, а три дочери. А я сам два года назад навсегда вернулся в деревню, где очень счастлив с моими дочерьми. Сейчас я хочу вам их представить:
Ведиха. Мне хотелось, чтобы мой львенок-первенец был серьезным и работящим и чтобы его звали Ведии. К сожалению, родилась девочка, так что я назвал ее Ведиха вместо Ведии.
Райиха. Она очень любит забираться к отцу на руки и очень приятно пахнет.
Самиха. Не ребенок, а джинн, все время плачет и капризничает, ей нет еще и трех лет, и она носится по дому.
По вечерам в деревне Дженнет-Пынар Мевлют сиживал дома со своей матерью Атийе и двумя крепко любящими его старшими сестрами, писал письма в Стамбул отцу Мустафе-эфенди, просил его привезти из Стамбула ботинки, батарейки, пластмассовые прищепки, мыло и тому подобные вещи. Частым ответом на письма Мевлюта была одна-единственная фраза, что бльшая часть заказанных ими вещей «есть в лавке у Кривого Бакалейщика». И тем не менее сын продолжал свои литературные упражнения, чувствуя в них потребность. НЕОБХОДИМОСТЬ ПИСЬМЕННО ПРОСИТЬ О ЧЕМ-ТО ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА требовала от него трех навыков:
1. Нужно было найти истинное желание, поскольку обычно никто не знает своих истинных желаний.
2. Нужно было выразить письменным языком то, чего хочешь, ведь, когда письменно говоришь о том, что хочешь, понемногу начинаешь понимать, что именно тебе нужно.
3. Нужно было написать Письмо – нечто такое, что создается по принципам, изложенным в пунктах 1 и 2, но на самом деле получается таинственный текст с совершенно другим смыслом.
Мустафа-эфенди. Вернувшись из Стамбула в конце мая, я привез дочерям разноцветные ткани в цветочек на платья; жене тапочки и лимонный одеколон «Pe-Re-Ja», о которых она просила в письмах, написанных Мевлютом; а Мевлюту – игрушку, о которой он просил. Я разозлился, потому что Мевлют, завидев подарок, поблагодарил меня сквозь зубы. «Он хотел водяной пистолет, но такой, как у сына мухтара»[11], – сказала его мать, пока старшие сестры хихикали. На следующий день мы с Мевлютом отправились к Кривому Бакалейщику и подробно прошлись по списку долгов. «Черт, а это что за жвачка „Чамлыджа“?» – то и дело спрашивал я, а Мевлют смотрел себе под ноги, ведь это он купил жвачку и сказал записать свой долг в тетрадь. «На будущее – не продавай ему жвачку!» – велел я Кривому Бакалейщику. «На будущее – пусть Мевлют поедет в Стамбул и поучится! – ответил хитрый бакалейщик. – Машаллах, голова у него хорошо работает, к счету, к математике способна, пусть и в нашей деревне появится хоть кто-нибудь, кто дойдет до университета».
Известие о том, что отец Мевлюта в последнюю зиму в Стамбуле поругался с дядей Хасаном, быстро разошлось по деревне… Дядя Хасан и оба его сына, Коркут и Сулейман, в самые холодные дни прошедшего декабря выехали из стамбульского дома в Кюльтепе, где они жили вместе с отцом Мевлюта, оставив того в одиночестве, и переехали в другой дом в Дуттепе. Сразу после этого жена дяди Хасана, доводившаяся Мевлюту теткой, отправилась из деревни в город в этот новый дом, чтобы заботиться о своих мужчинах. Перемены означали, что осенью Мустафа-эфенди может взять к себе Мевлюта, чтобы не оставаться в Стамбуле одному.
Сулейман. Мой отец и дядя Мустафа – братья, но фамилии у нас разные. В те дни, когда по приказу Ататюрка все брали себе фамилии, в деревню из Бейшехира приехал чиновник, отвечающий за акты гражданского состояния. И аккуратно записал, кто какую фамилию себе выбрал. Очередь подошла к нашему деду, который был очень богобоязненным и набожным человеком и жизнь которого никогда не выходила за границы Бейшехира. Он подумал-подумал и сказал: «Акташ». Рядом с ним были оба его сына, которые, как обычно, ссорились. «А меня пусть запишут Караташем», – упрямо сказал тогда еще маленький мой будущий дядя Мустафа, но ни дед, ни чиновник его не послушали. Упрямый и привыкший делать все по-своему, дядя Мустафа, прежде чем записать Мевлюта в Стамбуле в среднюю школу, съездил в Бейшехир к судье и поменял себе фамилию, так что мы остались Акташами, а семья Мевлюта стала Караташами. Сын моего дяди, Мевлют Караташ, этой осенью приехал в Стамбул и жадно принялся за учебу. Правда, никто из наших мальчишек, которых увозили в Стамбул якобы на учебу, так и не сумел окончить лицей. Грустно, конечно, но лишь один-единственный парень из соседней деревни сумел попасть в университет. Потом этот ботан, который впоследствии даже надел очки, уехал в Америку, и больше о нем не слышали.
Однажды вечером в конце лета отец достал ржавую пилу, знакомую Мевлюту с детства. Он привел сына к старому дубу. Там они, сменяя друг друга, терпеливо и долго спиливали ветку толщиной с руку. Ветка была очень длинной и чуть кривой.
– Теперь это будет твой шест для торговли, – сказал отец Мевлюту.
Он взял на кухне спички и велел зажечь огонь. Подержав ветку над огнем, он опалил все сучки и подсушил будущий шест.
– Пусть пожарится до конца лета на солнце, а мы его еще над костром подсушим, чтобы он согнулся как следует. Он получится прочный, как камень, и мягкий, как бархат. Ну-ка, посмотрим, как он у тебя на плечах?
Мевлют положил шест на плечи. Затылком и плечами он с дрожью ощутил его тепло и твердость.
Уезжая в Стамбул в конце лета, отец и сын взяли с собой небольшой мешок, полный тарханы[12], высушенного красного перца, булгура, несколько сумок с тонкими лепешками и корзину с грецкими орехами. Отец имел обыкновение дарить булгур и орехи консьержам богатых больших домов, чтобы они позволяли ему подниматься на лифте. Кроме того, уезжавшие прихватили фонарь, который нужно было починить в Стамбуле, любимый чайник отца, циновку, чтобы постелить ее на полу дома в Стамбуле, и всякие прочие мелочи. Набитые битком полиэтиленовые пакеты в поезде то и дело вываливались из углов, куда их затолкали на время путешествия. Мевлют, который был полностью погружен в разглядывание мира за окном поезда и уже сейчас скучал по матери и старшим сестрам, то и дело вскакивал подбирать сваренные вкрутую яйца, выкатывающиеся из сумок на середину вагона.
В мире, который был за окном поезда, оказалось гораздо больше людей, пшеничных полей, тополей, быков, мостов, ишаков, домов, гор, мечетей, тракторов, надписей, букв, звезд и электрических столбов, чем Мевлют видел за всю свою двенадцатилетнюю жизнь. От этих столбов, проносившихся мимо Мевлюта, у него кружилась голова, и, опустив голову на плечо отца, он засыпал, а проснувшись, замечал, что желтые поля, солнечные стога пшеницы исчезли, все вокруг превратилось в лиловые скалы, и после этого Стамбул представал в его снах городом, созданным из этих лиловых скал.
А между тем показывалась очередная речушка и зеленые деревья, и он чувствовал, как настроение его тоже меняет цвет. Если бы мир умел говорить, что бы он рассказал? Поезд иногда подолгу стоял, но Мевлюту казалось из окна, что весь мир выстроился перед ним в очередь. Он с волнением громко читал отцу названия станций: «Хамам… Ихсание… Дёгер…» – глаза его то и дело слезились от синего сигаретного дыма, и он выходил в коридор, шатаясь, как пьяный, шел к уборной, с трудом открывал дверь с заедающим замком, нажимал на педаль и подолгу смотрел в отверстие в унитазе на проносящуюся внизу гальку. Колеса громко стучали. На обратном пути Мевлюту нравилось доходить до последнего вагона и разглядывать спящих в купе женщин, плачущих детей, резавшихся в карты мужчин. Он разглядывал тех, кто ел колбаски, тех, кто курил, тех, кто совершал намаз, – словом, всех, кто был в поезде.
На некоторых станциях в вагон поднимались мальчишки-разносчики, и Мевлют с большим вниманием смотрел на то, как они торгуют изюмом, жареным нутом, печеньем, хлебом, сыром, миндалем и жвачкой, а затем принимался есть пирожки из слоеного теста, которые мать заботливо положила ему в сумку. Иногда он видел, как пастухи с собаками, издали заметив поезд, бегут к нему с холма, на ходу выкрикивая: «Дайте газету!» (молодым пастухам газеты нужны для того, чтобы делать самокрутки) – и, когда поезд проносился мимо них, Мевлют испытывал странную гордость. Иногда стамбульский поезд останавливался посреди степи, и тогда Мевлют думал, как на самом деле в мире тихо. Во время ожидания, казавшегося бесконечным, он смотрел из окна вагона на то, как в маленьком саду какого-нибудь деревенского дома женщины собирают помидоры, куры вышагивают вдоль железнодорожных путей, ишаки стоят рядом с электрическим насосом, а поодаль на траве спит бородатый мужчина.
– Когда мы поедем? – спросил он во время одной из таких бесконечных стоянок поезда.
– Потерпи, сынок, Стамбул никуда не денется.
– Ой, мы, кажется, поехали.
– Это не мы, это мимо нас поезд проехал, – улыбнулся отец.
На протяжении всего путешествия Мевлют вспоминал карту Турции с флагом и Ататюрком, висевшую за спиной учителя в деревенской школе все те пять лет, что Мевлют там учился, и пытался представить, где же именно на этой карте они сейчас. Он уснул перед тем, как поезд приехал в Измит, и до самого вокзала Хайдар-Паша так и не раскрыл глаз.
Узлы, сумки и корзина, бывшие у них с собой, оказались очень тяжелыми. Целый час они потратили на то, чтобы перетащить их из вокзала Хайдар-Паша и сесть на пароход до Каракёя. Так Мевлют впервые в жизни увидел море. Море было темным и глубоким, словно сон. В прохладном воздухе ощущался сладковатый запах водорослей. Европейская часть Стамбула переливалась огнями. На всю свою жизнь Мевлют запомнил то, как впервые он увидел эти огни.
2. Дом
Холмы на окраинах города
Дом был лачугой гедже-конду. Отец его употреблял это слово, когда злился из-за невзрачности и бедности места, в котором они жили, а если не злился, что было редкостью, чаще употреблял слово «дом» с определенной нежностью, которую чувствовал и Мевлют. Подобная нежность давала Мевлюту обманчивое чувство, что здесь находится нечто из того идеально-прекрасного дома, которым они когда-нибудь в этом мире будут владеть, но верить в светлое будущее было сложно. Лачуга представляла собой средних размеров комнату. Неподалеку от нее стояла уборная. Сквозь маленькое, не закрытое стеклом окошко уборной по ночам можно было слышать, как в дальних кварталах лают и воют собаки.
В первый вечер Мевлюту показалось, что они ошиблись домом, потому что, когда они вошли внутрь в темноте, оказалось, в лачуге находятся мужчина и женщина. Позднее Мевлют понял, что пара снимала у отца дом, когда он на лето возвращался в деревню. Отец сначала о чем-то долго спорил с квартирантами, а потом устроил себе и сыну лежанку в углу.
Когда Мевлют проснулся около полудня, уже никого не было. Мевлют вспомнил рассказы Коркута и Сулеймана и постарался представить, как они жили в этой комнате, ибо дом казался ему заброшенной развалиной. Здесь ютились старый стол, четыре стула, две кровати (одна с пружинным матрасом, другая без), два шкафа и печка. Это было все, чем владел его отец в городе, куда он отправлялся на заработки каждую зиму вот уже шесть лет. Когда в прошлом году брат отца поругался с ним и переехал с сыновьями в другой дом, он забрал с собой все свои вещи и даже кровати. Мевлют не нашел ничего, что напомнило бы о родственниках. Ему было приятно увидеть в шкафу у отца несколько вещей, привезенных из деревни, например шерстяные носки, которые связала отцу мать, длинные кальсоны и ножницы, которые он видел раньше в руках у сестер, хотя эти ножницы уже поржавели.
Пол в доме был земляным. Отец уже постелил привезенную из деревни циновку.
На столе, грубо сколоченном из досок и фанеры, некрашеном и старом, для Мевлюта был оставлен на завтрак свежий хлеб. Чтобы стол не качался, Мевлют подкладывал под ножки пустые спичечные коробки или щепки, но все равно время от времени чай и суп проливались, а отец сердился. Вообще отец часто сердился. Он постоянно обещал починить стол, но так этого и не сделал.
В первые годы жизни в Стамбуле Мевлюту особенно нравилось сидеть за столом с отцом по вечерам и ужинать. Конечно, эти трапезы не были такими веселыми, как в деревне с матерью и сестрами. Мевлют видел по движениям отца всегда только то, что родитель торопится. Как только Мустафа-эфенди клал в рот последний кусок, он закуривал сигарету, но, не успевала она догореть и до половины, поднимался и говорил: «Пошли торговать».
И они отправлялись на заработок.
Вернувшись из школы, Мевлют любил варить суп на печке, а если печка еще не была затоплена, на маленькой керосинке «Айгаз». В кипящую в кастрюле воду он клал ложку сливочного масла «Сана» и все, что находилось в шкафу, – морковку, сельдерей, картофель, который чистил сам, перец и две пригоршни булгура. Слушая, как все это кипит, он внимательно смотрел на бурлящее варево. Кусочки картофеля и морковки вертелись как безумные в супе, словно грешники в адском пламени, ему казалось, что он слышит в кастрюле их крики, их предсмертные стоны. Иногда, словно в жерле вулкана, появлялись и исчезали маленькие гейзеры, и тогда морковка и сельдерей всплывали в кастрюле, едва не касаясь носа Мевлюта. Мевлюту нравилось наблюдать, как картошка по мере готовности желтеет, морковь отдает супу свой цвет, нравилось слушать, как меняется звук кипения, и он думал о том, что перемещение всего кипящего в кастрюле очень похоже на вращение планет во Вселенной, о которых им начали рассказывать на уроках географии в мужском лицее имени Ататюрка. Ему нравилось греться теплым ароматным паром, поднимавшимся из кастрюли.
Отец каждый раз говорил: «Машаллах! Суп получился очень вкусным, у тебя золотые руки! Может, отдадим тебя в подмастерья какому-нибудь повару?»
Иногда Мевлют не шел с отцом торговать бузой и оставался дома, чтобы учить уроки. После того как отец закрывал за собой дверь, Мевлют убирал со стола и садился заучивать названия всех стран и городов из учебника географии. Разглядывая фотографии Эйфелевой башни и буддийских храмов в Китае, он представлял себя путешественником, оказавшимся в Париже или в Пекине.
Часто отключалось электричество, и тогда ему казалось, что огонь в печи становится больше, а из темного угла за ним начинает внимательно следить какой-то глаз. Он боялся встать из-за стола и засыпал, положив голову на учебник.
Отец, замерзший на улице, был доволен, что дома тепло, но ему не нравилось, что дрова расходуются допоздна. Так как ему было стыдно об этом говорить, самое большее, о чем он просил сына, – погасить печь перед сном.
Что касается дров, отец иногда покупал их в маленькой бакалейной лавке дяди Хасана, а иногда колол сам какое-нибудь полено одолженным у соседа топором. Перед наступлением зимы отец показал Мевлюту, как растопить печь маленькими сухими ветками и обрывками газет, а также сказал, где на окрестных холмах эти сухие ветки и обрывки бумаг можно найти.
Их дом находился у подножия наполовину лысого глинистого холма Кюльтепе, на котором кое-где росли шелковицы и инжир. Раньше здесь, извиваясь среди окрестных холмов, тек в Босфор узкий и хилый ручей. В середине 50-х на берегу ручья женщины, переехавшие сюда из окрестностей Орду, Гюмюшхане, Кастамону и Эрзинджана, выращивали кукурузу и стирали белье, как у себя в деревне. Летом в нем плавали мальчишки. В те дни ручей все еще называли так, как во времена Османов, – Бузлу-Дере (Ледяной ручей), но из-за того, что на окрестных холмах поселилась тьма тьмущая мигрантов из Анатолии, которые завели кое-какое производство, за короткое время он стал Боклу-Дере – Поганым ручьем. Когда Мевлют приехал в Стамбул, уже никто не помнил ни Бузлу-Дере, ни Боклу-Дере – ручей от истока до конца был залит бетоном.
На вершине холма находились развалины огромной печи, в которой прежде сжигали мусор, вот почему холм получил название Пепельный. Отсюда были видны окрестные холмы, быстро покрывавшиеся лачугами гедже-конду (Дуттепе, Куштепе, Эсентепе, Кюльтепе, Хармантепе, Сейрантепе, Октепе и другие)[13], самое большое городское кладбище (Зинджирликую), множество больших и маленьких фабрик, авторемонтные мастерские, ателье, склады, заводы по производству лекарств и электрических лампочек, наконец, высокие здания и минареты Стамбула. Сам город, в котором они торговали бузой и где располагалась школа Мевлюта, казался таинственным темным пятном на горизонте.
А еще дальше виднелись синие холмы анатолийского берега. Босфор лежал среди этих холмов. Увы, его не было видно, но Мевлют, поднимаясь на Кюльтепе в первые месяцы жизни в Стамбуле, всякий раз надеялся, что из-за гор хоть на мгновение покажется море. На каждом из холмов стояли огромные столбы линии электропередачи, по которым в город шло электричество. В дождливые дни провода издавали странное гудение, пугавшее Мевлюта и его приятелей. Низ столбов был обмотан колючей проволокой, и там же висели таблички с отверстиями от пуль, на которых было написано: «Опасно для жизни» – и были нарисованы черепа с перекрещенными костями. Собирая под столбами сухие ветки и обрывки бумаги, Мевлют всякий раз, глядя на эти таблички, думал о том, что опасность для жизни проистекает не от электричества, а от самого города.
Мустафа-эфенди. Чтобы стало понятно, какая трудная у нас жизнь, я рассказал своему сыну, что, когда мы с его дядей шесть лет назад приехали сюда, здесь не было ни электричества, ни воды, ни канализации. Показав сыну соседние холмы, я рассказал ему о том, что там охотились и тренировали солдат османские падишахи; о том, что там были теплицы, в которых албанцы выращивали цветы и клубнику; о том, что те, кто жил рядом с Кяытхане, содержали там молочную ферму; о том, что на одном из холмов находится белое кладбище, на котором хоронили воинов, погибших от эпидемии тифа во время Балканской войны 1912 года. Чтобы моральный дух моего сына не упал, а энтузиазм не прошел, я показал Мевлюту мужской лицей имени Ататюрка, куда мы его запишем, поле футбольной команды Дуттепе[14], кинотеатр «Дерья» и мечеть на Дуттепе, строительство которой продолжалось четыре года при поддержке владельца пекарен и строителя из Ризе Хаджи Хамита Вурала и его людей, которые все как один были похожи друг на друга своими массивными подбородками. Я показал ему и дом внизу, справа от мечети, на участке, который четыре года назад мы с дядей Хасаном обложили выкрашенными известкой камнями и строительство которого мой брат закончил в прошлом году. Когда шесть лет назад мы приехали сюда, все эти холмы были совершенно пустыми. Я растолковал Мевлюту, что главной заботой тех, кто переселился сюда из дальних краев, было найти работу, поэтому переселенцы строили свои дома как можно ближе к дороге, то есть почти у подножия холма, чтобы по утрам быстрее всех прибежать в город.
3. Предприимчивый человек, который строит дом на пустыре
Ах, сынок, ты испугался Стамбула
В первые месяцы в Стамбуле по ночам мальчику не давал спать шум города, доносившийся издалека. Иногда Мевлют в страхе просыпался, слышал собачий лай, понимал, что отец еще не вернулся домой, и, накрывшись с головой одеялом, пытался снова заснуть – но не тут-то было. Отец заметил, что Мевлют слишком сильно боится собак, и отвел его к одному шейху, жившему в деревянном особняке в Касым-Паша. Тот прочитал перед сыном Мустафы несколько молитв и подул на него. Мевлют помнил об этом долгие годы.
Кюльтепе, Дуттепе и другие окрестности он узнал с помощью Сулеймана, который освоился за год и пришел навестить брата. Мевлют повидал очень много лачуг гедже-конду. В большинстве из них жили только мужчины. Многие из тех, кто приехал сюда за последние пять лет из Анатолии, либо оставили своих жен с детьми в деревне, как отец Мевлюта, либо были такими нищими, что жениться у них не было никакой возможности. Иногда через открытую дверь Мевлют видел, что в доме, состоявшем из одной комнаты, на кроватях отдыхают без движения по шесть-семь холостых мужчин. Вокруг каждого дома слонялись злые собаки. Собаки сбегались на тяжелый запах мужского пота. Мевлют боялся и собак, и таких вот мужчин, потому что они были злыми, хмурыми и грубыми.
На рынке у подножия холма Дуттепе, на главной улице квартала (в конце ее находилось автобусное кольцо), были лавка с бакалейными товарами, которую его отец называл «из-под полы», магазинчик, где торговали мешками с цементом, снятыми с петель дверьми, старой черепицей, печными трубами, пластиковой пленкой, и палатка-кофейня, где коротали время, подремывая, неудачники, не нашедшие работу в городе. Посредине дороги, ведущей на вершину холма, дядя Хасан тоже открыл маленькую бакалейную лавку. Когда у Мевлюта было свободное время, он поднимался туда и со своими двоюродными братьями Коркутом и Сулейманом делал кульки из старых газет.
Сулейман. Из-за упрямства моего дяди Мустафы Мевлют впустую потратил целый год в деревне, поэтому в мужском лицее имени Ататюрка был записан на класс младше, чем я. Когда я видел Мевлюта в школе на переменах, я сразу подходил к нему и болтал с ним. Мы очень любим Мевлюта и воспринимаем его отдельно от дяди. Однажды вечером они пришли с дядей Мустафой в наш дом в Дуттепе. Как только Мевлют увидел мою мать, он сразу обнял ее, должно быть затосковав по своей матери и сестрам.
– Ах, сынок, ты испугался Стамбула, – сказала моя мать, обнимая его. – Не бойся, мы всегда с тобой. – Она поцеловала его в макушку. – Ну-ка, скажи мне, кем ты будешь считать меня в Стамбуле – тетей по отцу или тетей по матери?
Моя мать является Мевлюту теткой и по отцу, и по матери; она старшая сестра его матери. Позднее, когда Мевлют принимал участие в бесконечных ссорах наших отцов, он называл ее «тетка», но, когда зимой к моему дяде Мустафе приезжала жена и сестры мило общались, он называл ее «милая тетушка».
В таких случаях Мевлют искренне говорил моей матери:
– Ты всегда будешь для меня милой родной тетушкой.
– Смотри, чтобы отец не рассердился, – отвечала моя мать.
Дядя Мустафа в таких случаях отзывался:
– Ну же, Сафийе, приласкай его, как мать. А то тут он совсем сиротка, небось плачет по ночам.
Когда они первый раз пришли к нам, Мустафа сказал:
– Я сейчас записываю его в школу. Но на книжки и тетрадки ушло много денег. Нужен пиджак.
Брат пошел в соседнюю комнату и, порывшись в сундуке, вытащил пиджак от старой формы, которую носили мы оба. Он вытряхнул из него пыль, расправил складки и осторожно надел его на Мевлюта.
– Очень тебе идет этот просторный пиджак, – сказал Коркут. – В тесном пиджаке труднее драться.
– Мевлют идет в школу не для того, чтобы драться, – сказал дядя Мустафа.
– Вряд ли там он сможет обойтись без драки, – сказал Коркут.
Коркут. Когда дядя Мустафа сказал, что Мевлют ни с кем не будет драться, я усмехнулся. Три года назад, когда мы жили в доме на Кюльтепе, построенном отцом вместе с дядей Мустафой (сегодня там живет семья Мевлюта), школу я бросил. В один из последних своих дней в школе я преподал химику Февзи урок, отвесив ему перед всем классом две пощечины и три раза дав в морду. Он давно заслуживал такого к себе отношения, потому что за год до этого, когда он спросил, что такое Pb2SO4, а я ответил «Подошва», он влепил мне затрещину. Конечно, у меня не могло остаться уважения к лицею, в котором можно побить учителя прямо на уроке, пусть этот лицей хоть тысячу раз будет назван в честь Ататюрка.
Сулейман.
– В подкладке левого кармана пиджака есть дырка, но смотри не вздумай ее зашивать, – сказал я растерянному Мевлюту, – туда можно класть шпоры на уроках.
Впрочем, мы больше пользы от этого пиджака получали не в школе, а по вечерам, когда продавали бузу. Когда ночью на холодной улице видят ребенка в школьном пиджаке, никто не может устоять.
– Сыночек, ты что, в школе учишься? – спрашивают тебя и кладут тебе в карман шоколадки, шерстяные носки, деньги.
Ты приходишь домой, выворачиваешь пиджак и все вынимаешь.
– Смотри не вздумай бросать школу, – сказал я Мевлюту. – Ты должен в будущем стать доктором.
– Мевлют вовсе не собирается бросать школу, – ответил его отец. – Он на самом деле станет доктором. Разве не так, Мевлют?
Мевлют понимал, что нежность, обращенная к нему, смешана с жалостью, и это его огорчало. Дом, который их дядя построил и в который переехал в прошлом году, был гораздо чище и светлей, чем лачуга, в которой они жили с отцом. Дядя и двоюродные братья Мевлюта сидели за столом, покрытым клеенкой в цветочек. Пол был не земляным, а каменным. В доме пахло одеколоном, и отглаженные чистые занавески будили у Мевлюта невольную зависть. В доме дяди было три комнаты. Мевлют видел – семья Акташ, которая, продав в деревне все, включая скот, маленький сад и дом, переехала сюда, будет здесь жить очень счастливо. Он стеснялся и чувствовал злость к отцу, который ничего не добился, да еще и вел себя так, будто бы добиваться ничего и не собирается.
Мустафа-эфенди. Я знаю, ты тайком от меня ходишь к дяде, бываешь у дяди Хасана в лавке, складываешь там газеты, садишься дома у них за стол, играешь с Сулейманом, но помни, что они обошлись с нами несправедливо. Какое горькое чувство для отца, когда его сын находится не рядом с ним, а с плутами, которые обманули и чуть не лишили последнего куска хлеба! Не надо стесняться того, что они отдали тебе тот пиджак. Он твой по праву! Заруби себе на носу: если ты будешь так близко общаться с теми, кто отобрал у твоего отца участок, тебя никогда не будут уважать! Ты все понял, Мевлют?
Шесть лет назад, ровно через три года после военного переворота 27 мая 1960 года, пока Мевлют учился в деревне читать и писать, а его отец и дядя Хасан отправились в поисках работы в Стамбул, поначалу они снимали дом на Дуттепе. В том доме они прожили вместе два года, но, когда арендная плата возросла, выехали оттуда и собственными руками построили из саманного кирпича, цемента и жести дом на Кюльтепе – холме напротив, – в котором впоследствии жили Мевлют с отцом. В первые годы жизни в Стамбуле отношения отца и дяди Хасана были очень хорошими. Они вместе изучили тонкости уличной торговли йогуртом и поначалу вдвоем отправлялись на улицы торговать им, о чем впоследствии рассказывали со смехом. Вскоре братья разделились, продавая йогурт в разных кварталах, но всегда складывали заработок в общий котел. Мевлют всегда с улыбкой вспоминал, как мать с теткой радовались, когда получали на почте в деревне сверток в оберточной бумаге. В те годы отец и дядя Хасан по воскресеньям вместе отдыхали в стамбульских парках на берегу пролива, вместе убивали время, подремывая в чайных, брились по утрам одной и той же бритвой и в начале лета, возвращаясь в деревню, привозили своим женам и детям одинаковые подарки.
В 1965 году, когда братья перебрались в гедже-конду на Кюльтепе, они с помощью старшего сына дяди Хасана Коркута, переехавшего к ним из деревни, захватили себе два небольших участка, один на Кюльтепе, а другой на противоположном Дуттепе. Перед выборами 1965 года царила оптимистическая атмосфера, – дескать, Партия справедливости после выборов объявит амнистию самозахвату, и на этой волне наши воодушевленные захватчики приступили к постройке дома на Дуттепе.