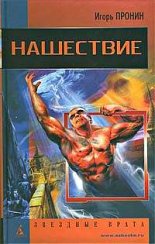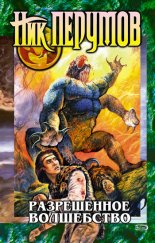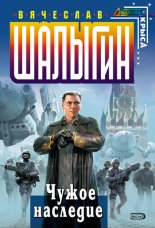В когтях неведомого века Ерпылев Андрей
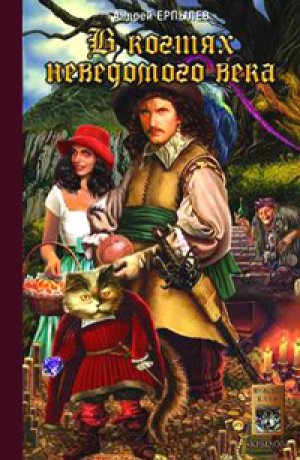
– А индусы-то при чем?
– Ты что, совсем темный? Империя Великих Моголов там у них. Читай: русских. А турки-то что учудили?
– Что?
– Их полуостров казаки завоевали, наши, донские атаманцы, а они взяли да назвались Отоманской Империей. Чуешь разницу? Не Атаманской, а Отоманской! Некоторые так вообще Оттоманской…
– И мы, русские то есть, это терпим?
– Так это самое-то и есть главное условие вхождения России в Общий Рынок, Европейский Парламент… ОБСЕ…
– Чего-чего? Какое еще ОБСЕ? В шестнадцатом-то веке?
Бабка испепелила его взглядом и продолжила:
– Обсели, понимаешь, со всех сторон, как мухи, и давай зудеть: «Откажитесь, мол, от своей истории, признайте, что Россия страна слабая, дикая, всему хорошему Европе обязана, а мы уж…» Знаем мы ихнее «уж»! И чего удумали, стервецы: перепишите, мол, все летописи свои, будто Россия двести лет под игом была монголо-татарским! А мы ведь те самые монголы-то и есть, а татары нам – братья навек! Даже песню пели в моей молодости, помню: «Русский с татарином – братья навек! Ста…» Ну это лишнее… Нынешний царь-батюшка пока противится, а помрет – все: семья, наследнички, конечно, на уговоры супостатов поддадутся, и пропадай Россия и слава наша вековая…
– А вы-то как, бабушка, здесь оказались? – решил Георгий отвлечь расходившуюся бабульку, подозревая, что все это легко может вылиться в демонстрацию с красными знаменами вокруг избы. Особенно ярко ему почему-то виделся образ кота Баюна в красных революционных шароварах, сшитых из какого-то транспаранта с остатком кривоватой надписи «…ОЛОЙ!» на самом интересном месте, и буденовке с синей кавалерийской звездой.
– Да и не спрашивай, милок… – Баба-Яга, только что метавшая громы и молнии в адрес супостатов-европейцев, разве что не лозунги-речевки выкрикивавшая, пригорюнилась, в руках ее неведомо откуда появился синий клетчатый платочек, и стала она напоминать другую картину великого живописца-сказочника – «Аленушку».
– Чего привязался к человеку… – недовольно пробормотал со своего насиженного места кот, совершенно невидимый в полумраке, будто бы про себя, ни к кому не обращаясь, но адресуя свою эскападу ушам Георгия. – Приволокся незнамо откуда, беспаспортный-беспортошный, разбередил женщину…
Арталетов запоздало сообразил, что тут замешана совсем не политика, и прикусил язык…
* * *
В огромном камине, где можно было наверняка зажарить целиком бычью тушу, весело потрескивали огромные поленья, бросавшие красноватые отблески на угрюмых членов трибунала. Судили, конечно, шевалье д’Арталетта…
Только что неподкупные судьи заслушали свидетелей, среди которых были и граф де Лезивье де Монфреди де Шарлеруа дю Рестоне, муж прекрасной возлюбленной шевалье, и секретарь графа Гастон, и черный кот, и папаша Мишлен и даже непонятно откуда взявшийся в здешних местах и, главное, временах сержант Нечипоренко при фуражке, «демократизаторе» и полной парадной форме сверху до пояса, но почему-то в телесного цвета колготках, пышной балетной пачке и пуантах. Ничего, способного порадовать Георгия, свидетели не показали, но не уставали чуть ли не в каждом слове поносить его на все корки, обливать грязью и нести явную ахинею, скрупулезно тем не менее протоколируемую одним из дровосеков. Работник топора, временно отставив свое основное орудие труда в уголок, старательно водил по бумаге скрипящим пером дорогого «паркера», полностью скрывающегося в заскорузлой ручище, высунув при этом от усердия язык.
Трибунал состоял сплошь из незнакомых лиц. Да и как было опознать среди заседателей знакомое лицо, если все они, без исключения, скрывались под глубоко надвинутыми капюшонами мрачных ряс?
Завидев карабкающегося на свидетельское место лесного клопа, сплошь загипсованного и опирающегося сразу на четыре костыля, Арталетов застонал и понял, что его песенка спета. Не поддающиеся счислению родственники потерпевшего, посверкивая жгучими глазами, подкручивая усы и показывая на пальцах, что ждет несчастного, обидевшего их кунака, почтительно поддерживали последнего под многочисленные локти…
В первый раз Жора пожалел о своем врожденном гуманизме…
– Итак, – проскрипел, поднимаясь на ноги, председатель, когда калека перестал шепеляво и гнусаво перечислять лишения, перенесенные им по вине залетного гастролера, – кто-нибудь может сообщить что-нибудь, хоть на йоту оправдывающее преступника?
Как же, сможет кто-нибудь… Все, кто мог замолвить за Георгия хоть словечко, присутствовали тут же, но рты их, к сожалению, были заклеены липкой лентой… И Серега, и Леплайсан, и бабка, и волк (ему коричневый китайский скотч обматывал всю морду так, что непонятно было, как собираются его освобождать от липучки, намертво приклеившейся к шерсти) сочувственно смотрели на подсудимого, но поделать ничего не могли. Глаза говорили более чем красноречиво, но разве взгляд можно подшить к многотомному делу в качестве свидетельского показания?.. Лишь одного милого и полузнакомого лица не видел Жора в зале…
– Ну, в таком случае мы переходим…
– Постойте! – раздался от дверей чей-то звонкий голос, заставивший сердце Арталетова учащенно забиться. – Я могу оправдать его!..
Жора рванулся навстречу красному отблеску и… со всего маху грохнулся с полатей на пол.
Тощий домотканый половик, надо сказать, плохая замена мату. Нет, не тому мату, который едва не сорвался с губ пострадавшего, а самому настоящему, гимнастическому…
9
А то мои подружки пиявки, да лягушки —
Фу какая гадость!
Эй, жизнь моя жестянка!!!
А ну ее в болото!
Юрий Энтин. «Песенка водяного»
На рассвете третьего дня построжавшая старуха (видимо, подлый кот-особист все-таки сумел заронить подозрения в ее душу, если таковая, конечно, у нечистой силы имеется) вывела Арталетова со двора, повернула лицом к чаще и сунула ему в руку какой-то мохнатый округлый комочек со словами:
– Брось перед собой и иди за ним, куда покатится. Он тебя к людям выведет. А мне, прости, милок, недосуг с тобой тут вожжаться…
– А кто «он»-то? – не понял Георгий, вертя в руках странную вещицу.
– Да клубок же, бестолковая твоя голова! – рассердилась на неразумного постояльца Баба-Яга. – Вот, в руке ведь держишь!
Странный комок действительно оказался мотком серых грубых ниток явно не фабричного производства. От него столь же явственно тянуло псиной, как и от говорящего волка, который в последний день как-то не попадался Георгию на глаза, и так же, как и от волчьего духа, на глаза нашего героя навернулись слезы, а в носу отчаянно защипало.
– Спасибо, бабушка! – пробубнил он в нос, неумело кланяясь бабке в пояс, как требовалось по канонам русских народных сказок, и больно получив при этом по колену тяжелым хрономобилем, выскользнувшим из-за пазухи. – И за клубок спасибо, и за заботу, и за то, что на путь истинный наставили, глаза глупому открыли…
Непонятно, откуда взялась былинная напевность в речах коренного горожанина, к фольклору всегда имевшего самое поверхностное отношение (так, тосты, пословицы, иногда, при случае опять же…), но бабка заметно помягчела.
– Да чего уж… Не за что, милок, благодарить-то – работа это моя, призвание, так сказать…
Еще мгновение, и, окончательно смягчившись, добрая в душе женщина наверняка вернула бы гостя в дом, нерешительно переступавший позади нее с ноги на ногу, будто огромный петух (а он и в самом деле оказался вовсе не женского пола, не избушкой то есть, а именно домом или, если так можно сказать по-русски, «избушем», о чем позволяли судить громадные шпоры на куриных ногах, больше напоминавшие желтоватые слоновьи бивни), но где-то на пределе видимости, словно тень Отца Гамлета, черной молнией проскользнул кот, который, конечно, все испортил.
– Иди уж… Долгие проводы – лишние слезы, – нахмурила искусно выщипанные и подведенные брови Яга. – Скатертью, так сказать, дорога…
Понурив голову, Георгий зашагал прочь, то и дело ойкая, когда босая нога, непривычная к такого рода экстриму, наступала на незаметный в мягкой траве сучок или еще какую-нибудь коварную гадость. Клубок он решил бросить где-нибудь подальше от дома, стесняясь последовать бабкиному совету сразу. Врожденный материалистический взгляд на окружающую действительность мешал: а вдруг не покатится, обычным мотком ниток окажется?
Не успела высокая, крытая потемневшим от времени тесом крыша «избуша» на курьих ногах скрыться за кронами деревьев, как из папоротников, густо разросшихся по обе стороны едва намеченной тропинки, которой явно никто из двуногих не пользовался (в сарайчике за домом Арталетов своими глазами видел дюралевую ступу весьма аэродинамичных очертаний с откидным плексигласовым фонарем, трехзначным бортовым номером и эмблемой каких-то непонятных ВВС на клепаном боку), материализовался клочком темноты кот.
– Ну что, контра недобитая, покалякаем по душам? – кровожадно осклабился Баюн, заступив Георгию дорогу. – Без лишних ушей…
К котам Георгий с детства относился толерантно, даже гладил при случае, сюсюкая традиционное «кис-кис», но оскорбительное поведение наглеца переполнило глубочайшую чашу его терпения.
– Ах ты… – даже задохнулся он от возмущения и зашарил глазами вокруг в поисках какой-нибудь палки или камня.
Ничего подходящего, как назло, не попадалось, лишь сосновые шишки.
«Откуда они здесь в широколиственном лесу? – подумал наш герой, протягивая руку к самой большой. – Сосен-то вокруг нет…»
Зря подумал, потому что шишка тут же обернулась чем-то мягким и мерзким на ощупь…
Утешая себя, что это всего лишь перестоявший гриб (хотя откуда, скажите на милость, грибы в такое время?), Арталетов в сердцах метнул в кота, испуганно прижавшего уши и сразу уменьшившегося в размерах, путеводным клубком.
Зловредное животное, конечно, тут же испарилось, мяукнув напоследок какие-то нечленораздельные угрозы, но клубок канул в зарослях, и пришлось кинуться за ним очертя голову, не обращая внимания на ветки, в кровь царапающие щеки, и ежесекундно угрожающую глазам колючую хвою (опять она откуда-то взялась на нашу с героем голову!).
Круглый гид (какой там «гид» – гад настоящий!), конечно, «с концами» не сгинул, то и дело показывая преследователю, когда он совсем было отчаивался, кончик растрепанного нитяного хвостика и заставляя набирать темп, молясь про мифическое «второе дыхание»…
Долго ли мчался за клубком Арталетов или коротко, но в конце концов тот начал понемногу замедлять движение, возможно, выдыхаясь, а может быть, и жалея «ведомого», которому казалось, что еще один шаг – и он рухнет в лесную траву, чтобы больше не подняться, поэтому последние несколько сотен метров Жора прошел чуть ли не прогулочным шагом за медленно катящимся в двух метрах впереди поводырем.
В груди сипело и хрипело не хуже, чем у говорящего волка, ноги дрожали и подгибались, болванка хрономобиля, болтающаяся на цепочке, набила столько синяков на ребрах, что хотелось сорвать ее и зашвырнуть куда-нибудь к чертовой матери, пот застилал глаза…
Наконец в редколесье клубок остановился, будто говоря: «Все, пришли», и Георгий без сил упал на колени, привалившись плечом к сосновому стволу, на глазах превращающемуся в кленовый. Рука сама собой нащупала «луковицу» хрономобиля и нерешительно замерла на кнопке возвращения. Перед глазами все плыло, и лишь самый краешек сознания улавливал, что они давно видят что-то красное…
* * *
Головокружение проходило, оставляя лишь огромную неподъемную слабость, всегда следующую за мышечным перенапряжением. Мозг постепенно получал возможность воспринимать краски окружающего мира, щебет птиц, стрекот кузнечиков на близком лугу, залитом ярким солнечным светом, который виднелся за редкими древесными стволами.
Красное пятно, на которое Арталетов пялился уже битый час, оказалось парой изрядно поношенных сапог, вернее, ботфортов с мягкими голенищами, приспущенными гармошкой. Обувка сиротливо стояла посреди небольшой полянки, под огромным раскидистым дубом, словно приглашая: «Возьми нас с собой, прохожий!»
В обычной обстановке Жора никогда бы не посягнул на чужую собственность – не то у него было воспитание, но босые ступни, перемазанные грязью и травяным соком, сбитые в кровь, ноющие, как больные зубы, выглядели настолько жалко, что, превозмогая стыд, он подполз на коленках к дару Фортуны[19] и протянул к нему руку…
Какой удар судьбы! Сапоги едва налезали Жоре на руку и годились, несмотря на сугубо мужской, «мушкетерский», фасон, только на девочку-подростка, так мал был их размер.