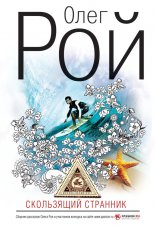58-я. Неизъятое Артемьева Анна

— Садитесь, садитесь.
А им страшно мне приговор сказать. Со стороны — 20 лет каторги! А я думаю: пусть 40 лет, пусть 50, только бы жить, жить… А было мне 20 лет.
Нахама Мордуховна Кукушкина
«Родных нет, квартиры нет… Я не страдала, что я в заключении»
1923
Родилась в Вильно (тогда — территория Польши).
1944
Арестована по подозрению в антисоветской агитации. Следствие шло пять месяцев в тюрьме Саратова. Приговор военного трибунала войск НКВД Саратовской области по статье 58–10: 10 лет исправительно-трудовых работ, пять лет поражения в правах.
1944 … 1954
Все 10 лет заключения провела в Саратовском ИТЛ, затем в различных лагерях в Республике Коми. Работала на сельхозработах, лесоповале, затем — швеей и на общих работах.
Работала швеей.
Живет в городе Печора.
Я жила в Саратовской области, работала в селе, большое село. На фабрике платья шили, а я там убирала, полы мыла. И вдруг на мене вши напали, не дают покоя. И сон снится, что мене бык поднимает и таскает, аж сердце замирает. Только сон приснился, а на следующую ночь пришли, забрали мене и увезли в Саратов. Что сказали? А, не знаю. Я по-русски не говорила, только на идише.
Мои родные были очень хорошие, но они были очень бедные: папа хорошие сапоги шил, мама — лайковые перчатки. Я работу не нашла и уехала в Белоруссию, в Витебск. Работала на огромной фабрике. А война началась — все пропало: и фабрика, и люди. Я попала в Смоленскую область, в оккупацию. Я бы не докумекала, но со мной были две еврейки варшавские, сестры, очень, очень умные. Говорят: надо помалкивать за нашу национальность. Я всем стала говорить, что я из детдома, родных не знаю. Немцы сказали: ладно, кончится война — разберемся. Так я и выжила.
А родные погибли у немцев. Они не могли никуда уехать, у них не было денег. У кого было денег, те уехали, а мои родные погибли. Мать, отец, сестра, два брата с женами… Усе погибли, усе.
Когда Смоленскую область освободили, стали привязываться стукачи. Стукачка сказала, что я хвалила немецкую власть, за то мене и арестовали. А как я могла хвалить, когда мои родные померли у немцев?
На допросах говорили, что я занималась агитацией за немцев, а я и по-русски не умела. И че я могла говорить? Про своих бедных родителей? Я ничего не могла говорить.
А, ну их на фиг. Там не отбухаешься. Если попадешь — все равно посодют, не выпустят.
Мене без конца гоняли туды-сюды на этап. Попаду с какой-нибудь колонной туда, где евреи (а евреи много сидели по 58-й!).
Нахама Кукушкина с мужем. 1955
Они грамотные, в лагере всегда на хороших работах, они мене помогали. А охрана видит, что евреи мене помогают — и мене на этап. Гоняли на огородах, хрен его знает, на всяких тяжелых работах. В больнице была пару раз. Но у мене организм такой, он все перебарывает, я бы не сказала, что я была дохлая. Так, худая. Я и сейчас худая, но это потому, что я старая.
О свободе я и не думала, мне все равно было, где быть. Родных нет, квартиры нет. Голодно, но все голодали в войну. Я не страдала, что я в заключении.
Потом я попала в лагерь, где евреи работали нарядчиками. Они мене поставили в прачечную.
Там было много блатары, а женщин мало, женщин был дефицит. И мне сказали: «Нина! Тебе надо с кем-то из законных (воров. — Авт.) жить! А то блатара тебе покоя не даст, может изнасиловать». И я стала жить с хлеборезом.
Он был русский, ссученный вор. Но он был… Он был видный. Он был ласковый, мене очень любил и кормил на убой. С ним я жила девять месяцев и потом родила мальчика. Мертвого. Но это хорошо. Иначе, пока я сидела, он был бы в детдоме и из него получился бы вор. Из детдома всегда выходит ворье.
Потом моего мужика отправили на этап, я очень плакала за него. Больше мы не виделись. Не помню, как его звали. Но я его помню. Я и сейчас его вспоминаю.
После освобождения. На работе в ателье. 1956
Я не говорила никому, что я сидела. Сейчас уже говорю, а мене жалеют. Эти, пьяницы во дворе: «Ой, тетя Нина! Вы же нашенская, мы тоже по зонам!»
Муж мой тоже сидел по 58-й, потом работал на заводе, там спился, пьяный был очень плохой, я его не любила. Из-за квартиры пришлось жить, эта квартира — его. Вам кажется, она бедная?..
А ты евреечка, нет? Вот и мужик мой был русский, и дочь — русская, и внуки — русские. Они меня недолюбливают. И пенсию за те 10 лет, что я в лагере работала, мене не плотют. Это в собесе мене обдурили.
СПРАВКА ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ
«Мене обвинили за агитацию. Арестовали в 45-м, вышла в 55-м. Я справку прятала, не говорила никому, что я сидела. Сейчас уже все равно, сейчас говорю, а мене жалеют. Эти, пьяницы во дворе: «Ой, тетя Нина! Вы же нашенская, мы тоже по зонам!»
Виктор Александрович Красин
«У меня была одна мысль: бежать»
1929
Родился в Киеве.
1949
Январь 1949-го — вместе с шестью друзьями арестован в Москве. Отправлен в Лубянскую тюрьму.
Август 1949-го — приговор Особого совещания при МГБ: восемь лет лагерей. Этап в Озерлаг (Тайшет).
Сентябрь 1949-го — вместе с четырьмя другими заключенными попытался бежать с Тайшетской пересылки, был пойман и приговорен к 10 годам лагерей.
Работал на лесоповале в Тайшете.
1959 … 1969
Весна 1950-го — этапирован на Колыму, в Берлаг.
1954-й — этапирован на Лубянку для пересмотра дела.
Октябрь 1954-го — освобожден и реабилитирован.
1969-й — арестован еще раз. Официально — по обвинению в тунеядстве, на деле — за правозащитную работу. Приговорен к пяти годам ссылки и отправлен в Красноярский край.
1971 … 1972
Сентябрь 1971-го — приговор отменен Верховным судом РСФСР, Красин вернулся в Москву.
12 сентября 1972-го — арестован по обвинению в пропаганде, направленной на подрыв советского строя. На следствии находился в Лефортовской тюрьме, дал показания об участниках диссидентского движения, на очных ставках убеждал их отказаться от правозащитной работы.
АВГУСТ 1973
В суде Виктор Красин и Петр Якир (историк, диссидент, друг Красина) признали себя виновными в антисоветской агитации. На устроенной после суда пресс-конференции оба публично заявили о своем раскаянии. Суд приговорил их к трем годам лагерей и трем годам ссылки. 12 октября срок заключения был снижен до уже отсиженного, а Красин отправлен в ссылку в Калинин (Тверь).
1974 … 1976
Сентябрь 1974-го — Верховный совет вынес решение о помиловании Красина и Якира.
20 апреля 1976-го — публично отказался от своих показаний на следствии и в суде и объявил, что говорил о своем раскаянии из-за угрозы расстрела. Назвал себя «заблатненным лагерником, спасавшим свою шкуру».
Работал финансовым аналитиком.
Живет в Москве.
Лагерь — самый яркий период моей жизни, в каком-то смысле счастливое время. Моя жена говорила, что я из любого дома делаю барак. Человек всегда воспроизводит место, где произошло самое главное в его жизни событие, а лагерь был самым главным. Не только для меня, для фронтовиков тоже. Интересные события, может, были и позже. Но с точки зрения формирования личности ничего важнее в моей жизни не случилось.
«Что Маркс?! Надо читать Рамакришну!»
У нас было большое дело: антисоветская группа, семь человек.
Собирались большой компанией, разговаривали до утра. Высказывания, по тем временам антисоветские, вполне были. «Ну что ваш Маркс?! Надо читать Рамакришну», — говорил я на комсомольских собраниях.
В 48-м к нам в компанию пришел Феликс Карелин, парень лет на пять старше нас. На самом деле — агент ГБ. Целый год ходил, записывал наши высказывания. Например, меня обвиняли в том, что я произнес: «Строим колхозы, а крестьяне дохнут с голода».
Через год Феликс признался, что пишет на нас доносы, но хочет с этим завязать. Мы предложили: напиши письмо в ГБ, что отказываешься с ними работать. Феликс послушался, и дней через 10 всех нас арестовали.
Привезли на Лубянку, заводят в кабинет. Сидят двое, сосредоточенно листают мое дело. Разыгрывается дешевая пьеса:
— Ну, рассказывай о своей антисоветской деятельности.
— Я не занимался антисоветской деятельностью.
— Смотри, какая б***! Он не занимался антисоветской деятельностью!
Периодически на меня орали:
— Жопой клюкву будешь давить! Сраной метлы не доверим! — дальше идет совсем нецензурщина. — Забудешь, как мать родную звали. Жить будешь, но срать не захочешь.
Стандартный набор угроз.
Допросы шли всю ночь. Били редко, но били.
Главное обвинение: «критика марксизма-ленинизма с идеалистических позиций» и «критика постановлений партии на идеологическом фронте» — имелось в виду постановление об Ахматовой и Зощенко, журналах «Звезда» и «Ленинград», о которых мы разговаривали совершенно издевательски.
Первые два-три допроса я ничего не подписывал.
Соседи по камере уговаривали:
— Зачем ты это делаешь? Тебя переведут в карцер, или в кондей. Оттуда в Сухановку, там будут бить. Все равно срок получишь, только инвалидом останешься.
На Лубянке уже знали, что в Сухановке бьют. Валенок наполняют камнями, чтобы не оставлять следов, и отбивают все: почки, печень. В Ванинской пересылке я потом встретил мужика, который прошел Сухановку, ничего не подписал, но едва мог ходить.
Про Сухановку ходила легенда, что там на нижнем этаже тюрьма, а на верхнем — дом отдыха гэбистов. Потом я узнал, что дом отдыха действительно был, но в отдельном домике во дворе. И придумал сюжет пьесы: на сцене — вид на два этажа. На верхнем — пара бильярдных столов, буфет, люди ходят, смеются, выпивают. А в нижнем этаже идет своя жизнь: моют полы, разносят баланду, ходят с парашами на оправку. Но придумывал я потом, а тогда я все подписал.
В то время не было людей, которые бы не признавались. Просто из-за атмосферы полной придавленности и понимания, что сопротивляться бесполезно.
Следователь писал за меня протоколы сам. 5–6 листов, всю ночь. «С какой антисоветской целью вы познакомились с вашим одноклассником Шмайном Ильей Ханановичем?» Ответ: «Будучи антисоветски настроен, я познакомился со Шмайном Ильей Ханановичем, чтобы совместно продолжать антисоветскую деятельность»…
Побег с Тайшета
Весной меня перевели из Лубянки в Бутырку. Везли в воронке с надписью «Хлеб». В дверях — маленькое окошко: солнце, женщины в светлых платьях… Ну, думаю, все. Прощай, Москва.
Чтобы я не пересекался с однодельцами, на этапе меня сунули к большесрочникам. Целый вагон тех, кому дали 25 лет. Там мы познакомились с Игорем и Жорой, тоже политическими. Подружились, договорились держаться вместе. И если случай представится, бежать.
4 августа мне исполнилось 20, а в начале сентября я попал на Тайшетскую пересылку.
Меня отправили на работу в гарнизон, там строительство какое-то шло. Сижу, ошкуриваю бревно. И вдруг слышу, дежурный кричит: нужно пять человек в карьер за песком. Думаю: вдруг окажется подходящий случай? Подошел к вахте. Пригнали еще четырех человек. Карьер в тайге, везут два конвоира. Ну, думаю, случай идеальный. Если захватить грузовик и разоружить солдат, не хватятся нас до вечера. Мы к тому времени нашли еще двух заключенных-фронтовиков — Волкова и Никольского, которые тоже решили бежать. На следующий день вызвались ехать на карьер впятером. Съездили, пригляделись…
План у нас был такой: когда машина подъезжает к карьеру и задом сдает, Игорь делает условный знак: приподнимает фуражку — и мы с Жорой бросаемся на двух часовых. Двое других наших должны выскочить с двух сторон из кузова и не дать убежать шоферу.
Дальше мы всех троих свяжем, двое наших переоденутся конвоирами… Конечно, в СССР оставаться нельзя. Ехать мы думали не на запад, а на восток, до границы с Китаем. Мы думали ночью перейти границу, забраться в грузовой поезд до Гонконга. Гонконг тогда был абсолютно свободной территорией, оттуда можно было рвануть в Америку.
Хороший был план.
Конвоирами оказались два молодых пацана. То ли они что-то почувствовали, то ли недавно на эту работу попали… Остановили машину в городе, купили махорки, дали нам по пачке… Конвоиры! Ситуация небывалая.
И вот: машина подъезжает к карьеру, начинает сдавать задом. Игорь приподнимает фуражку, бросается на правого конвоира и одним махом выхватывает у него винтовку. Я прыгаю на левого, рву винтовку — а он вцепился. Тут Жора как тигр вырывает винтовку, мы с конвоиром вываливаемся через борт. Помню: стоим на песке, винтовки у Жоры и Игоря, конвоир плачет: «Ребята, не убивайте!..»
Шофер пытается выскочить. Жора бьет штыком в заднее окошечко кабины, пытается шофера достать, и действительно его ранит. Тот выскакивает из кабины — и бегом.
Игорь кричит: «Стой, стрелять буду!» — он фронтовик, для него это не такое большое дело, — но винтовку опускает: опер-пост близко, выстрел услышат. И наш шикарный побег с форой до семи вечера сокращается до 15 минут, пока шофер добежит до оперпоста.
Времени связывать охрану и переодеваться уже нет. Жора заводит машину, мы прыгаем в кузов. Проезжаем километр — вдруг вода во все стороны брызжет. Случилась фантастическая вещь: у вентилятора отлетела лопасть, рассекла радиатор, и из него хлещет вода. Бросаем машину, идем пешком. Валежник перекрывает дорогу, продираться по тайге — это будь здоров. Выходим к болоту. Скачем по кочкам, а сзади уже крики, лай собак…
Потом, когда нас поймали, знакомая девушка-заключенная рассказала, что мыла полы, и вдруг видит: грузовик за грузовиком. Пересылка два дня не работала, весь гарнизон был в поисках, 100–150 солдат. Здесь же управление Озерлага, и у него под носом происходит побег с разоружением охраны, 58-я статья. ЧП колоссальное!
…Вышли мы из болота — стемнело уже. Видим: речка и привязана лодка, прямо садись и плыви. Попрыгали впятером, но лодка метров через пять начала тонуть. Выбрались, решили, что надо плыть по очереди. Первыми ушли Игорь, Волков и Жора. С тем, чтобы кто-то из них приплыл за нами со вторым фронтовиком Леней Никольским обратно.
Ждем. Ну, думаю, может, мы так на этом берегу и останемся. Это же беспощадное дело, жизнь на кон поставлена.
Ночь, ракеты, лай собак, крики. Идут, идут!
Наконец, в темноте вижу силуэт: Игорь. Забрал нас на тот берег. Оказалось, это остров, в полкилометра шириной.
Мы мокрые совершенно. Конец сентября, через два дня снег пошел. И у Лени начинают отказывать ноги, видимо, нервная реакция. Идти он не может. Бросить его тут? Найдут. Игорь предлагает Леню убить.
— Ты с ума сошел? — говорю.
— Ты не понимаешь, его найдут, и он укажет главное — куда мы пошли.
Выбор был: оставаться здесь, сидеть неизвестно сколько с этим Леней — или двигаться дальше. Игорь с Жорой и фронтовиком пошли. Думаю: ну как Леню одного бросить? Он же погибнет. Я остался с ним.
Заночевали мы вдвоем на земле, день просидели в стогу. Следующей ночью снег пошел… Голода я не чувствовал, но понимал, что нужно уходить. Нашел лодку, Леню кое-как дотащил. Винтовку спрятал на острове. Решил: если садиться на товарняк, надо быть без оружия. Пристали мы к берегу, я спрятал Леню в еще одном стогу и двинулся по протоке.
Скоро вышел к большой деревне. Захожу в первую же избу. Сидит пожилая женщина, вокруг маленькие дети, обед варится. Она страшно испугалась. Я объяснил, что я не блатной, ничего ей не сделаю. Спрашиваю: «Хлеб у вас есть?»
Налила мне супу, я сел за стол, стал есть. Тут дверь открывается, заходит ее дочь, молодая девчонка. Села напротив. Мать молча налила ей суп. Молча сидим, хлебаем суп… Доела, молча встала и ушла. До сих пор не знаю: она на меня донесла? Не она?..
В доме я не остался. Женщина рассказала, что сегодня у них весь поселок перевернули. «Я бы вас у себя оставила, — говорит. — Но если найдут, плохо мне будет». И я ушел.
К тому времени я уже ослабел, все мне было безразлично.
И вдруг из проезда между огородами выбегают два оперативника. То ли кто-то заметил, то ли девчонка донесла…
— Документы!
— У меня паспорт дома. Если надо, пойдем, покажу. Я близко живу, во-он зеленая крыша.
— Местный, что ль? — они разом успокоились. — Беглецов не видел?
— Не, не видал. Если увижу, скажу, я знаю, где вы сидите.
И они бы меня отпустили! Но тут из этого же проезда выскакивает лейтенант. Сбивает с меня шапку, видит бритую голову.
— Штаны расстегни! — нас ведь всюду брили. Ну что я тут буду, сопротивляться? Признался.
Один из оперативников, поняв, что я их чуть не провел, изо всей силы ручкой нагана бьет меня в ухо (я потом плохо слышал месяца два). Говорят:
— Никольский сказал, ты винтовку на острове оставил.
Оказывается, из стога Леня выпал, и какая-то группа на него набрела.
— Сейчас солдат с тобой за винтовкой пойдет.
И я понимаю: все, меня убьют.
Конвоиры взбешены! Пока мы шли, один, самый злой, прикладом бил меня в спину и приговаривал: «Придем — из этой же винтовки тебя застрелю». Так бы они и сделали! Написали бы потом акт: застрелен при попытке бежать. И все. Сбежавших ловили, убивали, трупы клали возле вахты. Я дважды видел: голые, собаками покусанные, с выколотыми глазами.
Со мной было бы то же, но тут случилось просто божье чудо. Подошли к лодкам, слышу: «А вы куда?» — явно с акцентом.
— Вот, суку поймали, на острове винтовку спрятал.
— Я с вами.
Оглядываюсь — там еще один отряд, старшина и три-четыре солдатика. Старшина садится в лодку, прямо напротив меня, на коленях автомат. «Вы, ребята, потише, не утопите, я человек ташкентский, плавать не умею». Они багром отталкиваются, гребут…
— Старшой, я тоже с Ташкента, — говорю. Я на самом деле там три года в эвакуации прожил. С русским это не сработало бы, а он азиат, узбек, мусульманин…
— Че ты врешь! Где жил?
— Улица Хамза.
— Хамза? Да у меня дом рядом!
Плывем, рассказываю ему про Ташкент. Как там караванами верблюды ходят, как на каждом шагу базарчики и даже в войну было изобилие еды…
Подошли к острову. Полянка, стог сена. Достаю из стога винтовку. Сцена такая: стою я, трое солдат и старшина, автоматы направлены на меня.
И тут солдат, который меня бил, подходит к старшине и шепчет что-то на ухо. Я впился в лицо старшины. А тот выслушал и отрицательно головой покачал. Не разрешил он меня убить.
Жажда воли
Избили меня, конечно, до полусмерти… Смутно помню: привозят на станцию. Комнатушка, в полусумеречном состоянии лежит Леня. Какая-то бабка с крынкой молока пытается войти, ее выгоняют. Наручников нет, нас связывают веревкой. Платформа, поезд, Тайшет. На станции снова бьют сапогами. Потом штаб. Какой-то майор: «На х… вы их привели! Их стрелять надо!»
Потом меня и Леню ведут надзиратели из тюрьмы. Леня идти не может, висит на двух конвоирах. У него то и дело спадают штаны, конвоиры кричат: «Подтяни ему штаны!» Догоняю, подтягиваю, через сто метров — снова.
И вот — Тайшетский центральный изолятор. Холод жуткий, курева нет. Следствие — месяц. Оказывается, задержали Жору и Волкова. А Игоря — нет.
Жора от остальных отстал. Залез в стог, но неудачно, и когда прочесывали лес, два солдата его заметили.
А Волков с Игорем добрались до того самого состава, который довез бы до китайской границы. Навстречу попались оперативники, кричат: «Стой, кто идет?»
Игорь стреляет в одного из оперативников, они с Волковым валятся по разные стороны насыпи и уходят. Волкова через день поймали. А Игорь ушел.
Через месяц привели нас четверых на суд. Пустой зал, сидят человек 10 конвоиров прямо с автоматами.
Жора, такой наивный, начинает рассказывать, как он штыком конвоира пырнул. Судья орет: «Да ты что! Вышку получить хочешь?» Жора заткнулся.
За побег давали статью 58–14 (контрреволюционный саботаж): до 25 лет срока или расстрел. Конвой, конечно, ждал, что нам дадут как минимум 25. Но судья то ли дела наши смотрел, то ли пожалел… Дал нам по 10.
Конвоиров тоже посадили, дали по три года за халатность. А Игорь ушел. Когда через семь лет я вышел на волю, меня вызвали в МУР и спросили, не слыхал ли я о нем. Тогда шла волна освобождений, в КГБ пришла мать Игоря и спросила: где мой сын? А они не знают…
Что с ним стало, неизвестно. Может, ушел в Китай. А мог сломать ногу в тайге или встретиться с беглецами-урками. Но он смелый и осторожный парень, у него была винтовка и два подсумка патронов. И стрелять он умел.
Жажда воли… Она есть у всех, но не все пытаются ей следовать.
Зачем было бежать? Главное — избавиться от неволи. Два дня на острове — два дня на воле.
Рабы КПСС
В мое время на Колыме такого, как при Шаламове, уже не было, стало даже легче, чем в Тайшете. Хотя на общих работах, зимой, в ледяных забоях, работая по 14–16 часов, все равно доходили за месяц. Конечно, и при нас был страшный голод. Я весь пропитан был чувством голода, зациклен на нем. Но если раньше изводили до смерти, то теперь только до доходиловки.
Курева не было никакого. Знаете, как у нас курили? Получишь в посылке махорку, закуришь в бараке — обязательно к тебе подойдут человек пять. Стоят, ждут, чтобы дал докурить. Последний брал окурок тоненькими палочками вроде спичек, когда там две-три крошки оставались от этой махры. Было даже выражение: «Дай губы обжечь».
Блатных было немного. Попадали они к нам двумя путями: или за побег, получив 58–14 (контрреволюционный саботаж. — Авт.), или убив надзирателя и получив 58 — 8 (террористический акт против советской власти. — Авт.). Если не расстреляют, попадешь в политический лагерь, где безопасно и можно не работать. И они придумали татуировать на лбу «Раб КПСС». Вначале это проходило: татуировку вытравляли, блатных сажали на политзону. Потом с Лубянки пришел приказ это прекратить: уж слишком прямо, в самое нутро проблемы попадала надпись. Одного-двух блатных расстреляли, и колоть «Раба» перестали.
Виктор Красин после возвращения с Колымы. 1955
Лагерные начальники жили как бояре, у них всегда была прислуга из заключенных. Знакомый парень рассказывал, как его взяли укладывать печку в дом лагерного начальника. Жены начальства, совершенно его не стесняясь, обсуждали при нем, как они спят со своими мужьями. Это почти Рим, где патрицианки купались при рабах, потому что не считали их за людей.
«Тиран подох!»
Про смерть Сталина я узнал от вольняшки.
Вольнонаемные ехали на Колыму, как мы говорили, «за длинным рублем и коротким сроком». Молодые ребята, получали они очень хорошие деньги, и два раза в месяц начинался пропой, драки, поножовщина и все прочее, после чего многие к нам же и садились.
И вот однажды я обратил внимание, что Семен Щутинский, мой приятель, вольняшка, который сам отсидел 10 лет по 58-й, ходит с потерянным совершенно лицом. Спрашиваю: «Война, что ли, началась?» Молчит, жмется. А из кармана газета торчит. Подбегаю, выхватываю, а там в траурной рамке Сталин. Я как помчался по цеху: «Подох! Тиран подох!»
Вообще за это можно было получить новый срок, но такое экстренное событие, что я не сдержался. Все отреагировали страшной радостью. Скрыть ее было невозможно, да и что может сделать охрана, если три тысячи человек громко радуются?
Семен ужасно перепугался — им запретили нам об этом говорить — бегал за мной и кричал: «Витя, отдай газету!» Охрана была страшно растеряна. У нас был клуб МВД, на котором висели портреты членов политбюро. Через пару дней их сняли, немного подумали и вместо всего политбюро повесили одного Ленина.
После смерти Сталина у нас сняли номера с одежды. Разрешили волейбол, натянули сетку. Повесили репродуктор: музыка появилась, радио. Перестали запирать на ночь барак, сняли решетки с окон. Кино стали привозить с поселка…
В 1954-м меня привезли в Москву на пересмотр дела. Я сидел и дрожал, у меня было второе дело за побег, и я боялся, что придется три-четыре года за него досидеть. Но прокурор заявил: не было бы первого дела — не было бы побега. И меня выпустили.
Массово освобождать начали летом 1956-го, когда Хрущев распорядился послать по лагерям комиссии пересматривать дела политзаключенных.
Друзья рассказывали, что дела пересматривали с пушечной скоростью, в день освобождали 200–300 человек. На Д-2 было три тысячи человек. После отъезда комиссии осталось 150. Это были охранники лагерей, каратели, которые вылавливали и расстреливали партизан… Получается, действительно виноваты в лагерях были всего пять процентов.
ФОТОГРАФИЯ ТОВАРИЩА ПО ПОБЕГУ
«Жора — мой товарищ по побегу, фото снято на Колыме. Жора — парень из Донбасса, работал слесарем на угольной шахте, вместе с другом разбрасывал листовки, где призывал шахтеров бастовать против коммунистов, да и получил 25 лет. Познакомились мы на этапе. Мы оба хотели бежать, только бежать. Главное было — избавиться от неволи. Два наши дня в бегах — два дня на воле. Бежать стоило даже ради них».
ТАМАРА ПЕТКЕВИЧ 1920, УКРАИНА
Арестована в 1943 году по обвинению в контрреволюционной деятельности. Приговор — семь лет лагерей. Этапирована в Джангиджирский женский лагерь, затем в Коми. Работала на лесоповале, медсестрой, актрисой в лагерном театре. Родила сына Юрия, которого отдала на воспитание отцу, врачу лагерной больницы, и после освобождения не смогла вернуть. Освободилась в 1950 году. Живет в Санкт-Петербурге.
ПРОФИЛЬ УЧИТЕЛЯ
Гипсовый барельеф-автопортрет, изготовленный режиссером Александром Осиповичем Гавронским — руководителем Петкевич в лагерном театре: «Он мо сделать театральную актрису даже из дерева».
“ В 1937-м году я стала дочерью врага народа. Меня сразу пересадили с первой парты на последнюю. Когда на комсомольском собрании поставили вопрос о моем исключении, те, с кем я дружила, подняли руки «за». Это было ошеломление!
В 1943 году меня арестовали. Мир рухнул. Я узнала, что мои самые близкие подруги писали на меня доносы, за мной следили. Казалось, что скверными, нечистыми руками обнажена вся моя жизнь.
Родион Титкович Мамчур
«Если посадили справедливо, человек к этому хорошо относится. А если зря — очень злым человек делается»
1956 … 1959
Проходил срочную службу солдатом конвойных войск Усть-Вымлага (Коми АССР).
После демобилизации остался в Коми, работал трактористом, шофером.
Живет в поселке Аджером (Республика Коми).
Откуда я знаю, почему меня послали в конвой! Я хотел на Дальний Восток в танкисты, а попал в Коми в чекисты. Меня называли «гражданин начальник».
Я был просто стрелок. Берешь бригаду — 25 человек, наряд и ведешь в лес. Все. Там они работают, а ты охраняешь. К обеду приносят тебе пообедать: первое, второе и суп. У заключенных повара были другие, продукты со склада привозили отдельно. Но кормили тоже нормально. Если они работали нормально. В лагере был ларек такой, магазинчик. У него (заключенного. — Авт.) на счету зарплата. Он придет, что хочет по списку возьмет. И все. И нормально. Но это тот, который работал. А который не работал — ему не на что было. Что дадут, то поел. И все. И нормально.
Моя задача была, шоб они не разбежались. Разбегутся — это уже ай-яй-яй.
Нам дають инструктаж, чтоб ты был готов ко всему. Всегда предупреждали: если надо выстрелить, навести порядок — только в воздух. А то был один узбек у нас, стрельнул в землю. Пуля попала в камень, камень срикошетил и кусо-о-очек, ча-а-асть пули — заключенному в сердце! Ему оставалося только две недели еще посидеть — и все. Ну, дали охраннику срок, посадили, конечно, ну что толку с этого? Человека-то нету…
А на поражение мы не стреляли. Это можно, только если он уже топор на меня поднял. А если в лес уходит — можно ему и по ногам стрельнуть, да хоть куда.
Родион Мамчур. 1950-е
Ну, драки в зоне бывали. Если драка, солдат поднимают по тревоге, вызывають, ворота открывають, те с оружием заходят, и все. И тишина. И собак побольше, служебных.
Кто не сопротивлялся — хорошо, а если кто сопротивлялся — приходилось применить и силу. Ну, там, в карцер отправить. Но это единицы. В основном разбиралися спокойно. Хотя одна зона була — ой-ей-ей. Я сам не видел, но знаю, туда пригнали солдат и применили оружие. Кто-то погиб, кого-то — в карцер. И все. Но политические очень мало бузили. Уголовники — эти да…
Конечно, на лице-то у них не написано, уголовник он или нет. Но у меня ж опыт. Когда я служил второй год, уже видел: уголовник ли, будет ли бежать… Они-то бежали почему? Из-за долгов. Проиграл в карты — куда ему деваться? Или убежит, или прибьют. Вот тебе и весь сказ.
Если беглый, но ведет себя мирно, никто его бить не будет. А если я за ним, скажем, пробежал килметров 50 с полной этой (выкладкой. — Авт.), есть у меня злость. Дам я ему один раз — и все. И на этом кончается. Очень сильно бить нельзя, это уголовно наказуемо. Да и я же не хулиган тоже.
Побег с оружием у нас был один. Офицер напился, а был с пистолетом. Заключенный взял у него этот пистолет, взял и ушел. Так мы за им два дня бегали. По тайге! Ну, хороший пес у нас был! След взял — и пошел, и пошел. А мы тут как тут, следом. Тот подходит, хочет стрелять, а мы его за руку — и все.
Боялись, конечно! Боишься — не боишься, а приказ есть приказ. Вот так-то, золотко.
С заключенными мы разговаривали, беседы вели. Не воспитательные, а просто. Откуда, как, чего. Как попал. Это интересно. Мы же молодые были, господи-и-и!
Большинство говорили, что где-то что-то не то сказали или не понравились кому. Так им за это 15 лет или 25, да еще пять, как говорится, по рогам. Да я и сам понимал, что сажают несправедливо. Если человека посадили справедливо, он это знает и к этому очень хорошо относится. А если зря — очень злым человек делается. Ну, что поделать…
Сам-то я ко всем одинаково относился. В лесу все одинаковы. Всем надо пилить, валить, работать.
Ке-ге-бе проводили… ну, как сказать? Собрания. Соберут, скажут: так и так, это нельзя, то нельзя, должны соблюдать. Не следует трепать языком, нельзя говорить, что батька Сталин дурак.
Прорабатывать нас не прорабатывали, но охранники все равно считали, что политические — бандиты, враги народа! Но я с ними разговаривал, доказывал, что не может быть такого, что вот он хороший, а ты его называешь так. Старался. Иногда получалось. А нет — так плюнул и ушел.
Вначале у нас смесь была: и политические, и уголовники. А потом начали настоящих, отпетых, у которых по два-три срока было, отправлять в строгий лагерь. А политических оставляли. Столько артистов, было! Московских!
Которые пожилые люди, они просто выдерживали, молча. А молодежь-то, бывало, могла и матом поругаться, и все. Силу применить к мене они не могут, а то я могу применить к ним оружие, это очень им ясно. А за мат могу оформить докладную, и они двое-трое суток в карцере отсидят. А могу и не оформлять. Много раз бывало так: подходит бригадир: «Это хороший работник! Ну, взял, выпил, напакостил. Не оформляй бумаги, не сажай». Что делать? Если ему оформить, это будет ему нарушение, его зачетов (рабочих дней. — Авт.) лишат. Я не оформлял. Зачем мне нужно, чтоб на меня кто-то злился, хоть он и виноват? Пускай идет себе спокойно на работу.
Где они алкоголь брали? О, это страшное дело! Завозили любым путем, и много. Сами делали брагу. Один случай смешной был… Пошли по лагерю проверять огнетушители. Смотрим — все пустые. Пена — она как пиво, из сусла. Вот все и выпили. О-о, как начальник забегал! (Смеется.)
Жили мы не в бараке, а в казарме — и солдаты, и охрана. Около лагеря, ясное дело. Метров за 300 уже лагерный забор, там две тысячи их и жили. Ну, а мы-то на свободе.
Я раньше не знал, что это такое — лагерь. Но я попал, куда попал, и обязан служить. У нас було так: отслужил срочную — и решаешь вопрос: служить дальше или уходить. Большинство уходили. Не нравилось мне все это. Между прочим, меня однажды даже вызывали — я уж три года как из армии пришел: так и так, иди к нам в лагерь работать. Квартиру давали! Жене работу давали! Я говорю: «Нет, ребята. Хватит мне на это все смотреть».
Жена Родиона Галина. Ее отец был лагерным охранником и погиб на войне. Галину удочерил политзаключенный из поселка Аджером
Хотя у нас тут везде лагеря. Как от Котласа начинались, так шли, шли и шли. У нас в поселке тоже лагерь был. Вон в лесу могилы. Здесь, наверное, не одна тысяча лежит. Кормить их было нечем, привозили — и они гибли от голода. Да вон там, в лесу, где мы грибы собираем. На кладбище белые грибы знаешь какие растут! А что, я буду обходить? Столько лет прошло…
БУШЛАТ ИЗ КОМИ
«Дубленка осталась от прабабушки моей жены. Как из армии пришел, не в чем было работать. Взял эту дубленку, понес к портному, чтобы перешил мне бушлат. А тот не берет! Потому что портной наш раньше работал главным бухгалтером всего Усть-Вымлага, а тесть мой в этом же лагере сидел».
Витаутас Казюленис