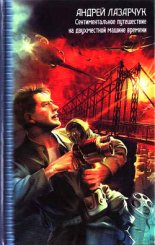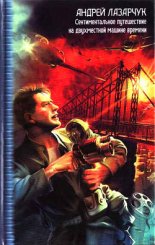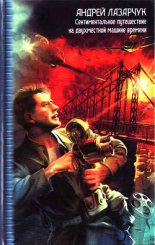Возвращение короля Вершинин Лев

Читать бесплатно другие книги:
«Все хорошо» – самое «стругацкое» произведение Андрея Лазарчука. К конкретному произведению Стругацк...
Каждый рассказ Андрея Лазарчука – это мир, зачастую страшный, но предельно реальный и честный, без п...
Отец спрятал Кузнечика в таежной избушке, пытаясь спасти его от невзгод войны. Но от страшной войны ...
Гордое имя «Девушка с приветом» Юля Носова заслужила у соседей, когда бегала вокруг дома за пуделем ...
Сирота Фарах, живущий на краю пустыни, далек от мыслей о сражениях и битвах, он подмастерье деревенс...