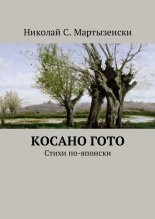Спасти человека. Лучшая фантастика 2016 (сборник) Дивов Олег
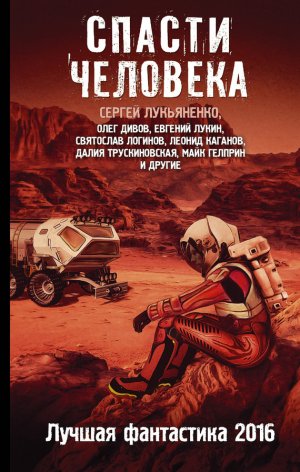
Читать бесплатно другие книги:
Шестнадцать лет счастливого брака, двое детей… Михаил знал, что его жена необычная женщина, но того,...
Россия заново открывает для себя Сталина, но пора открывать заново и Ленина. Возглавив Россию в тяже...
Эта книга является попыткой погрузиться в эстетику настоящей японской классической поэзии не через п...
Как утончённы ваши чувства,В любви вы смотрите вперёд,А всё ж любовь — она искусство,Рождает пламень...
Алиса Сэлмон – молода, талантлива и амбициозна.Впереди у нее – целая жизнь…Точнее, могла бы быть. Ес...
Машинное обучение преображает науку, технологию, бизнес и позволяет глубже узнать природу и человече...