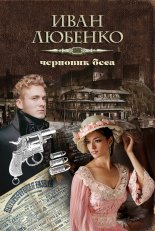Мои воспоминания Крылов Алексей
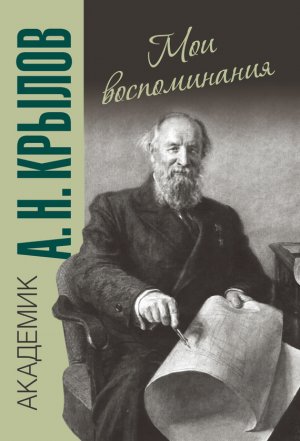
Не могу без душевной боли вспомнить первую же восторженную телеграмму главнокомандующего о взятии Львова и Галича. Конечно, великий князь Николай Николаевич был тут ни при чем и просто не заметил предвзятости составленного текста телеграммы: «Доблестные войска генерала Рузского взяли Львов, а армия Брусилова взяла Галич».
Все солдаты и офицеры 8-й армии были поражены: почему же армия генерала Рузского — «доблестная» по первым же шагам, а 8-я армия — только просто армия, тогда как доблесть-то беспримерная была именно в войсках 8-й армии, сражавшейся вдоль всей реки Гнилая Липа и до самого местечка Бобрка не щадя своих сил и жизней бойцов. Вследствие этих боев, повторяю, австрийцы и принуждены были оставить Львов, а 3-я армия пришла на готовое. С первых же шагов нам бросились в глаза несправедливость и пристрастие штаба Юго-Западного фронта. И чем дальше развертывались события, тем очевиднее это было. Сгущать краски к лучшему в делах любимчиков своих ради получения высших наград и умалять успехи других не считалось неприличным. Я молчал, считая это мелочью и думая только о конечном результате для России. Да я и не мог, по условиям дисциплины, ставить таких точек над i. Но в моих войсках разговоров и недовольства было много. Штаб Юго-Западного фронта играл с огнем, допуская такую злую неправду. Умиравшие и искалеченные солдаты хорошо это понимали.
Уже в самом начале войны, когда наша армия быстро продвигалась вперед, меня очень озабочивали ее тыл и связь, которую необходимо было держать штабу армии как с передовыми войсками, так и со штабом фронта. Тыловые учреждения далеко не были сформированы, автомобилей было очень мало, транспортов недостаточно, телеграфных колонн тоже; что же касается санитарной части, то она была лишь в самом зародыше, и, как дальше будет видно, во время первых сражений положение раненых было очень тяжелое. Вообще тыл наших армий в начале кампании был, в сущности, в хаотическом состоянии и более приспособлен к стоянию на месте, то есть к обороне, нежели к работе во время энергичного наступления, которое выпало нам на долю.
В общем, следует признать, что в техническом отношении мы были подготовлены неудовлетворительно и что если бы военное министерство не занималось преимущественно войной с Государственной думой, а шло бы с ней рука об руку, то результат подготовки получился бы иной. Объяснение, что мы предполагали быть готовыми лишь к 1917 году, и что война застала нас врасплох, только усугубляет вину, ибо нам было известно, что немцы подготовляются к 1915 году, а следовательно, мы также должны были, чего бы это ни стоило, подготовиться к этому году, а не к 17-му. И это было хотя и трудно, но возможно; мы же готовились недостаточно энергично, спустя рукава, не желая привлекать к этой работе общественные силы из личных политических соображений внутреннего порядка, и дошли до того, что начали войну, имея только по 950 выстрелов на легкое орудие, а тяжелых орудий почти совсем не имели.
Еще хуже была у нас подготовка умов народа к войне. Она была вполне отрицательная.
Ни для кого не было секретом, что после Франко-прусской войны 1870–1871 гг. Германия, в опьянении от своих побед, стала стремиться к всемирной гегемонии. В этом отношении Россия, ее старая союзница и пособница, мешала ее планам на Ближнем Востоке, так же как и Франция с ее идеей о реванше и стремлением вернуть Эльзас и Лотарингию. Еще в большей степени мешала Германии Англия с ее флотом и твердо установившейся мировой торговлей.
И вот, в особенности с воцарением императора Вильгельма II, начинается упорное планомерное развитие военных (сухопутных и морских) сил Германии во главе нового тройственного союза — Германия, Австро-Венгрия и Италия. При этом моральная подготовка всех слоев германского народа к этой великой войне не только не была забыта, но была выдвинута на первый план, и народу, столь же упорно, как и успешно, всеми мерами внушалось, что Германия должна завоевать себе достойное место под солнцем, иначе она зачахнет и пропадет, и что великий германский народ, при помощи своего доброго немецкого бога, как избранное племя, должен разбить Францию и Англию, а низшую расу, славян, с Россией во главе, обратить в удобрение для развития и величия высшей, германской, расы. Пришлось и всем остальным народам Европы волей-неволей напрягать свои силы для подготовки к борьбе за свою свободу и интересы. Императору Александру III не оставалось другого решения, как сойтись с Францией, усердно подготовлять свой западный театр военных действий и развивать свои вооруженные силы.
При Николае II бестолковые колебания расстроили нашу армию, а всю предыдущую подготовку западного театра свели почти к нулю. Поощряемые Германией, мы затеяли дальневосточную авантюру, во время которой немцы наложили на нас крупную контрибуцию в виде постыдного для нашего самолюбия и разорительного для нашего кармана торгового договора. Мы позорно проиграли войну с Японией, и такими деяниями, нужно, по справедливости признать, само правительство ускорило революцию 1905–1906 гг. В годы японской войны и первой революции наше правительство ясно подчеркнуло и указало народу, что оно само не знает, чего хочет и куда идет. Спохватились мы в своей ошибке довольно поздно, после аннексии Боснии и Герцеговины, но моральную подготовку народа к неизбежной европейской войне не то что упустили, а скорее, не допустили.
Если бы в войсках какой-либо начальник вздумал объяснить своим подчиненным, что наш главный враг — немец, что он собирается напасть на нас и что мы должны всеми силами готовиться отразить его, то этот господин был бы немедленно выгнан со службы, если только не предан суду. Еще в меньшей степени мог бы школьный учитель проповедовать своим питомцам любовь к славянам и ненависть к немцам. Он был бы сочтен опасным панславистом, ярым революционером и сослан в Туруханский или Нарымский край. Очевидно, немец, внешний и внутренний, был у нас всесилен, он занимал самые высшие государственные посты, был persona gratissima при дворе. Кроме того, в Петербурге была могущественная русско-немецкая партия, требовавшая во что бы то ни стало, ценою каких бы то ни было унижений крепкого союза с Германией, которая демонстративно в то время плевала на нас.
Какая же при таких условиях могла быть подготовка умов народа к этой заведомо неминуемой войне, которая должна была решить участь России? Очевидно, никакая или, скорее, отрицательная, ибо во всей необозримой России, а не только в Петербурге немцы царили во всех отраслях народной жизни.
Даже после объявления войны прибывшие из внутренних областей России пополнения совершенно не понимали, какая это война свалилась им на голову — как будто бы ни с того ни с сего. Сколько раз спрашивал я в окопах, из-за чего мы воюем, и всегда неизбежно получал ответ, что какой-то там эрц-герц-перц с женой были кем-то убиты, а потому австрияки хотели обидеть сербов. Но кто же такие сербы — не знал почти никто, что такое славяне — было также темно, а почему немцы из-за Сербии вздумали воевать — было совершенно неизвестно. Выходило, что людей вели на убой неизвестно из-за чего, то есть по капризу царя.
Что сказать про такое пренебрежение к русскому народу?! Очевидно, немецкое влияние в России продолжало оставаться весьма сильным. Вступая в такую войну, правительство должно было покончить пикировку с Государственной думой и привлечь, поскольку это еще было возможно, общественные народные силы к общей работе на пользу родины, без чего победоносной войны такого масштаба не могло быть. Невозможно было продолжать сидеть на двух стульях и одновременно сохранять и самодержавие и конституцию в лице законодательной Думы.
Если бы царь в решительный момент жизни России собрал обе законодательные палаты для решения вопроса о войне и объявил, что дарует настоящую конституцию с ответственным министерством и призывает всех русских поданных, без различия народностей, сословий, религии и т. д., к общей работе для спасения отечества, находящегося в опасности, и для освобождения славян от немецкого ига, то энтузиазм был бы велик и популярность царя сильно возросла бы. Тут же нужно было добавить и отчетливо объяснить, что вопрос о Сербии — только предлог к войне, что все дело — в непреклонном желании немцев покорить весь мир. Польшу нужно было с высоты престола объявить свободной с обещанием присоединить к ней Познань и Западную Галицию по окончании победоносной войны. Но это не только не было сделано, но даже на воззвание Верховного главнокомандующего к полякам царь, к их великому недоумению и огорчению, ничем не отозвался и не подтвердил обещания великого князя.
Можно ли было при такой моральной подготовке к войне ожидать подъема духа и вызвать сильный патриотизм в народных массах?! Чем был виноват наш простолюдин, что он не только ничего не слыхал о замыслах Германии, но и совсем не знал, что такая страна существует, зная лишь, что существуют немцы, которые обезьяну выдумали, и что зачастую сам губернатор — из этих умных и хитрых людей. Солдат не только не знал, что такое Германия и тем более Австрия, но он понятия не имел о своей матушке России. Он знал свой уезд и, пожалуй, губернию, знал, что есть Петербург и Москва, и на этом заканчивалось его знакомство со своим отечеством. Откуда же было взяться тут патриотизму, сознательной любви к великой родине?! Не само ли самодержавное правительство, сознательно державшее народ в темноте, не только могущественно подготовляло успех революции и уничтожение того строя, который хотело поддержать, не взирая на то что он уже отжил свой век, но подготовляло также исчезновение самой России, ввергнув се народы в неизмеримые бедствия войны, разорения и внутренних раздоров, которым трудно было предвидеть конец.
Первый акт революции (1905–1906 гг.) ничему правительство не научил, и оно начало войну вслепую, само подготовляя бессознательно второй акт революции.
Войска были обучены, дисциплинированны и послушно пошли в бой, но подъема духа не было никакого, и понятие о том, что представляла собой эта война, отсутствовало полностью.
Невольно является вопрос: что за государственные люди окружали царя и что в это время думали ближние придворные чины всех рангов?
Подводя итог только что высказанному, я должен подтвердить твердое мое убеждение, что император Николай II был враг вообще всякой войны, а войны с Германией в особенности.
По традициям русского императорского дома начиная с Павла I и в особенности при Александре I, Николае I и Александре II Россия все время работала на пользу Пруссии, зачастую во вред себе, и только Александр III, отчасти под влиянием своей супруги-датчанки, видя печальные последствия такой политики в конце царствования своего отца, отстал от этой пагубной для России традиции. Но сказать, что он успел освободить Россию от немецкого влияния, никак нельзя, и по воцарении слабодушного Николая II осталась лишь кажущаяся наружная неприязнь к Германии. Большая же программа развития наших вооруженных сил выплыла не столько для того, чтобы действительно воевать с Германией, сколько для того, чтобы обеспечить этим мир и успокоить общественное мнение, понимавшее, что хотим мы или не хотим, но войны не избежать. Сам же царь едва ли верил, что эта война состоится. Обвинять Николая II в этой войне нельзя, так как не заступиться за Сербию он не мог, ибо в этом случае общественное негодование со стихийной силой сбросило бы его с престола, и революция началась бы, с помощью всей интеллигенции, не в 1917, а в 1914 году. Несомненно, что этим предлогом воспользовались бы немедленно все революционные силы России. Виноват же царь в том, что он сам не знал, чего хотел, не отдавал себе отчета в истинном положении дела и, окруженный лестью, самоуверенно думал, что мир и война в его руках; он был убежден, что он — тонкий дипломат, умело ведущий внешнюю и внутреннюю политику России по собственному произволу, невзирая на столь недавний урок японской войны и революции 1905–1906 гг.
В заключение этой главы скажу: я всю жизнь свою чувствовал и знал, что немецкое правительство и Гогенцоллерны — непримиримейшие и сильнейшие враги моей родины и моего народа, они всегда хотели нас подчинить себе во что бы то ни стало; это и подтвердилось последней всемирной войной. Что бы ни расписывал в своих воспоминаниях Вильгельм II (берлинское издание 1923 года), но войну эту начали они, а не мы; все хорошо знают, какая ненависть была у них к нам, а не наоборот.
В этом отношении вполне понятна и моя нелюбовь к ним, сквозящая со страниц моих воспоминаний.
ОТ ПРОСКУРОВА ДО ЛЬВОВА
Вверенная мне армия к концу июля была сосредоточена на линии Печиски — Проскуров — Антоновцы — Ярмолинцы. имея две кавалерийские дивизии выдвинутыми перед фронтом армии. 24-й корпус только головой своей начал подходить к месту сосредоточения, так что в действительности у меня к началу военных действий было не четыре, а три неполных корпуса, так как 1-я бригада 12-й пехотной дивизии была расположена на правом берегу реки Днестр с самостоятельной задачей. К ней должны были подойти три второочередные кавказские казачьи дивизии, но к моменту перехода в наступление начали прибывать только их первые эшелоны.
Сведения о противнике были у нас довольно скудны, и, правду говоря, наша разведка в общем была налажена мало удовлетворительно. Воздушная разведка вследствие недостатка и плохого качества самолетов была довольно слабая; тем не менее то, что мы знали, получалось главным образом через ее посредство; агентов шпионажа у нас было мало, и те, которых мы наскоро набрали, были плохи. Кавалерийская разведка проникнуть глубоко не могла, так как пограничная река Збруч была сплошь и густо занята неприятельскими пехотными заставами. В общем нам было известно, что пока против нас больших неприятельских сил не обнаружено; предполагалось, что неприятельские войска сосредоточиваются на Серете, по линии Тарнополь — Трембовля — Чортков, но в каком количестве и как расположены их силы, узнать не удалось.
На Збруче кроме пехотных застав 11-го австрийского корпуса находилась еще кавалерийская дивизия, которая чрезвычайно энергично действовала на нашем фронте. Между прочим, она произвела нападение на 2-ю сводную казачью дивизию, которая находилась впереди левого фланга армии у Городка. Наша казачья дивизия была поддержана четырьмя ротами пехоты, которые были ей временно приданы. Для встречи подходящего к Городку противника наша пехота заняла густою цепью околицу села, а также поблизости находившуюся возвышенность, имея уступом за левым флангом Кавказскую казачью бригаду. Пулеметы же казачьей дивизии были поставлены на этом же фланге так, что могли обстреливать всю местность впереди залегшей пехоты. Конно-артиллерийский дивизион стал на позицию за селом, а Донскую казачью бригаду начальник дивизии взял к себе в общий резерв.
Австрийская конница, подходя к Городку, развернула сомкнутый строй и без разведки, очертя голову понеслась в атаку на нашу пехоту в столь неподходящем строю. Частью артиллерийский, а затем ружейный огонь встретил эту безумно храбрую, но бессмысленную атаку. Вскоре и пулеметы наши стали осыпать австрийцев с фланга, а кавказские казаки ударили по ним с фланга и тыла. При этих условиях, очевидно, результат австрийской атаки оказался весьма для них плачевным: трупы перебитых людей и лошадей остались лежать на поле битвы, одиночные люди и лошади бегали по полю по всем направлениям, а остатки этой дивизии бросились беспорядочной толпой наутек. Распоряжался этим боем с нашей стороны состоявший в моем распоряжении генерал-майор Павлов. Начальник же дивизии ограничился тем, что сидел при резерве и не допустил свежую бригаду резерва преследовать разбитого врага. По этой причине остатки австрийской дивизии с ее артиллерией и пулеметами благополучно ушли за Збруч. Пришлось удалить этого незадачливого начальника, которого заместил генерал Павлов.
Было получено приказание нашим армиям перейти 5 августа в наступление, не ожидая окончания сосредоточения войск. Такая спешка была вызвана необходимостью помочь англо-французам, которым приходилось плохо, чтобы нашими наступательными действиями оттянуть хотя бы часть вражеских сил с их Западного фронта на Восточный, против нас. В это-то время выяснилось, что на губернский город Каменец-Подольск наступает колонна противника приблизительно силой в одну бригаду пехоты с артиллерией и двумя-тремя эскадронами кавалерии. По этому поводу мною была получена телеграмма главнокомандующего, предлагавшего мне направить к Каменец-Подольску достаточные силы, чтобы прикрыть этот город от вражеского нашествия. На это я ответил, что разбрасывать свои силы перед самым началом боевых действий я не считаю возможным, а что когда я перейду в наступление и вступлю на австрийскую территорию, то эта колонна, боясь быть отрезанной, сама побежит назад, без всякого понукания; разбрасываться же для второстепенных целей нахожу вредным. Главнокомандующий сдался на мои доводы и отменил свое распоряжение. Австрийцы действительно заняли Каменец-Подольск 4 августа, а семь рот ополчения, находившихся там, отошли без боя к Новой Ушице; австрийцы же 6-го числа, узнав о нашем переходе через Збруч, спешно покинули Каменец-Подольск и полностью вернули контрибуцию, которую собрали с жителей города. Это было совершенно естественно, потому что они хорошо понимали, что если они возьмут контрибуцию с жителей Каменец-Подольска, то и я, в свою очередь, заняв Тарнополь, Трембовлю и Чортков, не пощажу этих городов и обложу их такой же, если не большей, контрибуцией.
5 августа войска вверенной мне армии быстро перешли через реку Збруч, являвшуюся нашей государственной границей. Они были встречены незначительным сопротивлением застав австрийской пехоты и остатками конной дивизии, только что разбитой у Городка, причем у австрийцев на Збруче никаких резервов не оказалось. Во время перехода через Збруч сгорел дотла Гусятин. Почему он сгорел и кто его поджег, так и осталось невыясненным. Несколько большее сопротивление встретили мы при форсировании реки Серет, а особенно у городов Тарнополь и Чортков. Немногочисленные австрийские войска, оказавшиеся тут, были разбиты наголову и было взято несколько орудий, пулеметов и пленные. Вслед за сим более серьезный бой разгорелся на реке Коропец, но и тут противник обратился в бегство; была захвачена почти вся его артиллерия, много огнестрельных припасов, а также много пленных. При допросе они показали, что были уверены, что мы еще на Серете и что столкновение с нами оказалось для них большим неприятным сюрпризом.
Моя армия имела три корпуса в первой линии и уступом за левым флангом 24-й корпус, который не поспел сосредоточиться ко дню нашего перехода в наступление и был мною направлен к укрепленному городу Галич, ускоренной атакой которого я и предполагал заняться. Но тут я получил телеграмму главнокомандующего, в которой значилось, что 3-й армии приходится очень тяжело и что мне предписывается оказать ей усиленную поддержку.
Действительно, 3-я армия, тесня противника, все с большим и большим трудом продвигалась по направлению к Львову, и наступил момент, когда она вынуждена была остановиться, не имея возможности осилить врага.
Вследствие получения такой директивы и имея в виду данные моей разведки, что на Гнилой Липе находятся значительные силы противника, окапывающиеся на её правом берегу, я решил оставить у Галича против его гарнизона 24-й корпус в виде заслона для обеспечения моего левого фланга, а тремя корпусами совершить ночной фланговый марш, чтобы примкнуть к левому флангу 3-й армии и развернуться против главных сил противника, находившихся на Гнилой Липе. Фланговый марш приходилось совершать вблизи противника, и мой начальник штаба, а также некоторые генералы считали такое движение крайне рискованным; я этого не находил, так как чувствовал, что неприятель выпустил из своих рук инициативу и пока думает лишь о том, чтобы прикрыть Львов, в особенности после двух поражений, которые он уже понес. Кроме того, река Гнилая Липа труднопроходима вследствие болот и зарослей по обоим своим берегам; лишь в нескольких местах она имеет мосты с бесконечными гатями, представляющими собой настоящие узкие дефиле. Я был вполне убежден, что австрийцы не рискнут давать бой, имея ее у себя в тылу. Посему, невзирая на всякие разговоры, я оставил без изменения свое решение, которое было выполнено без всяких препятствий со стороны противника.
В общем план сражения на Гнилой Липе состоял в том, чтобы 12-й и 8-й корпуса атаковали противника, связав его с фронта, но не форсировали реки, пока ясно не обнаружится охват левого фланга австрийцев 7-м корпусом, который должен был, перейдя Гнилую Липу, отбрасывать левый фланг австрийцев к югу, дабы отрезать эту неприятельскую группу от войск, противостоявших нашей 3-й армии, и отдалить ее от Львова, чтобы она не зашла в его форты. 8-й корпус, кроме того, должен был загнуть свой левый фланг, чтобы отбивать атаки гарнизона крепости Галич. 24-му корпусу, шедшему, как раньше было сказано, на один переход уступом за левым флангом армии, было приказано свою головную бригаду выслать форсированным маршем к Галичу для облегчения положения 8-го корпуса, и всему 24-му корпусу было поручено направляться к Галичу для его осады, а в случае возможности — и захвата его внезапной атакой.
На реке Гнилая Липа моя армия дала первое настоящее сражение. Предыдущие бои, делаясь постепенно все серьезнее, были хорошей школой для необстрелянных войск. Эти удачные бои подняли их дух, дали им убеждение, что австрийцы во всех отношениях слабее их, и внушили им уверенность в своих вождях. В течение двух дней, 17 и 18 августа, во время которых продолжался жестокий и сильный бой на Гнилой Липе, я убедился, во-первых, в том, что командующему армией необходим не малый, а сильный общий резерв, без которого сражение всегда будет висеть на волоске, и что небольшая часть, находящаяся в распоряжении командующего армией для парирования случайностей, как полагали немцы, да и мы с ними, до начала этой кампании, совершенно недостаточна. Во-вторых, убедился я также, что необходимо иметь сильный артиллерийский резерв для тою, чтобы концентрировать артиллерийские массы на решающих пунктах, а отнюдь не иметь артиллерию равномерно разбросанной по всему фронту, разбитой поровну между дивизиями. Для этого я считал необходимым, чтобы инспекторы артиллерии корпусов играли более деятельную роль начальников, управляющих огнем значительных артиллерийских соединений, а не ограничивались только снабжением своих войск огнестрельными припасами. Посему по окончании сражения был мною издан соответствующий приказ о роли инспекторов артиллерии во время боя.
На второй день боя 7-й корпус перешел через Гнилую Липу, правда с большим трудом и значительными потерями, и стал охватывать левый фланг противника, но еще не было вполне ясно, в какой степени выиграли мы это сражение и насколько сильно неприятель пострадал. Он еще стоял на месте и упорно сопротивлялся. В особенности тяжело было левому флангу нашей армии, так как из крепости Галич австрийцы значительными силами охватывали фланг 8-го корпуса, который тут дрался. Высланная по моему приказу генералом Цуриковым бригада 24-го корпуса притянула на себя большую часть войск гарнизона Галича и этим путем облегчила положение нашего 8-го корпуса. На третий день боя с утра выяснилось, что австрийцы сочли себя разбитыми и что их главные силы в большом расстройстве ночью стали отступать, прикрываемые сильными арьергардами. Наши войска, тесня их и быстро наступая, захватывали массу орудий, пулеметов, всякого оружия, значительные обозы и много пленных. Штаб армии во время этого сражения находился а г. Брзежаны и был прочно связан со штабами корпусов и телефоном и телеграфом. Таким образом, я имел возможность своевременно получать с обширного фронта все необходимые донесения для управления боем.
Должен отметить серьезную услугу, которую в первый день сражения оказал армии генерал Каледин со своей 12-й кавалерийской дивизией. Она заняла разрыв фронта между 12-м и 7-м корпусами по собственной инициативе и боролась с подавляющею силою противника до подхода бригады 12-й пехотной дивизии, которая запоздала к назначенному ей времени, не по своей, однако вине.
Одновременно с выигранным мною сражением на Гнилой Липе 3-я армия успешно потеснила противника севернее меня и решительно отбросила его к Львову. В это время была получена директива главнокомандующего, который приказывал мне осаждать Львов с юга, тогда как 3-я армия должна была осаждать Львов с востока и севера. Считалось, что Львов укреплен, обладает большим гарнизоном и что он представляет собой сильное препятствие для нашего дальнейшего продвижения.
Крупные недостатки моего тыла, его организации, при быстром продвижении вперед, меня очень огорчили, но более всего меня озабочивала санитарная часть и ее заправилы. Не продуманные раньше меры обеспечения призора раненых, недочеты которого всецело лежали на ответственности военного министерства и Киевского военного округа, ясно показали свою полную несостоятельность. Вызванный мною перед сражением заведующий санитарной частью армии, доктор медицины, оказался невеждой в роли администратора. На мой вопрос: «Какие меры приняты для приема раненых и дальнейшей их эвакуации?» — он твердо ответил мне, что все распоряжения сделаны и что в Брзежанах, куда будут свозиться раненые, у него готово 2000 мест, а при необходимости он может принять там до 3000 раненых. В действительности оказалось, что он, в сущности, мог принять не свыше 400 раненых, и когда было свезено свыше 3500 только своих русских солдат и офицеров, не считая раненых неприятеля, то они оказались в крайне критическом положении. Пришлось наспех, отстранив заведующего санитарной частью, впрячь в его работу всех состоявших при мне лиц для поручений и адъютантов, чтобы наскоро очистить некоторые дома, дабы как-нибудь укрыть раненых под какой-либо кров, реквизировать посуду и стаканы, наладить изготовление пищи и чая и подготовить несколько санитарных поездов, чтобы возможно быстрее эвакуировать раненых в тыл. Врачебная же помощь и своевременная перевязка оказались невозможными по недостатку врачей. В следующих боях, благодаря принятым тотчас же мерам, подобное безобразие более не повторялось, да и во главе санитарной части был мною поставлен толковый администратор генерал Папчулидзев.
По-видимому, положение о санитарной части оказалось негодным не только в 8-й армии, ибо в Ставке пришлось его вновь переработать. Нужно признать, что не только санитарная часть в самом начале кампании была весьма плоха, но и все новое положение о полевом управлении войсками совершенно никуда не годилось. Оно было объявлено и вошло в силу уже после начала войны, и на практике приходилось знакомиться с этим новым положением и с горечью убеждаться в безобразном и непрактичном его составлении. До нас доходили слухи, что военный совет это положите не одобрил и что оно было проведено в жизнь потому, что война была нам объявлена неожиданно. Дальше мне еще придется говорить об этом злосчастном положении; тут же скажу, что пришлось мне самому вмешаться в санитарное дело, чтобы его хоть сколько-нибудь упорядочить для будущего.
Считаю долгом совести помянуть добром многих представителей земства и отдельных лиц из ближайших к бывшей границе местностей. Помимо всякой администрации они по собственной инициативе оказали громадные услуги раненым и больным воинам. Было создано много летучих отрядов, перевязочных пунктов и лазаретов. И все это — с энергией и распорядительностью, поистине достойными истории.
20 августа воздушная разведка донесла, что видна масса войск, стягивающихся к Львовскому железнодорожному вокзалу, и что поезда один за другим, по-видимому нагруженные войсками, уходят на запад; о том же донесли кавалерийские разъезды, сообщившие, что неприятельские колонны быстро отходят, минуя Львов. В этот день я поехал на свидание с генералом Рузским, с которым хотел сговориться о наших дальнейших совокупных действиях, тем более что на время осады Львова я ему, как старшему, должен был быть подчинен. Во время нашего совещания и он получил донесение от командира 9-го корпуса генерала Щербачева, что команды разведчиков этого корпуса невозбранно продвигаются вперед и беспрепятственно занимают львовские форты, которые никем не защищаются, притом Щербачев, предполагая, что Львов очищается противником, просил разрешения двигаться вперед. Рузский очень был озадачен полученными сведениями и впал в большое сомнение относительно разрешения Щербачеву в его просьбе. Но в конце концов он на предложение Щербачева согласился и отдал приказание осторожно продвигаться к Львову, сильно, однако, сомневаясь, чтобы такой важный и крепкий пункт мог быть очищен без серьезного боя.
В это же время в штабе моей армии было получено донесение от начальника 12-й кавалерийской дивизии, что один из его разъездов вошел во Львов, который был очищен от противника, и жители встретили офицера с 12 драгунами очень приветливо. Таким образом, первым вошел во Львов кавалерийский разъезд, который беспрепятственно проехал по городу. Нужно признать тот факт, что противник главным образом ожидал нашего наступления на Львов от Брод на Кросно; проигранное же им сражение на Гнилой Липе давало мне возможность выйти в тыл войскам, противостоявшим 3-й армии, и этим участь Львова была решена. Совершенно ясно, что Львов так быстро пал благодаря совокупным действиям 3-й и 8-й армий, и без моего флангового марша, без того, что противник был разбит на Гнилой Липе, а мои войска продвинулись к югу от Львова, этот город без боя очищен бы не был. В официальных же телеграммах высшего начальства объявлялось, что Львов был взят генералом Рузским. Я против этого не протестовал, ибо славы не искал, а желал лишь успеха делу.
Тотчас по занятии Львова нашими войсками была получена директива главнокомандующего, который приказывал генералу Рузскому с его армией, усиленной 12-м корпусом из моей армии, двигаться на Раву-Русскую, мне же, заняв Львов, с главными моими силами расположиться восточнее Львова и оберегать левый фланг всего фронта, маневрируя войсками сообразно обстановке. Движение Рузского к Раве-Русской вызывалось тем обстоятельством, что главные силы австрийской армии были на линии Люблин — Холм, и генерал Рузский своим движением должен был охватить фланг вражеских полчищ, с которыми северные армии фронта справиться не могли и были ими сильно теснимы.
С назначенной для моей армии ролью я согласен не был и находил такое решение вопроса об охране фланга фронта не соответствующим цели, ибо считал возможным одно из двух: или австрийцы не обратят внимания на наш левый фланг, и тогда моя армия в это тяжелое для нас время не примет никакого участия в общем деле, или же австрийцы соберут значительные силы на свой правый фланг, захватят Львов, и я не буду в состоянии выполнить данной мне задачи.
Я считал более целесообразным в это же время перейти самому в дальнейшее наступление и атаковать вражеские войска, расположившиеся на гродекской позиции, чрезвычайно сильной и имевшей большое значение для дальнейшего наступления. При этом я предполагал, что если на гродекской позиции будут стоять лишь только что разбитые нами войска, то, по всем вероятиям, ввиду их деморализации после проигранного сражения, я их осилю; если же противник значительно усилился, то я перейду к временной обороне, укрепившись впереди Львова, и тогда левый фланг нашего фронта будет, во всяком случае, более обеспечен. Сохранение Львова в наших руках имело, по моему мнению, огромное моральное значение, помимо главной цели — лучшего обеспечения операции генерала Рузского.
Эти соображения я по телеграфу сообщил генералу Алексееву, настоятельно испрашивая разрешения на их выполнение, однако при одном непременном условии — возвращении мне 12-го армейского корпуса. Главнокомандующий согласился с моими доводами, и его директива была соответствующим образом изменена, а я тотчас же двинул вверенную мне армию вперед, отдав вместе с тем приказание командиру 8-го корпуса взять возможно быстрее сильно укрепленный Миколаев, имевший, по моим сведениям, в это время незначительный гарнизон. Для этой же цели мною был ему направлен единственный дивизион тяжелой артиллерии, имевшийся в 8-й армии.
22 августа мною было получено донесение командира 24-го корпуса, что сильно укрепленный Галич взят почти без всякого сопротивления, причем захвачена вся тяжелая артиллерия и разные запасы, которые были там сосредоточены. Это для меня была огромная радость. Теперь был обеспечен мой тыл и освобождался 24-й корпус; одновременно с этим 2-я сводная казачья дивизия заняла Станиславов и направилась на Калуш, Болехув и Стрый. Сильно укрепленный Миколаев вслед за сим, после хорошей артиллерийской подготовки, был также взят почти без потерь, а слабый гарнизон, в нем находившийся, частью попал в плен, а частью отступил.
Таким образом, и левый фланг моей армии, расположившийся против гродекской позиции, был также прочно обеспечен. Я же со штабом армии из Бобрка переехал во Львов, во дворец наместника.
Воздушная разведка в это время указывала, что войска противника заняли гродекскую позицию и продолжали на ней спешно совершенствовать свои укрепления; вместе с тем от нее же поступали сведения, что по железной дороге подвозятся подкрепления и заметны пехотные колонны, двигающиеся от Перемышля к Гродеку.
Градоначальником Львова был мною назначен полковник Шереметов, занимавший перед войной должность волынского вице-губернатора, которому была дана инструкция требовать лишь одного — соблюдения полного спокойствия и выполнения всех требований военного начальства — и предписывалось сохранить возможно большую нормальность жизни города.
Явившейся ко мне депутации от городского управления и всех сословий я объявил: «Для меня в данное время все национальности, религии и политические убеждения каждого обывателя безразличны; это — все дела, касающиеся мирного обихода жизни. Теперь война, и я требую от всех жителей одного условия: сидеть спокойно на месте, выполнять все требования военного начальства и жить возможно более мирно и спокойно. Наши войска мирных жителей трогать не будут; за все, что будет браться от жителей в случае необходимости, будет немедленно уплачиваться русскими деньгами по курсу, определенному Верховным главнокомандующим. Предваряю, однако, что те, которые будут уличены в сношениях с австрийцами или будут выказывать враждебность к нашим войскам, будут немедленно предаваться военно-полевому суду. Никакой контрибуции на город накладывать не буду, если его жители будут спокойны и послушны».
Депутация выразила свою благодарность за высказанные мною слова и от имени населения твердо обещала, что не нарушит порядка и лояльности но отношению к нам. Нужно сказать, что население выполнило свои обещания честно и добросовестно. В дальнейшем, когда назначенный генерал-губернатор Галиции вступил в исполнение своих обязанностей, предприняты были с нашей стороны разные политическо-религиозные меры, которые повели к большим недоразумениям и к тяжелым последствиям после очищения нами Галиции в 1915 году; но генерал-губернатор Галиции не был мне подчинен, и я совершенно не касался этого дела.
Униатский митрополит граф Шептицкий, явный враг России, с давних пор неизменно агитировавший против нас, по вступлении русских войск во Львов был по моему приказанию предварительно подвергнут домашнему аресту. Я его потребовал к себе с предложением дать честное слово, что он никаких враждебных действий, как явных, так и тайных, против нас предпринимать не будет, в таком случае я брал на себя разрешить ему оставаться во Львове для исполнения его духовных обязанностей. Он охотно дал мне это слово, но, к сожалению, вслед за сим начал опять мутить и произносить церковные проповеди, явно нам враждебные. Ввиду этого я его выслал в Киев в распоряжение главнокомандующего. Состоявшему при мне члену Государственной думы, бывшему лейб-гусарскому офицеру графу Владимиру Бобринскому, поступившему при объявлении войны вновь на военную службу, я приказал осматривать все места заключения, которые попадали в наши руки, и немедленно выпускать политических арестантов, взятых под стражу австрийским правительством за русофильство. Бобринский чрезвычайно охотно взялся за эту миссию, так как он еще в мирное время имел большие связи с русофильской партией русин. Не помню цифр, но таких арестантов оказалось очень много, и они были немедленно освобождены; уголовные же преступники продолжали, конечно, содержаться под стражей и были переданы в распоряжение галицийского генерал-губернатора.
Итак, войска вверенной мне армии были двинуты к западу от Львова с целью занять исходное положение для атаки знаменитой своей силой гродекской позиции, причем было приказало 24-му корпусу оставить небольшой гарнизон в Галиче, а с остальными силами форсированным маршем идти на присоединение к армии, заняв ее левый фланг. Его головные части попутно принимали участие во взятии Миколаева, и к 27 августа весь корпус успел занять свое исходное положение для участия в Гродекском сражении.
К 28 августа обстановка, в которой находилась моя армия, рисовалась мне следующим образом. Из различных источников разведки мне было известно, что противник, отступивший от Львова, то есть остатки войск, дравшихся против наших 3-й и 8-й армий, остановились на гродекской позиции, на правом берегу реки Верещица, и что к этим войскам подошли значительные подкрепления, но в каком размере — мне было неизвестно. Я считал, однако, что подкрепления должны были быть серьезными и что противник, конечно знавший, что 3-я армия пошла на Раву-Русскую, а у Львова осталась лишь 8-я армия, вероятно, сам перейдет в наступление. Эта мысль тем более была вероятна, что мосты на Верещице, разрушенные вначале австрийцами при отступлении, деятельно исправлялись, устраивались новые переправы и несколько сильных авангардов перешло на левый берег Верещицы.
Являлся вопрос: при подобной обстановке переходить ли мне в наступление или же принять оборонительный бой? По моему неизменному правилу, которого я держался до конца кампании, поскольку это было хотя мало-мальски возможно, я решил перейти в решительное наступление. С рассвета 28 августа, зная, что противник, по всей вероятности, обладает значительно большими силами, чем я, и сам может перейти в наступление, я решил двинуть свои войска, ибо считал для себя более выгодным втянуться во встречный бой. В крайности, я всегда мог перейти потом к оборонительному бою, что гораздо выгоднее, чем с места сразу выпустить инициативу из своих рук. Такой образ действий как в этом случае, так и в дальнейшем ходе кампании мне значительно помогал, ибо при встречном бое против сильнейшего противника я смешивал его карты, спутывал его план действий и вносил значительную путаницу в его предположения. Это давало также возможность точно выяснить группировку его сил, а следовательно, и его намерения.
В действительности австрийцы 28 августа также перешли в наступление и получился тот встречный бой, который я и предвидел. На всем фронте 8-й армии силы противника по сравнению с нашими оказались подавляющими, а кроме того, он значительно превосходил нас количеством тяжелой артиллерии. На всем фронте с рассвета завязался жестокий бой. Еще в предыдущие дни австрийцы сильно наседали на мой правый фланг — на 12-й корпус, позиция которого находилась в лесном пространстве; казалось, противник предполагает нанести свой главный удар именно на этот фланг. Я, однако же, думал, что это не что иное, как демонстрация, имеющая целью заблаговременно привлечь наше внимание, а следовательно, и резервы к нашему правому флангу. Действительно, в первый день сражения в центре против 7-го и 8-го корпусов, и в особенности на левом фланге против 24-го корпуса, были направлены главные усилия противника. К вечеру выяснилось, что потери наши велики, вперед продвинуться сколько-нибудь значительно мы не могли, и все корпусные командиры доносили, что окапываются, причем некоторые из них прибавляли, что сомневаются в возможности удержаться на месте против подавляющих сил противника, его сильнейшего артиллерийского огня и многочисленных пулеметов. Мой резерв был израсходован только частью. По взятым пленным можно было считать, что против 8-й армии находится не менее семи корпусов, то есть почти вдвое большие силы, чем те, которыми я располагал. В частности, 24-й корпус, упиравшийся своим левым флангом в Миколаев, форты которого были взяты одним полком 4-й стрелковой бригады, значительно выдвинулся вперед и охватывался австрийцами.
Имея в виду, что войска остановились к вечеру при встречном бое на случайных позициях и понесли уже значительные потери (в резерве у меня оставалась всего одна бригада пехоты), я сначала, отдавая директиву на следующий день, склонен был приказать отойти от занимаемых позиций, но с таким расчетом, чтобы центр армии занял львовские форты, а левый фланг упирался в форты Миколаева. Такую директиву я начал составлять, но затем меня начало мучить, что, по французской поговорке, «се n’est que le premier pas qui coute» (Только первый шаг труден — фр.), раз войска подадутся назад, то, пожалуй, у Львова им не удержаться; поэтому я окончательно решил: правому флату и центру оставаться на своих местах, а левому флангу, в особенности 48-й пехотной дивизии, отойти с таким расчетом, чтобы занять высоты севернее Миколаева и на этом фланге вести пока устойчивый оборонительный бой; центром же и правым флангом действовать активно. В этом решении не отходить мне помог выказанной им радостью состоявший при мне для поручений Генерального штаба генерал-майор Байов, которому я тут же выразил мою благодарность за моральную поддержку. Вместе с тем мною было приказано спешно вести через Галич ко Львову бригаду 12-й пехотной дивизии, которая к тому времени подошла к Станиславову. Затем я телеграфировал командующему 3-й армией требование немедленно вернуть мне бригаду 12-го корпуса, которую он, вероятно по недоразумению, потащил с собой к Раве-Русской. От Тарнополя мною было приказано экстренно вести два батальона пополнения, по 1000 человек каждый, также ко Львову. Второй сводной казачьей дивизии, находившейся у города Стрый, также было отдано приказание форсированным маршем прибыть к левому флату армии, у Миколаева переправиться на левый берег Днестра и получить дальнейшее указание для действий от командира 24-го корпуса.
Таким образом, я притянул к полю сражения все, что только было возможно, дабы во что бы то ни стало отстоять Львов, и не терял надежды, что, дав израсходоваться пылу австрийцев, я затем опять перейду в наступление. Было весьма затруднительно в данном случае экстренно перевозить войска по железным дорогам, ибо у нас в качестве подвижного состава по железной дороге европейской колеи могли служить только паровозы и вагоны, которые были нами захвачены у противника. Но часто бывает на войне, что при полном напряжении сил и крепком желании невозможное оказывается возможным, и потребованные мною подкрепления, как будет дальше видно, к решающему моменту были подвезены и подошли своевременно, за исключением, к сожалению, моей бригады, упомянутой ранее, которую генерал Рузский отказался вернуть, сообщая, что она уже втянута в бой. Тогда я просил направить мне какую-либо другую бригаду, так как если бы я не устоял, то и ему у Равы-Русской пришлось бы плохо. Просил я также и главнокомандующего в этом экстренном случае, который мог при неуспехе сильно скомпрометировать наши прежние удачи, воздействовать со своей стороны на 3-ю армию; тем более что, по имевшимся у нас сведениям, силы противника, противостоявшие 3-й армии, были небольшие; но все мои заявления по этому поводу оставались гласом вопиющего в пустыне.
В эту же ночь я получил телеграмму главнокомандующего, в которой впервые сообщалось, что тратить боевые припасы, в особенности артиллерийские снаряды, следует очень осторожно, ибо в запасе их мало. На это я ответил, что при данной обстановке я совершенно отказываюсь объявить приказ об осторожном расходовании огнестрельных припасов и этим обескураживать войска, имеющие против себя многочисленного противника с более могущественной артиллерией, совершенно не жалеющего снарядов, и что в данный момент не время и не место об этом думать.
В 3 часа ночи 29 августа явился ко мне начальник штаба 24-го армейского корпуса генерал-майор Трегубов с просьбой разрешить 48-й пехотной дивизии остаться на занятых ею с вечера местах и не отходить на высоты севернее Миколаева. Нужно заметить, что телеграфная и телефонная связь штаба 24-го армейского корпуса со штабом армии была нарушена и диспозиция была доставлена в штаб этого корпуса одним из моих адъютантов на автомобиле; телеграфная же связь была восстановлена лишь к полудню следующего дня. Я спросил начальника штаба корпуса, каким образом командир корпуса, получивший диспозицию к 9 часам вечера, решился не выполнить её немедленно. Не мог же он не понимать, что отход на назначенную позицию мог быть выполнен лишь ночью, так как с рассвета бой, несомненно, начнется усиленным темпом, и тогда разговора о выполнении диспозиции уже быть не может. Ведь подобным самовольным действием нарушаются мои соображения, и это может повести к глубокому охвату левого фланга армии. На это мне начальник штаба корпуса ответил, что он диспозицию генералу Цурикову не докладывал, а приехал по просьбе начальника дивизии генерала Корнилова. Я ему сказал: «За совершенное вами преступление на поле сражения отрешаю вас от должности и предаю суду». И тут же приказал начальнику штаба армии немедленно передать мое приказание генералу Байову ехать в штаб 24-го корпуса и принять там штаб корпуса, доложив генералу Цурикову, которого он мог увидеть не ранее 6–7 часов утра, что ни моего разрешения, ни моего запрета уже больше не требуется, ибо к его приезду бой будет в самом разгаре; я приказал передать ему также, что я крайне возмущен, что его начальник штаба им так мало дисциплинирован.
На второй день боя мой правый фланг держался на месте и напор противника стал слабее, чем в предыдущий день; в центре 7-й и 8-й корпуса, хотя и с трудом и большими потерями, также удержались на своих местах; но левый фланг, к сожалению, как я это предвидел, потерпел крушение. 48-я пехотная дивизия была охвачена с юга, отброшена за реку Щержец в полном беспорядке и потеряла 26 орудий. Неприятель на этом фланге продолжал наступление, и, если бы ему удалось продвинуться восточнее Миколаева с достаточными силами, очевидно, армия была бы поставлена в критическое положение. Я направил на поддержку 24-го корпуса 12-ю кавалерийскую дивизию, бывшую в моем резерве; к тому же времени прибыла и 2-я сводная казачья. Чтобы остановить напор противника, генерал Каледин спешил три полка, имея в резерве Ахтырский гусарский полк и один эскадрон белгородских улан; 2-я же сводная казачья дивизия заполнила разрыв, который оказался между 8-м и 24-м корпусами. Так как спешенные части 12-й кавалерийской дивизии, очевидно, не могли остановить наступавшего многочисленного врага, то в этой крайности Каледин пустил в конную атаку семь вышеперечисленных эскадронов, которые самоотверженно и бешено кинулись на врага. Эта атака спасла положение: наступавшие австрийцы в полном беспорядке ринулись назад и затем ограничились стрельбой на месте, но уже в наступление более не переходили. Я поставил Каледину в вину то, что он вначале спешил семнадцать эскадронов, хотя он не мог не сознавать, что максимум 2000 стрелков не могут остановить не менее двух-трех дивизий пехоты. Вместо этой неудачной полумеры не лучше ли было бы, выбрав момент, атаковать австрийцев всеми 24 эскадронами в конном строю при помощи конно-артиллерийского дивизиона и дивизионной пулеметной команды?
Около полудня того же 29 августа мною было получено донесение генерала Радко-Дмитриева, что его воздушная разведка выяснила: несколько больших колонн стягиваются к Гродеку и, очевидно, центр тяжести боя переносится к нашему центру. Было ясно из этих сведений, что 30 августа австрийцы предполагают пробить мой центр, разрезать армию пополам, и по ближней дороге от Гродека ко Львову захватить этот важный административный и политический пункт. Это чрезвычайно важное и своевременное донесение, которое только и могло быть выяснено воздушной разведкой, дало мне возможность стянуть все мои резервы к 7-му и 8-му корпусам. Таким образом, к рассвету 30 августа в центре моего боевого порядка было мною сосредоточено около 85 батальонов пехоты с их артиллерией из 152 батальонов пехоты, участвовавших в этом сражении, то есть больше половины моей армии. Сюда же был передан дивизион тяжелой артиллерии, находившейся в моем распоряжении.
Мною было приказано 7-му и 8-му корпусам, усиленным указанными выше резервами, перейти в наступление не потому, что они тут же разгромят неприятельские полчища, сосредоточенные против них, но в надежде, что такое наступление именно в том месте, где австрийцы рассчитывали неожиданно нанести нам всесокрушительный удар, собьет их с толку, они растеряются в большей или меньшей степени и перейдут от наступления, которое грозило бы нам тяжелыми последствиями, к обороне. Иначе говоря, я желал во что бы то ни стало вырвать из их рук инициативу действий, что мне и удалось. Правда, 7-й и 8-й корпуса продвинулись недалеко и громадные силы противника скоро остановили наш порыв, но сами-то они, израсходовав свои резервы, принуждены были перейти к обороне.
В этот момент, решавший участь сражения, явился ко мне только что назначенный генерал-губернатор Галиции генерал-лейтенант граф Бобринский, о назначении которого на это место я сведений еще не имел. Он прибыл с несколькими состоявшими при нем лицами с вопросом, может ли он теперь переехать во Львов, чтобы вступить в исполнение своих обязанностей, так как ныне он расположился в г… Броды, то есть на самом краю своего генерал-губернаторства. Я ему ответил, что в данное время это рано: в разгар сражения, от исхода которого будет зависеть, останется ли Львов в наших руках или же придется его уступить врагу (я добавил еще, что надеюсь устоять), пока дело не кончено, уверенно сказать ему, когда он может переехать во Львов, я не могу. Тем более что участь общего сражения на Галицийском фронте зависит не от меня одного, но и от армий, которые в данный момент дерутся севернее моей. Во всяком случае, считаю его переезд во Львов в данный момент совершенно несвоевременным. Должен признаться, я чрезвычайно удивился, что на этот пост был избран генерал граф Бобринский. Я его давно знал как человека очень корректного, безусловно честного, но такого, который во всю свою жизнь, в сущности, никаким делом не занимался и решительно никакого административного опыта не имел и иметь не мог. В молодости он служил в лейб-гусарском полку, а затем почти все время был без дела, исполняя по временам разные поручения. С Галицией он, безусловно, знаком не был, и нужно полагать, что большинство ошибок, которые были им впоследствии совершены во Львове, происходили от неопытности и незнания края.
30 августа были мною получены сведения, что австрийцы у Равы-Русской сломлены и начали отступать. Они не были совершенно разбиты и не были отрезаны от своего пути отступления, но, во всяком случае, они быстро стали отходить. Это воскресило во мне надежду, что и враг, противостоящий мне, сочтет бесполезной дальнейшую борьбу со мной на Гродекской позиции. Дело в том, что из опроса пленных, которых мы забирали целыми толпами, вполне выяснилось, что против моих неполных четырех корпусов австрийцы направили семь армейских корпусов, двадцать одну дивизию пехоты, часть которых была снята с северной части их фронта с приказанием во что бы то ни стало взять Львов обратно. Таким образом, противник, сняв часть своих войск с севера, облегчил положение наших 3-й и 4-й армий, и моя задача главным образом заключалась в том, чтобы выдержать напор вдвое сильнейшего противника.
Поздно вечером 30 августа австрийцы по всей линии вновь перешли в короткое наступление, но далеко не решительное и более шумное, чем сильное. Памятуя предыдущие бои, я понял, что, как и прежде, неприятель ночью отойдет и, чтобы отход его не был нами замечен, он делает вид, что желает нас атаковать. Поэтому мною было послано приказание зорко следить за действиями противника и двигаться вслед за ним. Наши предвидения оказались верными: неприятель в ночь на 31 августа отошел к западу, перешел через многочисленные мосты реку Верещица с левого на правый берег и разрушил все переправы на ней. Я не мог поставить в вину войскам, что они не поспели помешать разрушению переправ. Воистину последний трехдневный бой против сильнейшего противника непосредственно после нашего быстрого продвижения вперед и нескольких сражений, нами перед этим выигранных, сильно истомил войска, и нанесенные нам потери были громадны, хотя, понятно, значительно меньше, чем у австрийцев.
К счастью, в таком большом благоустроенном городе, как Львов, при заранее принятых мерах, невзирая на всякие затруднения, явилась возможность удобно разместить несколько тысяч раненых, надлежащим образом призреть их и своевременно перевязать. Эвакуация раненых, которые подлежали перевозке, была тут также налажена удовлетворительно. Я объехал большинство госпиталей, чтобы осмотреть раненых, и роздал нуждающимся деньги, а тяжелораненых награждал георгиевскими медалями.
Мною было приказано быстро восстановить переправы через Верещицу и, не дожидаясь их устройства, немедленно переправить на правый берег команды разведчиков и всю кавалерию для преследования отступавшего противника. Этим частям удалось захватить много обозов, часть артиллерии и многочисленных пленных. В особенности в данном случае отличалась 10-я кавалерийская дивизия, которая во время этих боев перешла из 3-й армии в состав 8-й.
Во время этого жестокого трехдневного сражения жители города Львова, в особенности поляки и евреи, чрезвычайно волновались мыслью о том, в чьи руки они попадут, то есть останутся ли у нас или вновь придут австрийцы. Воззвание Верховного главнокомандующего к полякам тут еще не было известно, и они, а тем более евреи, которые у нас находились в угнетенном положении, а в Австрии пользовались всеми правами граждан, нетерпеливо ждали, что нас разобьют, тем более что австрийское начальство объявило им, что они обязательно на днях вернутся назад. Русины, естественно, были на нашей стороне, кроме партии так называемых мазенинцев, выставивших против нас несколько легионов.
ОТ ЛЬВОВА ДО КРОСНО
Насколько мне помнится, 1 сентября получено было приказание немедленно командировать генерала Радко-Дмитрисва для принятия должности командующего 3-й армией, генерал же Рузский назначался главнокомандующим армиями Северо-Западного фронта вместо генерала Жилинского, который был смещен после крупной неудачи 2-й армии генерала Самсонова в Восточной Пруссии и крайне беспорядочного отступления с большими потерями 1-й армии генерала Ренненкампфа.
Являлся вопрос о назначении командира 8-го корпуса взамен Радко-Дмитриева. Старейшим начальником дивизии вверенной мне армии был генерал-лейтенант Орлов; у него была странная репутация за время китайской кампании и, в особенности, за время японской войны. В китайскую кампанию он якобы старался вырваться из рук своего начальства, чтобы, как говорили, возможно больше заработать дешевых лавров, а в японскую кампанию, по-видимому, ему пришлось расплачиваться за неудачные действия Куропаткина, и считалось, что он был козлом отпущения за проигрыш Ляоянского сражения. Непосредственно перед этой войной он был начальником 12-й пехотной дивизии в 12-м корпусе, которым я командовал. Я видел его на больших маневрах, на которых он действовал отлично; его дивизия вообще была в блестящем порядке, и обучал он ее прекрасно. В нескольких первых сражениях, которые 8-я армия выиграла, действия Орлова были безукоризненны. На основании всего сказанного я просил о назначении генерала Орлова командиром 8-го корпуса, невзирая на то что в мирное время Орлова упорно не удостаивали зачисления кандидатом на должность корпусного командира. Мое представление было уважено, и Орлова назначили на просимую должность.
На основании директивы главнокомандующего все армии фронта двинулись далее на запад, причем вверенной мне армии приказано было двигаться южнее линии Львов — Гродек — Перемышль, и по-прежнему моя задача заключалась главным образом в том, чтобы, находясь на крайнем левом фланге всего нашего фронта, прикрывать его наступление от противника, могущего явиться как с запада, так и с юга. Задача осложнялась по мере нашего дальнейшего продвижения, так как паши коммуникационные линии удлинялись и становилось все более и более трудным прочно обеспечивать наш левый фланг и тыл от покушений противника. Мне казалось, что с нашим продвижением вперед мою армию необходимо постепенно усиливать, тем более что во время Гродекского сражения мне пришлось единственную пехотную бригаду, обеспечивавшую наш тыл с левого фланга, притянуть к себе. По окончании этого сражения, после понесенных значительных потерь, армия, не получая пополнений, настолько была ослаблена, что я не нашел возможным отправить эту бригаду обратно на правый берег Днестра, а присоединил ее к ее дивизии. Я настоятельно просил главнокомандующего усилить армию на один корпус, ибо на правом берегу Днестра, на протяжении приблизительно около 200 верст, этот фланг оберегался всего тремя кавказскими казачьими дивизиями, что, понятно, было недостаточно. Результатом моих препирательств по этому поводу явилось назначение второочередной 71-й пехотной дивизии на замену снятой мной бригады. Пока этого было достаточно, ибо принципиально без крайней необходимости я считал недозволительным просить лишних подкреплений и сгущать краски, так как в это время на этом фланге находились лишь незначительные неприятельские силы, по преимуществу части ландштурма, которые не могли представить собой какой-либо серьезной угрозы для нашего тыла. Так как в тылу на правом берегу Днестра находилась теперь одна дивизия пехоты и три дивизии казаков, имевших однородную задачу, то но моему ходатайству эти части были объединены в одних руках в лице командира корпуса, которому был присвоен 30-й номер, в него и вошли эти четыре дивизии.
Покончив с тыловыми вопросами и удостоверившись, что и сам армейский тыл приходит в большую степень порядка, я перенес свой штаб из Львова в Любень-Вельки. Вся же моя армия находилась уже на правом берегу Верещицы, и я двинул ее вперед, на линию Перемышль — Низанковице — Добромиль — Хырув, выслав, согласно директиве главнокомандующего, 10-ю и 12-ю кавалерийские дивизии вперед, на линию Дынув — Санок по реке Сан и далее, дабы не терять соприкосновения с противником, а 2-ю сводную казачью дивизию — через Самбор, Старое Место в Карпаты к г. Турка, чтобы по возможности захватить и держаться на перевале большого шоссе, идущего от Венгерской долины. Противник, оставив значительный гарнизон в крепости Перемышль, отошел в западном направлении на левый берег Сана, где и остановился, чтобы привести себя в порядок после понесенных сильных неудач.
Мне казалось, что давать оправиться противнику не следовало и было необходимо, идя за ним по пятам, довершить его разгром, оставив лишь у Перемышля сильный обсервационный корпус. Против этого, конечно, можно было возразить, но наши коммуникационные линии удлинились бы чрезмерно, а они и без того были не в порядке, а в Львовском железнодорожном узле сразу же водворился полный хаос, и он был забит в такой степени, что мы стали получать довольствие всякого рода с большим опозданием. Я был бессилен помочь этому горю, так как это была область главного начальника снабжения армий фронта, подчиненного главнокомандующему фронтом, и на мои протесты и жалобы обращалось мало внимания. Думаю, однако, что при желании и умении была возможность быстро привести тыл в порядок и в то же время довершить поражение уже разбитых войск противника, не допустив его вновь окрепнуть благодаря пополнениям, подкреплениям и отдыху.
Обложение Перемышля было поручено новому командующему 3-й армией Радко-Дмитриеву. Когда он был командиром 8-го армейского корпуса во вверенной мне армии, а также по предыдущим действиям в болгаро-турецкую войну, я составил себе о нем представление как о человеке чрезвычайно решительном, сообразительном и очень талантливом; ни малейшим образом я не сомневался, что он и в данном случае развернет присущие ему боевые качества и попробует взять Перемышль сразу, что развязало бы нам руки, закрепило бы за нами Восточную Галицию и дало бы возможность невозбранно двигаться дальше, не оставляя за собой неприятельской крепости и осадной армии. Действительно, после ряда поражений и громадных потерь австрийская армия была настолько потрясена, а Перемышль был настолько мало подготовлен к осаде, гарнизон же крепости, состоявший из части разбитых войск, был настолько расстроен, что, по моему глубокому убеждению, была возможность в половине сентября взять эту крепость штурмом при небольшой артиллерийской подготовке. Но время проходило, а никаких поползновений к захвату Перемышля не предпринималось. Это дело меня не касалось, и потому я считал себя не вправе вмешиваться в предначертания моего соседа и тем или иным способом влиять на его решение.
До конца сентября мы стояли бездеятельно на назначенной нам линии и вполне отдохнули. Одно меня озабочивало, это — далеко не достаточный прилив пополнений, да и те, которые прибывали, были не в должной мере подготовлены к боевой деятельности. Относил я это к тому, что запасные батальоны были только что сформированы и не втянулись еще в свою работу в полной мере. Но я в этом, к сожалению, сильно ошибался: за всю войну мы ни разу не получали хорошо обученных пополнений, и, чем дело шло дальше, тем эти пополнения прибывали не только всё хуже и хуже обученными своему делу, но и плохо подготовленными в моральном отношении. По-прежнему никто не мог мне дать ответа при моих опросах, какой смысл этой войны, из-за чего она возникла и каковы наши цели. В этом отношении нельзя не обвинять военное министерство, столь плохо поставившее дело в наших запасных войсках.
В конце сентября крупные шероховатости в железнодорожной работе, в особенности в Львовском железнодорожном узле, стали усиливаться, и на львовской станции пути были настолько забиты, что получилась основательная пробка и не было никакой возможности разобраться в грузах и своевременно отправлять их по принадлежности. Это дело мне было неподведомственно, но, видя, что мои жалобы не приводят ни к чему, я самовольно командировал во Львов, чтобы привести в порядок этот важнейший железнодорожный узел, генерала Добрышина, специалиста железнодорожного дела, который, поскольку это оказалось ему возможным, не имея никакой власти, разобрался в беспорядках этого узла и по возможности разгрузил его. Положение его было очень щекотливое и тяжелое, ибо, как я только что сказал, Львов, вышедший из района моей армии, мне ни с какой стороны подчинен не был и я тут вмешался не в свое дело; но так как благосостояние моей армии от беспорядка на железных дорогах начало страдать, а моим воплям никто не внимал, то скрепя сердце я захватным правом назначил генерала Добрышина начальником Львовского узла. Должен признать, что если раньше никто не внимал моим жалобам, то и тут мне никто не мешал распоряжаться в чужом ведомстве.
Во второй половине сентября было объявлено о формировании 11-й армии, целью которой была осада Перемышля и в состав которой должны были войти несколько второочередных дивизий и бригад ополчения. Командующим армией был назначен генерал Селиванов. Это был старый человек, выказавший в японскую кампанию не столько военные дарования, сколько твердость характера во время восстания во Владивостоке при революционном движении, охватившем всю Россию в 1905–1906 гг. Он был человек упрямый, прямолинейный и, по моему мнению, мало пригодный к выполнению возложенной на него задачи.
Наши дела севернее 3-й армии шли в это время довольно неважно, и все внимание главнокомандующего и штаба Юго-Западного фронта было направлено на фронт реки Вислы; группа же армий 3-й, 11-й и 8-й была поручена мне, и была отдана директива временно держаться на месте. На этом основании я перенес свой штаб в Садову Вишню, как пункт более центральный для выполнения новой возложенной на меня задачи.
Командовать осадою Перемышля до прибытия генерала Селиванова был назначен командир 9-го корпуса 3-й армии генерал Щербачев, которого я давно знал по Петербургу. Он доложил мне, что, по его мнению, вынесенному по близком ознакомлении с положением дел, Перемышль и в настоящее время взять штурмом легко и за удачу он ручается. Предложение было очень соблазнительное, даже если предполагать, что потери будут значительны, ибо с падением Перемышля вновь сформированная 11-я армия имела бы развязанные руки и значительно усилила бы фронт 3-й и 8-й армий. Кроме того, было несомненно, что противник, ввиду общего положения дел и нашего бездействия на левом фланге, в ближайшем будущем предпримет сильные наступательные действия, для того чтобы освободить Перемышль — важнейшую первоклассную крепость Австро-Венгерской империи. С падением Перемышля этот момент отпал бы и мы могли бы развить безбоязненно дальнейшие наступательные операции, которые имели бы благотворное влияние на длительное сражение на Висле. Все вышеизложенное склонило меня согласиться на штурм Перемышля.
Изложив все только что перечисленные доводы главнокомандующему, я испросил его разрешения на производство этой операции, на что и получил утвердительный ответ. Я сознавал, что, в сущности, время для взятия Перемышля нахрапом прошло и что теперь это дело гораздо труднее и не сулит, как недели три тому назад, верной удачи; но выгоды взятия Перемышля были настолько велики, что стоило рискнуть. При составлении плана атаки Перемышля у меня возникло некоторое разногласие с генералом Щербачевым. По его мнению, следовало атаковать важнейшую группу восточных фортов, наиболее современных и сильно укрепленных, в особенности Седлисских. Щербачев полагал, что с падением этих фортов австрийцам держаться далее в Перемышле было бы невозможно. Соглашаясь с этим мнением, я, однако, полагал, что взятие живой силы восточных фортов, в особенности Седлисских, было проблематично и что атака западных фортов, наименее вооруженных, сулит большой успех и отрезает крепостной гарнизон от его путей отступления. Затруднительность атаки Перемышля состояла главным образом в том, что неприятельская армия, отошедшая на запад и находившаяся в то время в трех-четырех переходах от Перемышля, успела уже оправиться и пополниться. Следовательно, она должна будет немедленно перейти в наступление, дабы помочь Перемышльскому гарнизону и не допустить падения этой крепости. Было необходимо предусмотреть тот случай, что встреча с армией противника произойдет не во время штурма крепости, для чего надо было успеть построить боевой фронт в целях парирования атаки противника. Решено было сначала атаковать восточную группу фортов, чтобы привлечь внимание и резервы противника в эту сторону, а с остальных сторон охватить Перемышль и брать штурмом форты с северо-запада и юго-запада. Кавалерии было приказано усугубить свое внимание и усиленно производить разведывание, дабы она могла своевременно нас известить о переходе неприятеля в наступление.
В это время 2-я сводная казачья дивизия, направленная мною, как было выше сказано, в Карпаты, к г. Турка, была остановлена, а затем ее начала теснить венгерская дивизия, и генерал Павлов просил помощи, чтобы приостановить контрнаступление венгров. Мною было приказано генералу Цурикову выслать из 24-го армейского корпуса один пехотный полк для подкрепления казаков.
Командующий 3-й армией генерал Радко-Дмитриев в то же время настоятельно просил подкрепить его армию, опасаясь, что иначе он не будет иметь возможности удержаться на левом берегу Сана севернее Перемышля. Я находил эти опасения преувеличенными, но главнокомандующий приказал передать ему 7-й армейский корпус, что мною и было исполнено; 12-й корпус с генералом Лешем во главе я назначил в помощь войскам генерала Щербачева для атаки Перемышля, и, таким образом, южнее Перемышля в это время осталось два корпуса — 8-й и 24-й.
Для атаки Перемышля помимо частей формировавшейся 11-й армии были назначены из 12-го корпуса 19-я пехотная дивизия для штурма фортов Седлисской группы и 12-я пехотная дивизия, которая должна была способствовать овладению северо-западными фортами, наиболее слабыми; юго-западные форты предназначались 3-й стрелковой бригаде; для артиллерийской подготовки штурма фортов Седлисской группы были собраны два дивизиона тяжелой артиллерии и два мортирных. Артиллерийская подготовка не могла быть продолжительной и достаточно интенсивной по недостатку снарядов, но тем не менее стрельба велась удачно, и неприятельский артиллерийский огонь подавлялся нашей артиллерией, так как, уступая австрийской в количественном отношении и калибром орудий, наша артиллерия качеством стрельбы была неизмеримо выше.
Генерал Щербачев, ведший эту операцию против Перемышля, был вполне убежден в благоприятных результатах нашего предприятия против этой крепости, и, действительно, два форта Седлисской группы были взяты штурмом 19-й пехотной дивизией, причем особенно отличился Крымский полк. Все внимание осажденных, как мы и желали, и большая часть его резервов были притянуты к Седлисской группе, и становилось более удобным начать атаку северо-западных и юго-западных фортов. Но в это время случилось то, чего мы опасались. Австрийская армия перешла в наступление для спасения Перемышля. Австрийцы могли к нам свободно подойти в четыре перехода и вступить с нами в бой. Явилась необходимость быстро прекратить штурм Перемышля, ибо силы врага, по нашим сведениям, превышавшие наши, направлялись частью против 3-й армии, а частью против 8-й.
Имея в этот момент всего два корпуса, которые ни в коем случае не могли бы сдержать наступающего врага, я, обсудив с генералом Щербачевым положение дела, пришел к заключению, что штурм Перемышля требовал, по всей вероятности, еще дней пять-шесть, которых у нас в распоряжении не оказывалось, а потому пришлось отказаться от этой выгодной операции, отозвать 12-й корпус из Перемышля и приказать 11-й армии снять осаду этой крепости и запять позицию, примыкая своим правым флангом к левому флангу 3-й армии и левым — к правому флангу 8-й армии.
Мои три корпуса заняли приблизительно фронт от деревни Поповище до г. Старое Место; это было в последних числах сентября. Так как 3-я армия входила в состав порученной мне группы, то генерал Радко-Дмитриев донес мне, что он считает рискованным оставаться на левом берегу Сапа, имея эту реку в своем тылу при недостаточном количестве переправ, и спрашивал моего согласия на отвод армии на правый берег Сапа. Должен сознаться, что такое предположение Радко-Дмитриева мне нисколько не улыбалось по той простой причине, что хотя отведенная за реку 3-я армия при сильном осеннем разливе, несомненно, находилась бы вне каких-либо покушений противника, но и сама она не могла бы ничего против него предпринять. Нетрудно было догадаться, что, имея Перемышль в своих руках, австрийцы, оставив перед 3-й армией небольшие силы, перебросят большую часть своих войск с севера на юг, и моя малочисленная армия, ничем не прикрытая с фронта, могла оказаться в критическом положении, имея на своих плечах подавляющие неприятельские силы. Мне, однако, трудно было не согласиться с генералом Радко-Дмитриевым на отход его армии за Сан потому, что в случае какой-либо крупной неудачи у него он стал бы, несомненно, ссылаться на то, что из-за эгоистических личных видов я подверг его опасности поражения. Мне, заинтересованному в этом деле лицу, по военной этике, было невозможно достаточно сильно бороться с его желанием. Я надеялся, что главнокомандующий рассудит нас и решит на пользу общего дела. К сожалению, в своих предположениях я ошибся, и Радко-Дмитриеву было разрешено, в сущности говоря, бросить мою армию на произвол судьбы. В таком тяжелом положении мне оставалось лишь одно: вытребовать из 3-й армии 7-й армейский корпус и впоследствии еще одну пехотную дивизию, дабы хоть сколько-нибудь уравновесить мои силы с силами противника.
Как бы то ни было, я успел построить фронт армии ко времени подхода австрийцев и, по своему обыкновению, при их приближении перешел в наступление для нанесения короткого удара, дабы спутать их карты. Это мне и на сей раз удалось. Дело в том, что дорог южнее Перемышля мало, местность гористая и глубокие колонны австрийцев, не имея возможности своевременно развертываться, должны были принимать бой при невыгодных для них условиях своими головными частями. Из подслушанных телефонных разговоров, приказаний и донесений явствовало, что в первых числах октября австрийцы считали себя в чрезвычайно тяжелом положении, даже критическом; начальство их подбадривало, сообщая, что севернее Перемышля русские отошли за Сан и что австрийские войска в ближайшем будущем получат богатое подкрепление.
Тут впервые с начала этой кампании вверенной мне армии пришлось около месяца вести позиционную войну при крайне невыгодных для нее условиях. Правый фланг армии чуть не упирался в неприятельскую крепость, 11-я армия, состоявшая из второочередных дивизий и бригад ополчения, была малоустойчива, приходилось её постоянно поддерживать, а противник все более и более на нас нападал с фронта, постоянно увеличивая свои силы. Одновременно с этим начало обнаруживаться наступление значительных сил против моего левого фланга с Карпат, которое охватывало 24-й корпус; кроме того, также относительно значительные силы стали наступать от Сколе и Болехува на Стрый — Миколаев прямым направлением на Львов, нам в тыл. На мои настоятельные требования прислать мне подкрепления ввиду многочисленности врага и крайне тяжелой стратегической обстановки главнокомандующий ограничился лишь тем, что распорядился начать эвакуацию Львова, и я был, можно сказать, брошен, как будто бы уничтожение моей армии, выход противника мне в тыл и захват им Львова не представляли одинаково важного интереса для всех нас.
Должен признать, что я до настоящего времени не могу никак попять такое странное, ничем не объяснимое отношение к моей армии, которое могло иметь крайне тяжелые и печальные последствия не только для нее, но и для всего Юго-Западного фронта. Мне и до сего дня не удалось узнать, какие соображения в данном случае руководили генералом Ивановым и бывшим тогда его начальником штаба генералом Алексеевым. В войсках моих ходили чрезвычайно тяжелые пересуды. Мне передавали, что в штабе Юзфронта было обычно выражение: «Брусилов выкрутится» или: «Пусть выкручивается». Это, конечно, сплетня, но характерная сплетня, и не следовало шутить с народным негодованием, давая повод к таким сплетням. Ведь масса солдатская прислушивалась к этим разговорам и добавляла от себя: «Конечно, генерал выкрутится, да только нашей кровью и костями». Бодрости духа, столь необходимой во время войны, это не прибавляло.
Итак, я был атакован с фронта почти двойными силами противника. Производился охват моего левого фланга войсками, спускавшимися с Карпат от Турки, и, наконец, направлением на Стрый — Миколаев — Львов выходили ко мне в тыл неприятельские силы, значительно превышавшие, во всяком случае, войска, которые должны были охранять его. На моем фронте стоял я довольно крепко, но меня тревожил левый фланг 11-й армии, который обстреливался тяжелой артиллерией крепости Перемышль и был недостаточно устойчив. Кроме того, одна из второочередных дивизий, в одну не прекрасную ночь атакованная 11-м австрийским корпусом, бросила свои окопы, очистив их совершенно. При расследовании нельзя было выяснить, кто в этом виноват: командир бригады докладывал, что получил категорическое приказание начальника дивизии, а начальник дивизии столь же категорически отказывался от отдачи такого распоряжения. Так или иначе, но вследствие этого обстоятельства неприятель хлынул большими силами в образовавшийся прорыв.
К счастью, австрийцы, врезавшись в наше расположение, запутались в лесу, и это помешало им использовать достаточно быстро одержанный ими успех. Получив тотчас же телеграфное извещение о прорыве нашего фронта, я направил туда 9-ю и 10-ю кавалерийские дивизии, стоявшие у меня в резерве, которым приказал во что бы то ни стало локализовать этот прорыв и не дать австрийцам возможности проникнуть глубже в наше расположение. Вместе с тем мною было приказано командиру 12-го корпуса энергично атаковать австрийцев в занятом ими лесу и восстановить положение; кроме того, самовольно ушедшей из своих окопов дивизии приказал вернуться. Эта второочередная дивизия имела мало офицеров, да и те оказались не на высоте своего положения. Тут пришла на помощь кавалерийская дивизия, которая выделила по собственной инициативе часть своих офицеров, добровольно вызвавшихся принять на себя командование ротами и батальонами этой сплоховавшей дивизии и водворить в них порядок. Солдаты с радостью приняли своих новых командиров и охотно, с усердием исправили свою ошибку, взяв обратно брошенные ими окопы. В общем же для усиления этой части фронта пришлось двинуть мой последний резерв, находившийся в Мосьциске, в распоряжение командира 12-го корпуса. Таким образом, хотя и с большим трудом, наш фронт был восстановлен, а прорвавшийся 11-й австрийский корпус был отброшен. Хотя под огнем тяжелой артиллерии Перемышля держаться на стыке двух армий было трудно, однако этот искус войска выдержали до конца сидения на этих позициях.
Еще труднее было положение на левом фланге армии, и туда уже раньше пришлось направить все резервы, находившиеся в моем распоряжении, передав их командиру 24-го корпуса генералу Цурикову, дабы парировать охват левого фланга армии.
Генерал Цуриков предложил собрать возможно большее количество войск, из числа данных ему, на его крайнем левом фланге на правом берегу Днестра и с этими войсками перейти в наступление, дабы отвратить охват этого фланга. Для этого требовалось не только отбросить противника и оставить заслон к югу против войск, наступавших с Турки, но и попытаться самому произвести охват правого фланга армии противника. Я охотно одобрил это предложение, ибо считал и считаю, что лучший способ обороны — это, при мало-мальской возможности, переход в наступление, то есть обороняться надо не пассивно, что неизменно влечет за собой поражение, а возможно более активно, нанося противнику в чувствительных местах сильные удары. Таким образом, я надеялся обеспечить себя и с левого охватываемого фланга.
Оставалось развернуться и измыслить способ парирования наступления противника на Львов через Миколаев. К счастью для меня, выяснилось, что австрийцы, рассчитывая лишь на разбросанные части войск, которые держались мною на правом берегу Днестра, и на невозможность собрать их все в один пункт, направили на Стрый — Миколаев недостаточные силы, тогда как при несколько ином распределении их, послав туда не менее двух-трех корпусов, австрийцы имели возможность заставить нас значительно отойти к востоку, что повлекло бы за собой грандиозные и тяжелые для всего фронта последствия. Однако, чтобы отбросить противника, выходившего ко мне в тыл, мне было необходимо послать к Миколаеву не менее одной дивизии пехоты, ибо спешно собранные у Стрыя несколько батальонов 71-й пехотной дивизии были выбиты оттуда и с боем медленно отходили к Миколаеву. Дивизия казаков по вине ее начальника не выполнила данной ей задачи и отошла без приказания от Стрыя на Дрогобыч, за что этот начальник дивизии и был мною отрешен от командования. Резервов у меня больше никаких не было, ибо за время боев на фронте я принужден был их расходовать, как выше было сказано. С боевого фронта ни одного солдата снять было невозможно вследствие несоразмерности сил противника с нашими. Тогда я решил снять одну дивизию, именно 58-ю, стоявшую на пассивном участке 11-й армии, то есть на правом берегу Сана, севернее Перемышля. Вся трудность этого дела заключалась в том, что ее необходимо было возможно быстрее перекинуть к Миколаеву, дабы не допустить противника, двигавшегося от Стрыя, переправиться на левый берег Днестра.
Нужно отдать справедливость 8-му железнодорожному батальону, который мне совсем и подчинен не был. Он, понимая необходимость быстроты перевозки, сделал в полном смысле этого слова невозможные усилия и с поразительной быстротой выполнил свою задачу. Пехота перевозилась по железной дороге, артиллерия же двигалась по шоссе переменными аллюрами и также своевременно подошла к Миколаеву. Обозы шли тоже по шоссе сзади. Начальник этой дивизии, с которым, вызвав его, я подробно переговорил в штабе армии, генерал Альфтан исполнил свою задачу блестяще. Еще с не вполне собранными частями своей дивизии, видя, что время не терпит, он из Миколаева перешел в наступление, принял на себя отступавшие части 71-й пехотной дивизии и стремительно атаковал австрийцев севернее Стрыя. После двухдневного упорного боя враг был разбит и, бросив Стрый, стал отходить на Сколе и Болехув. Таким образом, приблизительно в начале второй половины октября я обеспечился и с тыла. В это же время мой левый фланг перешел в наступление и в тяжелых непрерывных боях стал постепенно отбрасывать противника к востоку и частью к югу, по направлению к Турке; но сильно охватить правый фланг фронта австрийцев не представлялось возможным по недостатку сил.
Как бы то ни было, но к концу октября мне удалось удержаться прочно на месте, прикрыть Львов с юга и выполнить мою задачу — охранять левый фланг всего фронта русской армии.
Но положение мое было невеселое, вернее сказать, чрезвычайно трудное и тяжелое; мы дрались уже беспрерывно около месяца против сильнейшего противника, а подкрепления никакого не получали; невзирая на все мои требования, к нам прибывали пополнения лишь в самом незначительном размере. Да и пополнения эти, к сожалению, были плохо обучены и совершенно не подготовлены к ведению боя в строю, так что при постоянной убыли в войсках убитыми, ранеными и больными ряды их таяли и полки делались все более и более жидкими; утомление войск было чрезвычайное. В это-то критическое время приехал ко мне в штаб армии принц Александр Петрович Ольденбургский, стоявший во главе всей санитарной части вооруженных сил России. Он горячо принял к сердцу тяжелое положение 8-й армии и протелеграфировал об этом прямо Верховному главнокомандующему великому князю Николаю Николаевичу. В Ставке, по-видимому, только тогда поняли, в каком мы находились положении. Очевидно, штаб фронта или не хотел или не мог себе дать правильного отчета о состоянии, в котором я нахожусь, предполагая вероятно, что я сгущаю краски. Иного объяснения я дать не могу. Верховный главнокомандующий приказал немедленно направить в 8-ю армию две пехотные дивизии на усиление. Из них первая, переводившаяся ко мне 12-я сибирская стрелковая дивизия до меня доехала довольно быстро, но следующая дивизия была перехвачена на пути штабом фронта и направлена в 3-ю армию.
Я рассчитывал по прибытии этих двух дивизий собрать кулак и вместе с 8-м корпусом совершить прорыв фронта противника направлением на Хырув. Но, как я только что сказал, вторая дивизия, шедшая мне на подкрепление, до меня не дошла, а 12-ю сибирскую дивизию пришлось передать в 24-й корпус. Так как с одной дивизией прорывать фронт было нельзя, то я предпочел усилить левый фланг, чтобы действовать не прорывом, а охватом. Этот охват в данном случае мог дать менее решительные результаты, чем прорыв у Хырува, но, делая левый фланг более сильным, я питал надежду окончательно отбросить противника, наступавшего от Турки за перевал. Командир 24-го корпуса, однако, вследствие чрезвычайной слабости 48-й и 49-й пехотных дивизий, представлявших собой лишь слабые остатки бывших частей войск, принужден был двинуть их не к Турке, в направлении к которой действовали наши 65-я пехотная дивизия и 4-я стрелковая бригада, а для усиления двух вышеупомянутых дивизий.
В это время по приказанию главнокомандующего, сообразно с общим положением дела, 3-я армия стала опять переходить на левый берег Сана. Этим она, притягивая на себя часть неприятельских сил, несколько облегчила действия 8-й и 11-й армий. При предыдущем переходе 3-й армии с левого берега на правый она неосторожно уничтожила все свои переправы, и теперь ей пришлось под огнем противника опять их восстанавливать, неся излишние потери. В конце октября наши летчики донесли, что заметили длинные обозные колонны, отходившие от фронта противника к западу; это, очевидно, было признаком того, что австрийцы считали это длительное сражение проигранным и подготовляли свой отход. Немедленно мною было отдано приказание всеми войсками подготовиться к решительному наступлению и тотчас же атаковать врага. Действительно, противник начал отходить в ту же ночь, а вверенная мне армия с рассвета атаковала арьергарды и с боем продвигалась вперед, захватывая пленных, орудия и обозы, невзирая на крайнее утомление наших войск.
Это сражение под Перемышлем, беспрерывно длившееся в течение месяца, было последнее, о котором я мог сказать, что в нем участвовала регулярная, обученная армия, подготовленная в мирное время. За три с лишком месяца с начала кампании большинство кадровых офицеров и солдат выбыло из строя, и оставались лишь небольшие кадры, которые приходилось спешно пополнять отвратительно обученными людьми, прибывшими из запасных полков и батальонов. Офицерский же состав приходилось пополнять вновь произведенными прапорщиками, тоже недостаточно обученными. С этого времени регулярный характер войск был утрачен и наша армия стала все больше и больше походить на плохо обученное милиционное войско. Унтер-офицерский вопрос стал чрезвычайно острым, и пришлось восстановить учебные команды, дабы спешным порядком хоть как-нибудь подготовлять унтер-офицеров, которые, конечно, не могли заменить старых, хорошо обученных.
Приходится и тут обвинить наше военное министерство в непродуманности его действий по подготовке к войне. Офицеры, как выше было сказано, приходили к нам совершенно неподготовленными и не в достаточном количестве. Унтер-офицеры, которых в запасе было очень много, не были взяты на особый учет как специальный низший начальствующий состав, весьма ценный для надлежащего его использования, а присылались в числе рядовых. Таким образом, во время мобилизации и в начале кампании у нас был значительный излишек унтер-офицеров, а потом их совсем не стало, и мы, ведя боевые действия, принуждены были в тылу каждого полка иметь свою учебную команду. Наконец, прибывавшие на пополнение рядовые в большинстве случаев умели только маршировать, да и то неважно; большинство их и рассыпного строя не знали, и зачастую случалось, что даже не умели заряжать винтовки, а об умении стрелять и говорить было нечего. Приходилось, следовательно, обучать в тылу каждою полка свое пополнение и тогда только ставить в строй. Но часто во время горячих боев, при большой убыли, обстановка вынуждала столь необученные пополнения прямо ставить в строй. Понятно, что такие люди солдатами зваться не могли, упорство в бою не всегда оказывали и были не в достаточной мере дисциплинированы. Чем дальше, тем эти пополнения приходили в войска все хуже и хуже подготовленными, невзирая на все протесты, жалобы и вопли строевых начальников. Многие из этих скороспелых офицеров, унтер-офицеров и рядовых впоследствии сделались опытными воинами, и каждый в своем кругу действий отлично выполнял свои обязанности, но сколько излишних потерь, неудач и беспорядка произошло вследствие того, что пополнения приходили к нам в безобразно плохом виде!
Вверенная мне армия, гоня противника перед собой, продолжала быстро наступать к линии Дынув — Санок, по реке Сап, куда противник спешно отступал. Река Сан не была препятствием для наших войск в это время года, и мы легко и быстро перешли через нее и отбросили австрийцев дальше на запад. Противник, слабо сопротивляясь, отошел на свои заранее приготовленные позиции, прикрывая карпатские проходы, чтобы не допустить нас спуститься в Венгерскую равнину. Таким образом, неприятель занял фланговую позицию по отношению к 8-й армии. В то же время 3-я армия, двигаясь севернее Перемышля и не имея перед собой больших сил противника, стремительно подходила к Кракову.
К моему удивлению, я к этому времени получил директиву главнокомандующего, в которой значилось, чтобы я занял частью своих сил карпатские проходы, а сам с главными моими силами спешил к тому же Кракову, дабы поддержать и охранять левый фланг 3-й армии и способствовать взятию Краковской крепости. Имея на левом фланге моей армии свыше четырех неприятельских корпусов, которые, несомненно, ударили бы мне в тыл и лишили бы меня моих путей сообщения, я донес, что это приказание я выполнить не могу до тех пор, пока не разобью окончательно противника и не сброшу его с Карпатских гор. Из четырех имевшихся у меня корпусов один из них, а именно 7-й корпус, оставлен был для охраны моего левого фланга и прикрытия осады крепости Перемышля. Какой я мог оставить заслон против четырех австрийских корпусов из числа трех корпусов, имевшихся в моем распоряжении? Если бы я даже решился оставить два корпуса, то двинуть дальше к западу я мог лишь один, при большой вероятности, что и при этих условиях два корпуса, растянутые на 100 верст, были бы прорваны, а армия моя по частям была бы разбита. Изложив все вышесказанное, я дополнительно донес, что в данное время мои войска всеми своими силами атакуют армию противника, занявшую фланговую позицию, и что, пока я её не разобью, я дальше идти не могу.
На это мне было отвечено, что время не терпит, что 3-я армия может оказаться в критическом положении и что мне приказывается возможно быстрее разбить врага и, не задерживаясь, спешить дальше на запад на поддержку 3-й армии. На это я опять ответил, что в данный момент я этой директивы выполнить не могу, времени не теряю, веду беспрерывно бой, но определить, когда противник будет разбит, точно не могу. Одновременно я доносил, что, ведя беспрерывные бои в Карпатских горах, моя армия оказалась в ноябре голой, летняя одежда истрепалась, 128 сапог нет и войска, находясь по колено в снегу и при довольно сильных морозах, еще не получили зимней одежды. Я прибавлял, что считаю это преступным со стороны интендантства фронта и требую быстрейшей присылки сапог, валенок и теплой одежды. Вслед за этим я уже от своего имени, не надеясь более на распорядительность интендантства, отдал приказание приобретать теплые вещи в тылу и быстро везти их к армии. Должен к этому добавить, что вопрос о теплой одежде мною был поднят еще в сентябре, но, как мне было разъяснено, считалось, что необходимо сначала снабдить теплыми вещами войска Северо-Западного фронта вследствие более сурового там климата; но не было принято в расчет, что в Карпатах зима еще более суровая и что войскам, находящимся в горах, также, и еще в большей степени, требуется зимняя одежда. Во всяком случае, казалось бы, в ноябре можно уже было снабдить все войска теплой одеждой. Я считал, что это была преступная небрежность интендантства.
Вскоре я получил опять телеграмму главнокомандующего, в которой он упрекал меня, что я увлекаюсь собственными целями, излишне задерживаюсь боем с австрийской армией, преграждающей мне путь в Венгерскую долину, и что я, под благовидным предлогом, не желаю выполнить его директивы. Таков был смысл этой неприятной для меня телеграммы. Пришлось ему ответить, что я решительно не могу понять, каким образом я брошу противника, еще вполне боеспособного, более многочисленного, чем моя армия, и каким образом, оставив его на моем фланге в тылу, я покину свои коммуникационные линии. Ведь этим мне придется открыть ему путь к Перемышлю и Львову, а самому устраивать новую базу для армии на Ржешув — Ланцут — Ярослав; я считал, что подобная перспектива равняется поражению.
Должен оговориться, что с начала войны я никак не мог узнать плана кампании. Когда я занимал должность помощника командующего войсками Варшавского военного округа, выработанный в то время план войны с Германией и Австро-Венгрией мне был известен; он был строго оборонительный и во многих отношениях, по моему мнению, был составлен неудачно. Он и не был применен в действительности, а по создавшейся обстановке мы начали наступательную кампанию, которую не подготовили. В чем же заключался наш новый план войны, представляло для меня полную тайну, которой не знал, по-видимому, и главнокомандующий фронтом. Легко может статься, что и никакого нового плана войны создано не было и действовали лишь случайными задачами, которые определялись обстановкой. Как бы то ни было, мне казалось чрезвычайно странным, что мы без оглядки стремимся только вперед, не обращая внимания на близкий мне левый фланг, что мы удлиняем наши пути сообщения, растягивая наши войска до бесконечности по фронту, не имея достаточно сильных резервов, без которых, как уже выяснилось, мы не можем быть обеспеченными не только от разных неприятных сюрпризов, но и от той или иной катастрофы, могущей перевернуть столь удачно начатую войну. Опасность разброски сил при постоянно увеличивающихся наших коммуникационных линиях усугублялась еще тем, что мы постепенно получали настоятельные предупреждения, что огнестрельных припасов осталось мало, в особенности артиллерийских снарядов, и что нет оснований ожидать в скором будущем исправления этого ужасного положения.
Во второй половине ноября 8-я армия, беря одну неприятельскую позицию за другой, разбила противника и заставила его отступить на южную сторону Карпат; но эти бои, чрезвычайно тяжелые и ожесточенные, которые притом нужно было вести с наивозможно меньшей тратой снарядов и патронов, выбивая шаг за шагом противника с одной вершины на другую, дорого стоили нашим войскам, и потери наши были значительны. Каждая вершина на этих позициях была заранее сильнейшим образом укреплена при трех- и четырехъярусной обороне, и мадьяры (в особенности) со страшным упорством отчаянно защищали доступ к Венгерской равнине, в которую, впрочем, мы в данное время не стремились. Наиболее упорные бои пришлось вести у Мезо-Лаборца, где главная тяжесть боя выпала на долю 8-го корпуса во главе с генералом Орловым.
Странное было положение этого генерала: человек умный, знающий хорошо свое дело, распорядительный, настойчивый, а между тем подчиненные войска не верили ему и ненавидели его. Сколько раз за время с начала кампании мне жаловались, что это — ненавистный начальник и что войска глубоко несчастны под его начальством. Я постарался выяснить для себя, в чем тут дело. Оказалось, что офицеры его не любят за то, что он страшно скуп на награды, с ними редко говорит и, по их мнению, относится к ним небрежно; солдаты его не любили за то, что он с ними обыкновенно не здоровался, никогда не обходил солдатских кухонь и не пробовал пищи, никогда их не благодарил за боевую работу и вообще как будто бы их игнорировал. В действительности он заботился и об офицере и о солдате, он всеми силами старался добиваться боевых результатов с возможно меньшей кровью и всегда ко мне приставал с просьбами возможно лучше обеспечивать их пищей и одеждой; но вот сделать, чтоб подчиненные знали о его заботах, — этим он пренебрегал или не умел этого. Знал я таких начальников, которые в действительности ни о чем не заботились, а войска их любили и именовали их «отцами родными». Я предупреждал Орлова об этом, но толку было мало, он просто не умел привлекать к себе сердца людей. Как бы то ни было, но тут он работал хорошо и со своим корпусом дело сделал.
В это же время 24-й корпус наступал несколько восточнее, от Лиско на Балигруд, Цисну и Ростоки. И этому корпусу было приказано не спускаться с перевала, но тут генерал Корнилов опять проявил себя в нежелательном смысле: увлекаемый жаждой отличиться и своим горячим темпераментом, он не выполнил указания своего командира корпуса и, не спрашивая разрешения, скатился с гор и оказался, вопреки данному ему приказанию, в Гуменном; тут уже хозяйничала 2-я сводная казачья дивизия, которой и было указано, не беря с собой артиллерии, сделать набег на Венгерскую равнину, произвести там панику и быстро вернуться. Корнилов возложил на себя, по-видимому, ту же задачу, за что и понес должное наказание. Гонведская дивизия, двигавшаяся от Ужгорода к Турке, свернула на Стакчин и вышла в тыл дивизии Корнилова. Таким образом, он оказался отрезанным от своего пути отступления; он старался пробраться обратно, но это не удалось, ему пришлось бросить батарею горных орудий, бывших с ним, зарядные ящики, часть обоза, несколько сотен пленных и с остатками своей дивизии, бывшей и без того в кадровом составе, вернуться тропинками.
Тут уже я считал необходимым предать его суду за вторичное ослушание приказов корпусного командира, но генерал Цуриков вновь обратился ко мне с бесконечными просьбами о помиловании Корнилова, выставляя его пылким героем и беря на себя вину в том отношении, что, зная характер Корнилова, он обязан был держать его за фалды, что он и делал, но в данном случае Корнилов совершенно неожиданно выскочил из его рук. Он умолял не наказывать человека за храбрость, хотя бы и неразумную, и давал обещание, что больше подобного случая не будет. Кончилось тем, что я объявил в приказе по армии и Цурикову, и Корнилову выговор. Впоследствии, когда Корнилов, уже в составе 3-й армии, опять не послушался Цурикова и при прорыве немцами фронта 3-й армии не выполнил данного ему приказания, он был окружен со всех сторон и взят в плен. Вспоминая об этом, я, хотя и запоздало, сожалел, что вследствие моей неуместной в данном случае уступчивости я невольно подготовил окончательное поражение этой славной дивизии. Странное дело, генерал Корнилов свою дивизию никогда не жалел: во всех боях, в которых она участвовала под его начальством, она несла ужасающие потери, а между тем офицеры и солдаты его любили и ему верили. Правда, он и себя не жалел, лично был храбр и лез вперед очертя голову.
Противник был разбит — это несомненно. Но он далеко не был уничтожен и не потерял своей боеспособности. Поэтому я с большой болью в сердце приказал войскам приостановиться, бросив недоделанное дело, то есть не уничтожив живой силы противника. Я оставил, согласно повелению главнокомандующего, 12-й корпус в составе трех дивизий пехоты и одной дивизии конницы оборонять перевалы, а 8-й и за ним 24-й корпуса двинул на запад на помощь 3-й армии, которая, подходя к Кракову, действительно находилась в тяжелом, опасном положении. При этом я, однако, донес, что считаю мой тыл нисколько не обеспеченным и предполагаю, что, как только я уйду вперед, противник опять перейдет в наступление, но уже в моем тылу, и, несомненно, опрокинет 12-й корпус, который не в состоянии бороться с данными ему силами против сильнейшего врага. При этом я добавлял, что Карпаты, в особенности западные, которые значительно ниже восточных, не представляют собой серьезного препятствия, пехота с горной артиллерией может двигаться повсюду и что поэтому занятие перевалов нисколько и ни от чего нас не гарантирует.
Получив, однако, подтверждение безусловной необходимости спешить на помощь 3-й армии, я туда и устремился, но, таким образом, 8-я армия с четырьмя корпусами флангом своим от русской границы растянулась на 250–300 верст. Линия войск без всяких резервов была настолько тонка, что, очевидно, противник мог прорваться в любом месте, где он собрал бы кулак для удара. Для оказания помощи 3-й армии у меня оставались в руках лишь два слабых по составу корпуса. Такая стратегическая обстановка мне была непонятна; я считал положение армии очень опасным и был убежден, что австрийцы обязательно воспользуются таким благоприятным для них случаем, что, к сожалению, вскоре и оправдалось, как это будет видно дальше. Я и до сих пор не могу понять, каким образом при отсутствии огнестрельных припасов можно было стремиться дальше на запад очертя голову и что руководило моим начальством удаляться столь сильно от нашей базы, совершенно не обеспечивая нашего левого фланга и тыла.
Раньше, чем продолжать мое повествование, считаю нужным объяснить состояние 8-й армии к этому времени. С момента перехода через границу, то есть почти полных четыре месяца, войска почти беспрерывно дрались, имея перед собой, а иногда еще на фланге и в тылу, значительные неприятельские силы. Армия шла победоносно, вынося почти беспрерывные жестокие бои; она все время несла громадные потери в людях и получала, как раньше было сказано, незначительные пополнения неудовлетворительного качества. Ко времени, о котором я говорю, армия уже растаяла и дивизии представляли собой не 15-тысячные массы, а их жидкие остатки; были некоторые дивизии в составе трех тысяч бойцов, и не было дивизии, в рядах которой можно было бы насчитать свыше пяти-шести тысяч солдат под ружьем. Большая часть кадровых офицеров выбыла из строя убитыми и ранеными, а некоторые слабодушные после ранений упорно держались в тылу или по болезни, или получив тыловые места в России. В сущности, прежней армии уже не было. Вот с этими-то остатками и приходилось теперь воевать, бесконечно растягиваясь и разбрасываясь. Больно мне было и досадно. Нетрудно было предвидеть, что в недалеком будущем нам придется очень тяжело.
8-й корпус был мною двинут через Жмигруд — Горлице — Грыбов — Новый Сандец, а 24-й корпус в том же направлении, но севернее 8-го корпуса. К этому времени 3-я армия была атакована австро-германскими войсками. В особенности беспокоило Радко-Дмитриева присутствие германских войск, которые, несомненно, дрались лучше австрийцев и венгров, в особенности первых из них, и Радко-Дмитриев настоятельно просил меня оказать ему поддержку возможно быстрей, что я и выполнил, приказав генералу Орлову немедленно перейти в наступление, хотя бы одной дивизией, на Лиманова — Тымбарк. 10-я кавалерийская дивизия, предшествовавшая войскам 8-го корпуса, была ему подчинена. Это наступление оказало действительно значительную поддержку левому флангу 3-й армии и притянуло на себя большие силы врага.
Растянувшись своими войсками на триста с лишним верст, от нашей границы до Нового Сандеца, я считал, что управление столь разбросанной армией и на таком расстоянии нецелесообразно и не дает возможности выполнять дальше возложенную на меня с начала войны задачу. Я должен был охранять левый фланг всего нашего фронта с совершенно недостаточными для этого силами, а посему я просил некоторую часть фронта передать на юг, в 11-ю армию, что и было исполнено. Вместе с тем, предвидя, что я буду неминуемо прорван у себя в тылу, приблизительно по линии Грыбов — Санок, неприятельской армией, оставленной у меня на фланге и в тылу, я настоятельно просил перебросить коммуникационную линию на Ржешув — Ярослав и разрешить устройство моих тыловых магазинов но этой линии, на что также получил согласие. Такого согласия было, однако, недостаточно, потому что все распоряжения по устройству магазинов и этапов находились не в моем ведении и должны были последовать от главнокомандующего. К сожалению, все велось чрезвычайно медленно, как-то неохотно и, во всяком случае, своевременно готово не было.
Когда 8-й корпус втянулся в бой, а 24-й ушел на запад, австрийцы с юга, с Карпатских гор, естественно, перешли в наступление, везде подавляющими силами, прорвали 12-й корпус и откинули его к северу с большими для него потерями. Противник подошел на своем правом фланге к Саноку и этим прервал мою связь с тыловыми учреждениями армии, и по этой дороге войска уже больше ничего получать не могли. Штаб моей армии в это время находился в г. Кросно, в направлении которого наносил главный удар противник. При отсутствии в данном месте каких бы то ни было резервов ясно было, что Кросно неминуемо должен попасть в руки противника в самом скором времени, а потому я перенес свой штаб в Ржешув, а сам оставался возможно дольше в Кросно, так как служба связи не могла достаточно быстро наладить телеграфные линии по новым направлениям, управлять же войсками на таких расстояниях возможно лишь с помощью телеграфа.
При переезде из Кросно в Ржешув пришлось пережить одну очень тяжелую ночь. Ночевал я с оперативным отделением моего штаба в Домарадзе. Шоссейная дорога была в столь ужасном виде, что по ней в автомобиле ехать было почти невозможно, а дорога от Кросно на Ржешув, на которой я ночевал, была открыта для противника, ибо части 12-го корпуса были отброшены на северо-восток от Кросно; кавалерийская дивизия, которую я вытребовал к этому месту, прибыть еще не могла, и между мной и противником решительно никого не было. Уехать из этого местечка до утра было нельзя, ибо телеграфная связь на эту ночь уже ранее была налажена, и я очень беспокоился за участь 12-го корпуса, так как командир корпуса доносил, что у него нет никаких сведений о 12-й сибирской стрелковой дивизии, которая с боем должна была отступать на Рыманув и там войти с ним в связь. Терять управление армией я не хотел, но и попасть в плен к врагу желал еще менее, а потому я выслал к Кросно на полупереход мою конвойную сотню, а южную околицу деревни занял полуротою охранной роты штаба армии, которая тут находилась. Если бы австрийская конница узнала обо всем только что сказанном, мы легко могли бы сделаться ее добычей. К счастью, как потом выяснилось от пленных, они решительно никакого понятия не имели о расположении наших войск и о месте пребывания штаба армии.
Кстати должен сказать, что не только в Восточной Галиции, где большинство населения русины, к нам расположенные с давних пор, но и в Западной, где все население чисто польское, не только крестьяне, но и католическое духовенство относились к нам хорошо и во многих случаях нам помогали всем, чем могли. Это объяснялось тем, что ранее того по моему распоряжению было широко распространено среди населения известное воззвание великого князя Николая Николаевича к полякам. Поляки надеялись, что при помощи русских опять воскреснет самостоятельная Польша, к которой будет присоединена и Западная Галиция. Я старательно поддерживал их в этой надежде. Волновало и досадовало поляков лишь то, что от центрального правительства России не было никаких подтверждений того, что обещания великого князя будут исполнены; поляков очень раздражало, что царь ни одним словом не подтвердил обещаний Верховного главнокомандующего. У них сложилось мнение, что Николай II никогда своих обещаний не исполняет, а потому многие из них, в особенности духовенство, опасались, что, когда пройдет необходимость привлекать их на свою сторону, русское правительство их надует, нисколько не церемонясь с обещаниями великого князя.
Во всяком случае, должен сказать, что за время моего пребывания в Западной Галисии мне с поляками было легко жить и они очень старательно, без отказов, выполняли все мои требования. Железные дороги, телеграфные и телефонные линии ни разу не разрушались, нападения даже на одиночных безоружных наших солдат ни разу не имели места. В свою очередь я старался всеми силами выказывать полякам любезность и думаю, что они нами были более довольны, чем австрийцами.
Например, в Ржешуве накануне Рождества комендант штаба армии мне доложил, что духовенство и население города чрезвычайно огорчены, что ночная служба, которая у католиков всегда бывает накануне Рождества, воспрещена и раз навсегда строжайшим образом запрещено звонить в церковные колокола. Я чрезвычайно удивился такому дикому запрещению, тем более что противник был настолько далеко от Ржешува, что никаким звоном колоколов сигналов подавать было нельзя. Я потребовал старшего из ксендзов и спросил его, кто запретил ему звонить и молиться Богу. Он мне ответил, что это запрещение исходит от австрийских властей. Я рассмеялся и сказал ему, что распоряжение австрийцев меня не касается и что я разрешаю им и звонить и Богу молиться, сколько они хотят, и чем больше, тем лучше.
Что касается еврейского населения, весьма многочисленного в обеих половинах Галиции, то оно при австрийцах имело очень большое значение, было много помещиков-евреев, и русинское и польское население относилось к ним неприязненно. Почти все состоятельные евреи во время нашего наступления бежали, и осталась лишь одна беднота. В общем, евреи были больше расположены к австрийцам по весьма понятной причине. Но лично я о них ничего дурного за время нашего там нахождения сказать не могу; они были очень услужливы, выполняли все наши требования и вели себя смирно и тихо. Им тоже мною было разрешено молиться сколько и как угодно, что также привело их в восторг; ни в какие счеты и расчеты между различными национальностями Галиции я не находил нужным вмешиваться, а требовал лишь, чтобы они жили спокойно и выполняли наши приказания, не мешая нам воевать.
Понятно, что, поскольку это было возможно, я не допускал грабежа мирных жителей и разных обид, требовал также, чтобы за все, что бралось от населения, было немедленно уплачено деньгами по таксе, утвержденной главнокомандующим; тем не менее должен признать, что, в особенности первое время по переходе через наши границы, в Восточной Галиции несколько городов было сожжено, а усадьбы имений, попадавшихся по пути, большей частью были сожжены или разграблены; виновниками этих беспорядков была главным образом наша конница, шедшая впереди, очень часто также сами крестьяне, озлобленные против помещиков, а зачастую и тыловые обозные части. Невзирая на самые строгие меры, эти обозные части, как нестроевые, ускользнули от строгого наблюдения и производили грабежи. С крайним сожалением должен сказать, что находились офицеры, по преимуществу тыловые, которые не брезговали заниматься тем же позорным делом и старались направить награбленные вещи домой в Россию, но этих господ, как только мне удавалось узнать о подобных их деяниях, я немилосердно предавал суду. В Западной Галиции уже таких грабежей не было; пожары в значительной степени уменьшились, и в этом отношении порядка было больше.
Переход в наступление австрийской армии в тылу левого фланга вверенной мне армии с отбросом нашего 12-го корпуса к северу, естественно, поставил 8-ю армию в высшей степени тяжелое положение. Переговорив по прямому проводу с начальником штаба армий фронта генералом Алексеевым, я приказал 10-ю кавалерийскую дивизию форсированным маршем перевести на дорогу к Роншице — Ржешув, чтобы связать этой дивизией 12-й корпус с 24-м, которому в свою очередь приказал перестроить фронт с запада, куда они наступали, к югу, а 8-му корпусу мною было приказано, тоже форсированным маршем, выйти через Тухов и Пильзно — Дембицу на дорогу Ржешув — Кросно в мой резерв. Одновременно, распоряжением главнокомандующего, 3-я армия стала отходить от Кракова, и её 10-й корпус также повернул фронтом на юг западнее 24-го корпуса; 12-й корпус в составе трех дивизий пехоты и одной дивизии конницы занимал фланговую позицию на восток от Кросно — Рыманув, прикрывая Перемышль. Вместе с тем мною было приказано командующему 11-й армией выдвинуть одну дивизию пехоты в направлении Сапок — Рыманув, с тем чтобы возможно быстрее выбросить австрийцев из г. Санок.
В 12-м корпусе, которым я командовал еще в мирное время, состояла 19-я пехотная дивизия, которую я давно знал — еще со времени Турецкой кампании 1877–1878 гг.; мне, тогда молодому офицеру, пришлось воевать с ними плечом к плечу, и тогда, как и в начале настоящей кампании, эта дивизия показала отличные боевые качества. В данном же случае, к моему огорчению, она не обнаружила, как мне казалось, достаточной стойкости при наступлении врага. Я был ею недоволен и поэтому перед новым переходом нашим в наступление счел необходимым с нею лично переговорить. Я приказал выстроить ее в месте расположения и поехал к ней. Дивизия в данный момент состояла всего из четырех сводных батальонов, по одному на полк, вместо 16 пехотных батальонов; в каждом из этих батальонов было по 700–800 человек; следовательно, в сущности, это был один полк неполного состава, да и офицеров было немного. Осмотрев дивизию и переговорив с нею, я увидел, что она духом так же крепка, как и раньше, и что причиной постигшей ее неудачи была слишком большая сила противника. На каждой позиции, на которой она надеялась задержаться, противник с фронта завязывал огневой бой не наступая, но зато с обоих флангов охватывал дивизию большими силами, и ей все время угрожало полное окружение; вследствие несоразмерности сил дивизии не оставалось иного исхода, как отход с одной позиции на другую. Дивизия принуждена была вести арьергардный бой, который она и выполнила стойко и искусно. Я поблагодарил её за выказанную храбрость и выразил уверенность, что при предстоящих наступательных боях, с несколько пополненными рядами, она покажет противнику, что такое старые кавказские войска.
На другой же день дивизия была пополнена ратниками ополчения, которые были распределены по всем ротам равномерно, и развернулась из четырехбатальонного в восьмибатальонный состав. Некоторое время спустя, то есть в конце января 1915 года, при общем переходе 8-й армии в наступление эта дивизия блестяще выполнила свое обещание, стремительно атаковала врага, опрокинула его с маху, взяла обратно Кросно и Рыманув и неотступно гнала австрийцев далее к югу. 12-я пехотная и 12-я сибирская стрелковые дивизии не отставали в этом порыве и, охватывая левый фланг противника, заставляли наших врагов почти без задержки уходить назад, теряя по дороге много пленных, часть артиллерии, обозов, всякого оружия и снаряжения. Таким образом, 12-й корпус отомстил за свою неудачу, в которой не он был виноват, а виновато было то непростительное, невозможное положение, в которое поставило его удивительное стратегическое соображение высшего начальства, не захотевшего принять во внимание никаких резонов. 24-й и 10-й армейские корпуса также выполнили свои задачи, и неприятель был скоро отброшен в Карпаты и должен был опять уступить нам перевалы.
Отраженное нами наступление, как потом выяснилось, велось в значительно больших размерах, чем мы полагали, и преследовало крупные цели: не более, не менее как окружение 8-й армии и пленение ее. Генерал Людендорф в изданных им после войны своих воспоминаниях (т. I, стр. 91 русского перевода) говорит: «Генерал фон Конрад стремится охватить из Карпат южное русское крыло. Чтобы это осуществить, он сильно разредил свой фронт. С 3 по 14 декабря в сражении у Лиманова и Лопанова ему удалось нанести русским поражение к западу от Дунайца» И дальше: «Охват генерала Бороевича из Карпат между рекой Саном и р. Дунайцем скоро наткнулся на превосходные силы противника, который не замедлил перейти в атаку». Как знает читатель, никаких превосходящих сил у нас в данном случае не было.
Что же касается 8-го корпуса, то он был поставлен мною в мой резерв, и я пользовался этим временем, чтобы привести его в полный порядок, ибо выдержанные им бои к югу от Кракова и форсированный кружной марш обратно к Кросно сильно его переутомили. За это время корпус переменил своего командира, и вместо генерала Орлова, по моему ходатайству, был назначен генерал Драгомиров (Владимир). Перемена эта произошла вследствие того, что Орлов, заслуживший ненависть своих подчиненных во время отхода корпуса от Нового Сандеца, выказал значительную растерянность, выпустил управление корпуса из рук и в течение суток даже не знал, что делается с его частями и где они находятся. Как уже я говорил и раньше, Орлов имел неоспоримые достоинства военачальника, но, как и в прежних войнах, в которых он участвовал, помимо разных других серьезных недочетов, его постоянно преследовал какой-то злой рок, и большинство его распоряжений и действий, невзирая на видимую их целесообразность, выходили неудачными и вызывали всевозможные нарекания и недоразумения. Он был, что называется, неудачником, и с этим приходится на войне также считаться. Мне было его очень жаль, но я должен был им пожертвовать для пользы дела.
В КАРПАТАХ
Явился вопрос: что же делать дальше? Пленные австрийские офицеры, смеясь, рассказывали в нашем разведывательном отделении штаба, что они войну в Карпатах называют Gummikrieg (резиновая война), так как с начала кампании на этом фланге мне все время приходилось, наступая на запад, отбиваться с фланга. Действительно, нам приходилось то углубляться в Карпаты, то несколько отходить, и движения наши могли быть названы резиновой войной. Нужно было теперь предполагать, что дальнейшие передвижения войск наших армий на запад, в сущности, иссякли по недостатку сил. Оставаться же моей армии на фланге перед Карпатским хребтом, ожидая удара с юга, не сулило большого успеха, и инициатива действий в таком случае должна была перейти в руки к нашему противнику, что, по моему мнению, было для нас крайне невыгодно.
Австрийцам было совершенно необходимо перейти с значительными силами в наступление именно на этом фланге, чтобы выручить крепость Перемышль, которая не была обеспечена продовольствием и огнестрельными припасами на продолжительное время. Между тем наши войска, расположенные как бы кордоном на несколько сотен верст у северного подножия Карпат, нигде не были достаточно сильны. Они нигде не могли противостоять удару хорошего кулака, который австрийцы могли собрать в каком угодно месте и всегда имели бы возможность легко прорвать нашу завесу, с тем чтобы поставить нас в критическое положение.
Я считал гораздо более выгодным нам самим собрать сильный кулак и перейти в решительное наступление с целью выхода на Венгерскую равнину. Оговариваюсь: я не рассчитывал с одной армией завоевать Венгрию, а полагал лишь притянуть на себя все неприятельские войска, которые неминуемо должны были быть направлены для освобождения Перемышля. Я считал, что это — единственный способ избавиться от неприятных неожиданностей и иметь возможность нанести противнику сильное поражение и этим способом отстоять осаду Перемышля от покушений врага. При этом я требовал усиления моей армии на один корпус, увеличения кавалерии и ставил обязательным условием обильное снабжение меня огнестрельными припасами. Я в то время не верил, не мог допустить мысли, что наши огнестрельные припасы действительно на исходе и что военное ведомство из ужасного положения, вынуждавшего воевать голыми руками, не выйдет благополучно.
Все это мною было изложено в донесении главнокомандующему. Из различных частных сведений, которые доходили до меня из штаба фронта, я знал, что Иванов — противник подобного образа действий и предпочитал держаться строго оборонительно, что, в свою очередь, было противно моему мнению. Начальник штаба армий фронта Алексеев в данном случае разделял мое мнение. По-видимому, в Ставке наши мнения восторжествовали, и было решено, что я предприму наступление через Карпаты в Венгерскую равнину. К сожалению, как это всегда у нас бывало, для выполнения этой задачи были даны недостаточные силы, и только уже весной мало-помалу они увеличились.
Если бы сразу были направлены сюда те силы, которые в конце концов были там собраны, то, без сомнения, успех этой операции дал бы быстрые и богатые результаты, на деле же мы постепенно увеличивали свои силы в этом районе одновременно с неприятелем. Имея сразу значительное превышение сил, я имел бы возможность поочередно разбивать войска противника по мере их прибытия. При данной же обстановке этого делать было нельзя, и потому приходилось медленно, шаг за шагом, подвигаться вперед в такой трудной местности, как Карпатские горы. Как почти во всех операциях этой войны, приняв какой-либо образ действий и утвердив план той или иной операции, наше высшее командование при выполнении операции делалось как будто бы нерешительным и не давало для выполнения плана сразу достаточных средств, как будто желая быть везде сильным и иметь возможность везде парировать всякие случайности.
Нужно отдать справедливость немцам: они, предпринимая какую-либо операцию, бросали в выбранном ими направлении сразу возможно большие силы с некоторым риском и решительно приводили в исполнение принятый ими план действий; это давало им в большинстве случаев блестящий результат. У них была в распоряжении громадная артиллерия с массой орудий тяжелого калибра, мы же в этом отношении сильнейшим образом хромали и не только не увеличивали артиллерии в ударной армии, но даже не снабжали ее в достаточной мере огнестрельными припасами. У нас, как известно, вообще был значительный недостаток огнестрельных припасов, в особенности артиллерийских. Казалось бы, все-таки даже при нашей бедности в этом отношении была возможность несколько обездоливать те участки фронта, которые к данному времени имели второстепенное значение, для того, чтобы артиллерийский огонь на решающем боевом участке мог вестись надлежащим образом. К сожалению, Иванов, считавшийся отличным артиллерийским генералом, был плохим знатоком этого дела, совершенно не понимавшим значения современного артиллерийского огня. Он упустил из виду решающее значение этого фактора.
Вот при таких-то недочетах в подготовке к предполагавшейся операции я начал ее выполнять. Лично я предполагал наступать в Карпатских горах, сосредоточив четыре армейских корпуса и не менее трех-четырех кавалерийских дивизий на участке от Дуклинского прохода до Балигруда включительно в направлении на Гуменное, с тем чтобы возможно скорее проникнуть в Венгерскую равнину. Это направление благоприятствовало данной задаче, так как оно наиболее короткое, пути лучше разработаны, а сам по себе Карпатский хребет на этом участке значительно доступнее и легче преодолим, нежели в других его частях. Одновременно с этим через Турку на Ужгород должен был двигаться 7-й армейский корпус не менее как с одной кавалерийской дивизией, для того чтобы притянуть на себя часть неприятельских сил, а западнее, выше названного участка, левый фланг 3-й армии должен был мне способствовать в продвижении вперед частью своих сил. Предполагал я также, что части войск, оставленные восточнее Турки до нашей границы, должны были своими наступательными действиями на Сколе — Мункач, на Долину — Хуст и на Надворную — Делатынь — Маарамарош Сигет демонстрировать наступление в том же направлении. Таким образом, по всей части Карпатских гор, нами занятой, неприятель видел бы наши стремления перенести театр военных действий к югу, в Венгерскую равнину, и ему трудно было бы определить, где нами предполагается наносить главный удар, а следовательно, ему было бы затруднительно знать, куда направлять свои резервы; при таких условиях ему было бы почти невозможно парировать наносимые нами удары, и помыслов о выручке Перемышля у него не могло бы быть. Для сего, однако, необходимо было подготовить наше наступление возможно быстрей, дабы инициатива действий отнюдь не была им выхвачена из наших рук.
В действительности вышло несколько иначе: во-первых, я получил меньше сил, чем мне было обещано; во-вторых, сосредоточение этих сил длилось очень долго (наши железные дороги того времени с их недочетами известны, чтобы на этом останавливаться). Таким образом, в феврале, когда для руководства всем наступлением через Карпаты мне был передай восточный участок, находившийся одно время под начальством командующего 11-й армией, австрийцы успели уже сосредоточить значительные силы на линии Мезо-Лаборц — Турка и перешли в наступление с целью выручить Перемышль. Главный удар ими направлялся на линию Загорж — Устрижки — Дольное, и немногочисленные наши войска, находившиеся там, начали с боем отходить. Силы неприятеля сосредоточились в особенности на направлении Мезо-Лаборц — Санок — Перемышль, и я направил туда весь 8-й армейский корпус, постепенно, но мере возможности, усиливая этот участок фронта, так как и противник безостановочно направлял туда свои подкрепления. Первое, что мною было сделано, когда я принял этот участок в свое ведение, это приказано немедленно перейти в контрнаступление, и я направил туда 4-ю стрелковую дивизию (развернутую из бригады) для поддержки отступающих частей; эта дивизия всегда выручала меня в критический момент, и я неизменно возлагал на нее самые трудные задачи, которые она каждый раз честно выполняла. В первый момент задача наступать, вместо отступления, ошеломила войска, считавшие себя слабее противника, и, как мне передавали, войска думали, что это требование невыполнимо. Но вместе с тем это подняло дух, и они, веря мне, пошли вперед и не только приостановили наступление противника, но заставили его перейти к обороне и постепенно начали сбивать противника с позиции на позицию, хотя медленно и с трудом, но продвигаясь к югу. Натиск на 8-й корпус в конце февраля и начале марта настолько усилился, что он временно вынужден был перейти к активной обороне, а мне пришлось постепенно, насколько мне помнится, довести состав корпуса до 64 батальонов.
В это время Перемышль переживал последние дни осады, и по беспроволочному телеграфу комендант сообщал в Вену, что если город не будет вскоре освобожден, то ему придется сдать крепость. Вследствие этого австрийцы, желая во что бы то ни стало освободить Перемышль, бросили на этот участок все силы, которые только могли собрать, и сосредоточили на направлении Балигруд — Лиско, по-видимому, свыше четырнадцати пехотных дивизий; все их усилия не могли сломить наше сопротивление, и 8-й корпус с приданными ему частями, а частью и 7-й корпус доблестно выдерживали отчаянные атаки противника и сами все время наносили чувствительные контрудары. Таким образом, борьба свелась к тому, чтобы отстоять осаду Перемышля и добиться его сдачи, что, в свою очередь, очищало наш тыл и освобождало несколько дивизий пехоты, которые могли быть направлены на помощь войскам, дравшимся в Карпатах.
Одно время командир 8-го корпуса генерал Драгомиров как будто бы начал терять надежду на успех и донес мне, что начальник одной из дивизий, бывший всегда очень стойким и распорядительным, заявлял, что дивизия его более сопротивляться не может, а потому командир корпуса предполагал отходить к Саноку. Это, очевидно, нарушило бы стойкость всего фронта, и такой успех поднял бы дух противника, который, усугубив свои старания, имел бы шансы добиться освобождения Перемышля. Я немедленно же ответил командиру корпуса, что безусловно запрещаю какой бы то ни было отход назад и приказываю передать начальнику дивизии, что я настоятельно прошу его устойчиво держаться на месте и ни в каком случае ни на шаг не подаваться назад; если моя просьба недостаточна, то я приказываю ему держаться; если же это приказание, по его мнению, невыполнимо, то я немедленно отрешаю его от командования дивизией. Это предостережение возымело свое надлежащее действие, и эта славная дивизия не только до конца стояла на месте, но вскоре перешла в успешное наступление.
9 марта Перемышль сдался, и сразу наше положение на фронте в Карпатах стало легче. По всему нашему фронту выставили плакаты о сдаче Перемышля. Австрийцы были лишены главного стимула, заставлявшего их так яростно бросаться на нас. По справедливости должен сказать, что сдача Перемышля произошла исключительно благодаря бесконечной стойкости и самоотверженности войск 8-й армии, в особенности 8-го армейского корпуса с его начальниками во главе. Нужно помнить, что эти войска в горах зимой, по горло в снегу, при сильных морозах, ожесточенно дрались беспрерывно день за днем, да еще при условии, что приходилось беречь всемерно и ружейные патроны и, в особенности, артиллерийские снаряды. Отбиваться приходилось штыками, контратаки производились почти исключительно по ночам, без артиллерийской подготовки и с наименьшею затратою ружейных патронов, дабы возможно более беречь наши огнестрельные припасы.
Вот что говорит по поводу вышеизложенного в своих воспоминаниях генерал Людендорф (том I, стр. 106 русского перевода): «Наступление австро-венгерской армии для освобождения Перемышля не имело никакого успеха. Русские вскоре перешли в контратаку. Судьба Перемышля должна была свершиться. По всему восточному фронту мы находились в ожидании русских атак».
Объезжая войска на горных позициях, я преклонялся перед этими героями, которые стойко переносили ужасающую тяжесть горной зимней войны при недостаточном вооружении, имея против себя втрое сильнейшего противника. Меня всегда крайне удивляло, что эта блестящая работа войск не была достаточно оценена высшим начальством и что по справедливости представленные мною к наградам начальники (между прочим, генерал Драгомиров — к вполне заслуженному им ордену Георгия 3-й степени) ничего не получили. Я лично никогда ни за какими наградами не гнался и считал их для себя излишними. Я всегда исповедовал убеждение, что народная война — дело священное, которое военачальник должен вести, как бы священнодействуя, с чистыми руками и чистою душой, так как тут проливается человеческая кровь во имя нашей матери-родины. Но считал я также, что за геройское самоотвержение войск и мне подчиненных начальствующих лиц они должны получать должное воздаяние, дабы наша матерь-родина знала, что ее сыны сделали на пользу, славу и честь России. А между тем эта титаническая борьба в горах и заслуга спасения осады Перемышля, результатом которой была сдача противником этой крепости, была не только не поощрена, но прямо скрыта от России.
Поскольку 8-я армия имела против себя противника в значительной мере сильнее ее, разговора о спуске в Венгерскую равнину не могло быть, в особенности потому, что огнестрельных припасов отпускалось все меньше и меньше, а Радко-Дмитриев, мой сосед с Дунайца (3-я армия), мне сообщал, что против его 10-го корпуса заметна подготовка к прорыву его фронта: свозится многочисленная артиллерия тяжелых калибров, заметно прибывают войска, увеличиваются обозы и т. д. Так как, невзирая на его требования, ему подкрепления не посылались, а у него резервов не было, то нетрудно было предвидеть, что его разобьют и моя армия, спустившись в Венгерскую равнину без огнестрельных припасов, должна будет положить оружие или погибнуть. Поэтому я только делал вид, что хочу перейти Карпаты, а в действительности старался лишь сковать возможно больше сил противника, дабы не дать ему возможности перекидывать свои войска по другому назначению. Условия жизни в горах были чрезвычайно тяжелые, подвоз продуктов очень затруднителен, а зимней одежды недостаточно. Зимой 1914/15 года центр боевых действий перешел в Карпаты, и не могу не считать своей заслугой, что благодаря моим настояниям было обращено внимание на этот фронт; не обинуясь могу сказать, что ежели бы мы тут, хотя и несколько поздно, не подготовились, то усилия противника освободить Перемышль увенчались бы успехом и весь левый фланг нашего фронта еще зимой был бы опрокинут, Львов взят обратно и Галиция была бы тогда же нами потеряна. В подкрепление австрийских сил были присланы и германские части, которые своей устойчивостью и высокими боевыми качествами значительно усилили Карпатский фронт. Правда, летом 1915 года мы Галицию потеряли, но вследствие удара с другой стороны, а именно прорыва фронта 3-й армии с запада, после того как врагу не удалось разбить нас в Карпатах. Могу сказать лишь одно: по моему убеждению, в катастрофе, постигшей весь наш фронт весной и летом 1915 года, считаю виноватым кроме нашей неосмотрительной стратегии также мелочность и полное непонимание обстановки бывшим главнокомандующим Юго-Западным фронтом Ивановым, о чем будет сказано ниже.
Не следует, однако, думать, что зимой 1914/15 года сильный напор противника был только на 8-й и 7-й корпуса; почти столь же сильный напор должны были выдержать войска, защищавшие доступ к Львову со стороны Мункача и Хуста направлением на Сколе — Долину и Болехув. Жесточайшие бои против многочисленнейшего противника в ужасающе тяжелых жизненных условиях части доблестно выдерживали. На подмогу этому участку армии, изнемогавшему в непосильной борьбе, был мною направлен 12-й армейский корпус (финляндский), который был включен в состав 8-й армии самим Верховным главнокомандующим и, как мне передавали, против желания генерала Иванова. Как бы то ни было, мы зимой отстояли Галицию и продолжали постепенно продвигаться вперед.
Неизменно уменьшавшееся количество отпускаемых огнестрельных припасов меня очень беспокоило. У меня оставалось на орудие не свыше 200 выстрелов. Я старался добиться сведений, когда же можно будет рассчитывать на более обильное снабжение снарядами и патронами, и, к моему отчаянию, был извещен из штаба фронта, что ожидать улучшения в этой области едва ли можно ранее поздней осени того же 1915 года, да и то это были обещания, в которых не было никакой уверенности. С тем ничтожным количеством огнестрельных припасов, которые имелись у меня в распоряжении, при безнадежности получения их в достаточном количестве было совершенно бесполезно вести активные действия для выхода на Венгерскую равнину. В сущности, огнестрельных припасов у меня могло хватить лишь на одно сражение, а затем армия оказалась бы в совершенно беспомощном положении при невозможности дальнейшего продвижения и крайней затруднительности обратного перехода через Карпатский горный хребет при наличии одного лишь холодного оружия. Поэтому я не стал добиваться дальнейших успехов на моем фронте, наблюдая лишь за тем, чтобы держаться на своих местах с возможно меньшими потерями. Я об этом своем решении не доносил и войскам не объявлял, но выполнял этот план действий, как наиболее целесообразный при данной обстановке.
Была еще одна темная туча на нашем горизонте. Это — известия, которые продолжали поступать из 3-й армии, о непрерывном подвозе тяжелой артиллерии и войск у неприятеля. Эти угрожающие известия, насколько я помню, начали поступать со второй половины февраля, и генерал Радко-Дмитриев, на основании донесений своих агентов и наблюдений самолетов, тревожно доносил главнокомандующему о том, что на его фронте сосредоточивается очень сильная германская ударная группа. Ясно было, что неприятель после неудачи его активных действий в Карпатах и потери Перемышля замыслил теперь прорыв нашего фронта в другом месте. Неудача в 3-й армии грозила моей армии выходом неприятельских сил в мой тыл; отступать же с горных вершин, имея перед собой сильного врага, представляло для моей армии задачу весьма трудную и опасную. Радко-Дмитриева очень беспокоило положение дел на его фронте, и он своевременно и многократно доносил Иванову о необходимости сильного резерва для парирования угрожавшей ему опасности. К сожалению, по-видимому, генерал Иванов не доверял донесениям Радко-Дмитриева и держался предвзятой идеи, что нам грозит наибольшая опасность не на Дунайце, а на нашем левом фланге, у Черновиц, Снятыни и Коломыи; эта несчастная идея, которую подкреплял своим мнением новый начальник штаба фронта генерал Драгомиров, заставила совершить ряд крупных ошибок, которые повлекли за собой чрезвычайно тяжкие, невознаградимые последствия.
Чтобы это пояснить, должен сказать, что уже в марте 11-й корпус был прислан в мое распоряжение и направлен мною на левый фланг; к нему я присоединил все находившиеся уже там войска, отданные под общее начальство командира корпуса генерала Сахарова. По утвержденному мною плану действий они перешли в общее наступление, разбили противника и вполне успешно теснили его, заставляя уходить в горы, и не было решительно никакой надобности столь беспокоиться об этом участке моего боевого фронта. Ожидать тут появления значительных масс противника не было никаких оснований прежде всего потому, что Карпатские горы на этом участке представляют более серьезную преграду, чем на западе, и движение здесь было возможно исключительно но дорогам, которых было мало, а посему большие массы не могли быть двинуты в этом направлении. Кроме того, железных дорог на этом участке также весьма мало, и продовольствовать и снабжать войска всем необходимым для боевых действий было весьма затруднительно. Наконец, непосредственная близость румынской границы не давала возможности свободно маневрировать; нарушать же границу этого государства ни мы, ни центральные державы ни в каком случае не хотели, ибо Румыния держала нейтралитет, и обе стороны старались привлечь ее в свой стан.
Предвзятые идеи, в особенности в военном деле, потому- то и опасны, что всякие известия воспринимаются под определенным освещением. Боязнь, что прорывом нашего крайнего левого фланга неприятель может выйти в наш глубокий тыл, непосредственно у нашей государственной границы, совершенно затушевывала в уме главнокомандующего действительное положение дела. На этом основании еще в марте 1915 года в этот район был перекинут штаб 9-й армии и туда направлены все войска, которые только можно было снять с других участков фронта. Новый командующий 9-й армией генерал Лечицкий, ожидая сбора всех войск, назначенных в его распоряжение, приостановил удачно развившееся наступление Сахарова, а в это время ударная группа неприятеля против 3-й армии продолжала невозбранно усиливаться подвозом войск и всего необходимого материала для успешного наступления. Если бы все войска, которые были направлены в 9-ю армию, были быстро перевезены в распоряжение Радко-Дмитриева, он мог бы перейти в наступление, не ожидая сбора всех войск врага, разбить головные части только что собиравшейся армии немцев и этим своевременно ликвидировать грозившую нам опасность. Но хуже глухого тот, кто сам не желает слышать, и 10-й корпус, вытянутый в одну тонкую линию, без всяких резервов, на протяжении 20 с лишним верст, без тяжелой артиллерии, бездеятельно стоял, спокойно ожидая момента, когда Макензену, вполне подготовившемуся, угодно будет разгромить его и на широком фронте прорвать линию 3-й армии.
И вот при таком положении дел Юго-Западного фронта был затеян приезд императора Николая II в Галицию. Я находил эту поездку хуже чем несвоевременной, прямо глупой, и нельзя не поставить ее в вину бывшему тогда Верховному главнокомандующему великому князю Николаю Николаевичу. Поездка эта состоялась в апреле. Я относился к ней совершенно отрицательно по следующим причинам: всем хорошо известно, что подобные поездки царя отвлекали внимание не только начальствующих лиц, но и частей войск от боевых действий; во-вторых, это вносило некоторый сумбур в нашу боевую работу; в-третьих, Галиция нами была завоевана, но мы ее еще отнюдь не закрепили за собой, а неизбежные речи по поводу этого приезда царя, депутации от населения и ответные речи самого царя давали нашей политике в Галиции то направление, которое могло быть уместно лишь в том крае, которым мы овладели бы окончательно. А тут совершалась поездка с известными тенденциями накануне удара, который готовился нашим противником, без всякой помехи с нашей стороны, в течение двух месяцев. Кроме того, я считал лично Николая II человеком чрезвычайно незадачливым, которого преследовали неудачи в течение всего его царствования, к чему бы он ни приложил своей руки. У меня было как бы предчувствие, что эта поездка предвещает нам тяжелую катастрофу.
Царь с Верховным главнокомандующим по пути из Львова посетил, между прочим, и штаб моей армии, который в то время находился в городе Самбор у подножья Карпат, на Днестре. На железнодорожной станции был выставлен почетный караул из 1-й роты 16-го стрелкового полка, шефом которого состоял государь. Мне было дано знать, что царь со своей свитой будет у меня обедать, после этого поедет в Старое Место, где произведет смотр 3-му кавказскому армейскому корпусу, а затем направится в Перемышль для его осмотра и там будет ночевать.
Кстати, 3-и кавказский армейский корпус, только что перевезенный в Старое Место и числившийся в моей армии, находился в резерве главнокомандующего, который расположил его тут потому, что в данном месте он находился на полпути как от 9-й армии, излюбленной Ивановым, так и от 3-й армии. Генерал Иванов, невзирая на все угрожающие сведения, уже ясно показывавшие, что удар противника сосредоточивается на фронте 3-й армии, все-таки не решался подкрепить Радко-Дмитриева. Об этом преступном недомыслии я до настоящего времени не могу спокойно вспоминать. Радко-Дмитриев, видя, что все его донесения мало помогают, прислал мне письмо, в котором излагал создавшуюся у него тяжелую обстановку и просил моего воздействия на Иванова. Я ответил Радко-Дмитриеву, что мое вмешательство в дело чужой армии при моих отношениях к главкоюзу не только не поможет ему, а окончательно все испортит. Советовал же я ему написать о его положении генерал-квартирмейстеру Данилову в Ставку для доклада Верховному главнокомандующему. Исполнил ли он мой совет — не знаю, ибо я больше не видел этого честного и доблестного воина.
Около 11 часов утра прибыл первый свитский поезд, а час спустя прибыл царский поезд. Отрапортовав государю о состоянии вверенной мне армии, я доложил, что 16-й стрелковый полк, так же как и вся стрелковая дивизия, именуемая «железной», за все время кампании выдавалась своей особенной доблестью и что, в частности, 1-я рота, находящаяся тут в почетном карауле, имела на этих днях блестящее дело и отличилась, уничтожив две роты противника. Как и всегда, царь был в нерешительности, что же ему по этому случаю делать; великий князь Николай Николаевич вывел его из затруднения, сказав, что ему нужно пожаловать всей роте Георгиевские кресты, что он и выполнил. Затем со станции железной дороги царь поехал в дом, занимаемый моим штабом, где был приготовлен обед. В столовой государь обратился ко мне и сказал, что в память того, что он обедает у меня в армии, он жалует меня своим генерал-адъютантом. Я этого отличия не ожидал, так как царь относился ко мне всегда, как мне казалось, с некоторой недоброжелательностью, которую я объяснял тем обстоятельством, что, не будучи человеком придворным и не стремясь к сему, я ни в ком не заискивал и неизменно говорил царю то, что думал, не прикрашивая своих мыслей. Заметно было, что это раздражало царя. Как бы то ни было, это пожалование меня несколько обидело, потому что из высочайших уст было сказано, что я жалуюсь в звание генерал-адъютанта не за боевые действия, а за высочайшее посещение и обед в штабе вверенной мне армии. Я никогда не понимал, почему, жалуя за боевые отличия, царь никогда не высказывал, мне по крайней мере, своей благодарности; он как будто бы боялся переперчить и выдвинуть того, кто заслужил своей работой то или иное отличие.
Немедленно после обеда мы направились в поезде в Хырув, где и состоялся высочайший смотр 3-му кавказскому армейскому корпусу. В это время корпус находился в блестящем виде, пополненный, хорошо обученный и с высоким боевым духом. Представился он царю наилучшим образом. Так как верховых лошадей не было приказано приготовить, то император стал обходить войска пешком, но при таком условии обхода войск его мало кто мог видеть, и великий князь Николай Николаевич настоял на том, чтобы царь объезжал войска и здоровался с ними стоя в автомобиле. Нужно сказать, что царь не умел обращаться с войсками, говорить с ними. Он и тут, как всегда, был в некоторой нерешительности и не находил тех слов, которые могли привлечь к нему души человеческие и поднять дух. Он был снисходителен, старался выполнять свои обязанности верховного вождя армии, но должен признать, что это удавалось ему плохо, несмотря на то что в то время слово «царь» имело еще магическое влияние на солдат. Сейчас же после церемониального марша государь сел в поезд и уехал в Перемышль, я же откланялся и вернулся в Самбор, так как Перемышль, находившийся в тылу, был вне расположения вверенной мне армии.
Заботы Иванова об усилении Карпатского восточного фронта, в чем никакой надобности не было, продолжались, и между 8-й и 9-й армиями втиснули вновь возродившуюся для сего случая 11-ю армию, которая, называвшаяся ранее «осадной», после падения Перемышля была расформирована. 3-я же армия продолжала оставаться без усиления.
Наконец Макензен вполне основательно и без помехи закончил свои приготовления и в выбранное им время могущественной ударной группой с громадной артиллерией (в числе которой было много тяжелой) нанес сокрушительный удар по 10-му корпусу, у которого резервов не было и который был вытянут в одну тонкую линию, имея только один ряд окопов, несовершенных и ни в какой мере не могущих укрывать войска от всесокрушающего огня противника. Ясно, что при таких условиях этот корпус легко был прорван и сломан, а многочисленные германские войска, хлынув в этот прорыв, начали его быстро расширять и поражать разрозненные части 3-й армии, которые отходили от своих позиций в полном беспорядке.
Вина прорыва 3-й армии ни в какой мере не может лечь на Радко-Дмитриева, а должна быть всецело возложена на Иванова. Однако в крайне беспорядочном и разрозненном отступлении армии нельзя не считать виновником Радко-Дмитриева. Он прекрасно знал, что подготовляется удар, и знал место, в котором он должен произойти. Знал он также, что подкреплений к нему никаких не подошло и, следовательно, ему не будет возможности успешно противостоять этой атаке. Поэтому, казалось бы, он должен был своевременно распорядиться о сборе всех возможных резервов своей армии к угрожаемому пункту и вместе с тем отдать точные приказания всем своим войскам, в каком порядке и направлении, в случае необходимости, отходить, на каких линиях останавливаться и вновь задерживаться, дабы по возможности уменьшить быстроту наступления противника и провести отступление своих войск планомерно и в полном порядке. Для сего необходимо было заблаговременно, без суеты убрать все армейские тыловые учреждения и также заблаговременно распорядиться устройством укреплений на намеченных рубежах. При таких условиях 3-я армия не была бы полностью разбита.
Кроме того, во время этого несчастного отступления на всем обширном фронте армии Радко-Дмитриев потерял бразды управления, чего не было бы, если бы он заблаговременно, по намеченным рубежам, надлежащим образом распорядился устроить техническую службу связи, без чего управлять армией невозможно. Он же стал сам катать в автомобиле от одной части к другой и рассылал для связи своих адъютантов, которые, как рассказывали очевидцы, отдавали от его имени приказания начальникам частей, минуя их прямых начальников; приказания же эти были часто противоречивые. Понятно, что от такого управления войсками сумбур только увеличивался, и беспорядок при отступлении принял грандиозные размеры не столько от поражения, сколько от растерянности начальников всех степеней, не управляемых более одной волей, не знавших, что им делать, и не знавших, что делают их соседи. Результат совокупности всех перечисленных условий отступления и не мог быть иным.
В это-то время генерал Иванов наконец решился спешно двинуть 3-й кавказский армейский корпус на помощь 3-й армии. Корпус был двинут эшелонами, ибо пройти значительный путь целому корпусу одним эшелоном одной дорогой было, конечно, затруднительно и явилось бы потерей времени, потому что корпус был расквартирован в большом районе и не было надобности сосредоточивать его вдали от противника. Очевидно, что эшелонами войска могли двигаться быстрей и с меньшей усталостью. Вводить же в бой войска пакетами было, конечно, нежелательно, а следовательно, надлежало задержать головной эшелон на каком-либо рубеже, дать подтянуться войскам корпуса и приказать пристроиться к ним отступавшим войскам; при таких условиях, хоть временно, противник был бы задержан и мог бы получить сильную острастку. К сожалению, войска корпуса своими разрозненными усилиями не могли оказать существенной поддержки уже разбитым войскам. Не знаю, получил ли в это время Радко-Дмитриев откуда-нибудь еще какую-либо поддержку; могу лишь сказать, что при таких условиях восстановить фронт армии было, очевидно, невозможно, и войска Радко-Дмитриева в полнейшем беспорядке продолжали быстро отходить к Перемышлю, севернее этой крепости, примыкая к ней своим левым флангом. Между тем этой крепости в действительности более не существовало: она была заблаговременно эвакуирована, оставалось только незначительное количество артиллерии и снарядов, но решительно никаких запасов; в крепости не было гарнизона, за исключением двух или трех дружин ополчения для содержания караулов.
При такой-то обстановке мною, а также и моими соседями слева было получено приказание отходить с Карнатских гор, чтобы занять новые позиции, причем моей армии приказано было занять позицию южнее Перемышля — от этой крепости до Старого Места (Старый Самбор). Я возразил на это, что в данном случае мой левый фланг будет висеть в воздухе, ничем не обеспеченный, и что для занятия этого фронта сколько-нибудь прочно у меня не хватит войск, тем более что мне было приказано обеспечить Перемышль гарнизоном в составе не менее одной дивизии пехоты. Тогда мне было дано разрешение, оставляя мой правый фланг упирающимся в Перемышль, отвести левый фланг назад, с тем чтобы он обеспечивался болотом у Днестра близ Верещицы. Перемышль был мне подчинен, что, вследствие разоружения крепости, невозможности надлежащего ее сопротивления, меня в достаточной степени огорчало. Я никогда не гнался ни за славой, ни за наградами и поэтому не возражал. Но мне было непонятно, почему разгромленный Перемышль из состава 3-й армии передан был мне вместе с двумя армейскими корпусами 3-й армии, которые были совершенно расстроены и представляли собой лишь жалкие остатки бывших отличных корпусов. Опять вспоминается солдатское заключение: «Эх-ма! Другие напакостили, а нам на поправку давай!»
Только много времени спустя все объяснилось. Невидимая для меня рука в свое время приписала взятие Перемышля генералу Селиванову, который и был награжден за это после нескольких месяцев спокойного сидения под Перемышлем. А моя геройская армия все это время неустанно билась впереди, не допуская сильнейшего врага дойти до крепости на помощь ее гарнизону.
Повторяю: я славы не искал, по, проливая тогда солдатскую кровь во имя родины, теперь я имею право желать, чтобы хотя бы история достойно оценила моих самоотверженных героев — солдат и офицеров. В память погибших воинов я пишу эти строки, а не для прославления своего имени. Мир праху дорогих усопших боевых товарищей! Мне было обидно за мою дорогую армию, когда та же невидимая рука связала сдачу Перемышля с моим именем, а следовательно, и с именем моей армии. Тогда мне было горько… Но мне было только смешно, когда, вынужденно, в силу необходимости, давая мне редкие награды, было дано негласное распоряжение их замалчивать в прессе и широко в Россию не сообщать, «чтобы популярность имени Брусилова не возрастала». Я мог бы это доказать документально. Конечно, эти записки увидят свет, когда я уже сойду с арены, до славы земной мне будет весьма мало дела, но скрывать свои переживания того времени от будущей России не считаю себя в праве ввиду того, что карьеризм, личные интересы, зависть, интриги загубили общее русское дело. Да не будет так в будущем!
ОТСТУПЛЕНИЕ 1915 ГОДА
Приказание об отступлении моем с Карпатских гор не было для меня сюрпризом, ибо, как я уже раньше говорил, при существовавшей тогда обстановке разгром 3-й армии был неминуем, а следовательно, неизбежен был и выход неприятеля в мой тыл. Поэтому всякие склады и тяжести армии были заблаговременно оттянуты с гор назад. При отсутствии этой предусмотрительности мне пришлось бы их сжечь, но и при своевременно принятых мерах отход был крайне затруднителен, потому что стоявший против нас многочисленный противник должен был принять всевозможные меры, чтобы возможно дольше задержать нас в горах и попытаться разбить нас во время отступления и захватить нашу артиллерию и обозы. Кроме того, при удаче противника, то есть при сильной нашей задержке в горах, войска Макензена могли зайти в тыл моей армии, что грозило окружением. В этом отношении 11-я и 9-я армии, расположенные восточнее меня, имели большое преимущество, ибо им зайти в тыл никто не мог.
Мой ближайший сосед слева, недавно назначенный командующий 11-й армией генерал Щербачев, заехал ко мне, с горестью выражая свое негодование необходимостью отступать, и предлагал просить разрешения оставаться на месте, отнюдь не уступая ни пяди земли, нами завоеванной. Действительно, с начала кампании мы в Галиции одержали громадные успехи, все более и более захватывали неприятельскую территорию и до мая месяца поражений не терпели. Поэтому я понимал чувство крайней досады, которым был обуреваем молодой, только что назначенный командующий армией, желавший отличиться на более широком поприще действий, а не начинать свою деятельность отступлением; но ему не была достаточно известна общая обстановка, и, когда я ему ее объяснил, он согласился, что если оставаться на месте, то не только 8-я армия, попадавшая между двух огней, но и его армия, состоявшая в то время лишь из двух корпусов, попадает в безвыходное положение и позднее не будет в состоянии спуститься с гор.
Мною было приказано войскам на фронте не показывать вида, что предполагается отход, и, оставив в окопах разведывательные команды с несколькими пулеметами, всем остальным войскам с наступлением темноты возможно быстрей, но в строгом порядке отходить на новые позиции, точно определив пути, по которым будут двигаться колонны. Арьергардным же частям было приказано вести до рассвета обычную ночную перестрелку и разведку. Все корпуса без боя благополучно отошли; лишь мой левый фланг был задержан на месте по просьбе командующего 11-й армией, так как его войска не могли почему-то своевременно отступать. Вследствие этою мой крайний левый фланг принужден был вступить в бой, чтобы дать возможность правому флангу 11-й армии отойти. Ведя бой при невыгодных условиях, два полка понесли значительные потери, однако они никаких трофеев противнику не оставили.
Ранее, чем излагать наши дальнейшие действия, мне необходимо объяснить, как обстояло дело укрепления нами позиций. Это искусство в мирное время было вообще в большом пренебрежении. Японская кампания, как прообраз действий войск в позиционной войне, усиленно критиковалась военными авторитетами всех держав и, между прочим, нами; в особенности наши военные учителя, германские военные писатели, не находили достаточно слов, чтобы насмехаться над Куропаткиным и его системой изрыть всю Манчжурию, постоянно отступая и не используя притом большей части своих заблаговременно укрепленных позиций. Они утверждали. что немцы ни в коем случае подобному образу действий следовать не будут, что Германии необходимо выиграть короткую войну, быстро разгромить противников, и потому забавляться позиционной войной они не станут. Мы в свой очередь совершенно соглашались с этим выводом, и общий лозунг всех наших военачальников состоял в том, чтобы до последней крайности избегать позиционной войны. В мирное время мы ее никогда не практиковали по разным причинам, из которых главная мною только что изложена.
Нужно признать, что ни начальники, ни сами войска терпеть не могли укрепляться и в лучшем случае ограничивались ровиками для стрелков. Зимой в Карпатах я приказывал основательно окапываться, имея не менее трех линий окопов с многочисленными ходами сообщения. В ответ я постоянно получал донесения о невозможности выполнения этого требования. После же настоятельных моих приказаний было донесено, что они выполняются; но когда после данного мною времени для осуществления укрепления позиций я стал объезжать корпуса, чтоб осмотреть выполненные работы, то оказалось, что, в сущности, почти ничего не сделано, а то немногое, что было выполнено, было настолько основательно занесено снегом, что трудно было даже решить, где рылись окопы. На мои вопросы, как же будут заниматься укрепления в случае наступления противника, мне докладывали, что они их тогда вычистят. На мой естественный вопрос, полагают ли они, что противник согласится ждать, пока они будут приводить в порядок свои укрепленные позиции, мне сконфуженно объясняли, что в будущем постараются содержать свои окопы в лучшем порядке. Был случай в одном из корпусов, что ни сам командир корпуса, ни начальник дивизии, ни командир бригады, ни командир полка, ни, наконец, начальник инженеров корпуса не могли мне указать на местности, где уже вырыты окопы; между тем мне был представлен весьма хорошо разработанный на карте план непрерывно укрепленной позиции всего корпуса с донесением, что работа уже выполнена и проверена. Конечно, при такой нелюбви к укреплению своих позиций не только в 8-й армии, но и вообще во всей русской армии трудно было отстаивать занятые нами позиции, когда пришлось защищать их, хотя бы только для выигрыша времени.
Наши укрепленные позиции в действительности представляли собой один лишь ров, даже без ходов сообщения в тыл. При усиленном обстреле артиллерийским огнем, в особенности огнем тяжелой артиллерии, этот кое-как сделанный ров быстро заваливался, а сидевшие в нем люди при ураганном огне уничтожались целиком или сдавались в плен во избежание неминуемой смерти. Уже впоследствии штабом фронта было сделано распоряжение — заблаговременно строить в тылу на различных рубежах укрепления соответствующего типа и силы, но, в сущности, и эти укрепленные позиции были весьма несовременного типа. Вообще, наши войска все время стремились к полевой войне (что вполне естественно) и крайне неохотно и лениво совершенствовали занимаемые ими позиции. На Юго-Западном фронте к позиционной войне вперемежку с полевой мы перешли в конце 1914 года и уже окончательно перешли к позиционной войне летом 1915 года, после грандиозного наступления армий центральных держав. Что касается 8-й армии, то, когда мы отступали с Карпат на новые позиции южнее Перемышля, никакой заблаговременно подготовленной позиции у нас не было, и войска стали спешно окапываться лишь по прибытии на места. Окопы эти были весьма примитивного свойства, и надлежащим образом их усовершенствовать в дальнейшем не было никакой возможности, ибо приходилось вести чрезвычайно упорные бои, перекидывая войска, по мере надобности, с места на место.
Войска были милиционного характера, в рядах оставалось очень мало кадровых офицеров и солдат, да и число рядов было весьма незначительно; были полки в составе одного неполного батальона, а многочисленная наша кавалерия в это время почти никакой пользы приносить не могла. Комендант Перемышля совершенно терялся оттого, что немногочисленная тяжелая артиллерия то, по распоряжению главнокомандующего, нагружалась на платформы для отправления в тыл, то, по ходатайству коменданта Перемышля, снималась для вооружения крепости; эти колебания происходили несколько раз. Наконец комендант генерал Дельвиг взмолился, говоря, что таким образом совершенно изматываются люди, перегруженные работой без всякой пользы для дела, и просил, чтобы было окончательно постановлено, отправлять ли эти орудия в тыл или оставить их для выполнения цели, для которой крепостная артиллерия существует. В свою очередь и я несколько раз настаивал на твердом решении этого вопроса, но получал разноречивые ответы: то мне телеграфировали, что на Перемышль следует смотреть лишь как на участок боевого фронта, а отнюдь не как на крепость, что отвечало действительности; то мне сообщали, что Перемышль следует отстаивать и принять всевозможные меры для удержания его за нами, но не защищать его во что бы то ни стало. Генерал Радко-Дмитриев, войска которого примыкали ко мне с севера, преимущественно по правому берегу реки Сан, заявлял, что его армия потеряла боеспособность и что для приведения ее в порядок необходимо быстро сделать крупный скачок назад, чтобы вывести ее из-под ударов противника и дать ей возможность оправиться и пополниться. Высшее командование было обратного мнения и требовало, чтобы отход совершался возможно медленнее, с возможно более продолжительными остановками на каждом рубеже. Ввиду такого расхождения во взглядах и образе действий генерал Радко-Дмитриев был смещен, и на его место был назначен командир 12-го корпуса Леш.
До описываемого времени вверенная мне армия, невзирая на всякие недочеты, была все время победоносна; частичная неудача в конце ноября 1914 года постигла только 12-й корпус, который свои дела быстро поправил. Дух войск в Карпатах был очень высок, хотя по временам я убеждался, что армия уже не та, какая была в начале кампании, и было несколько случаев сдачи в плен слабодушных людей без достаточной причины. Отступление с Карпат и тяжелое поражение, понесенное соседом нашим, 3-й армией, раздуваемое стоустой молвой, невольно поколебало уверенность в себе и в своей непобедимости; отсутствие огнестрельных припасов также имело громаднейшее влияние на самочувствие войск. Солдаты, в сущности, вполне справедливо говорили, что при почти молчащей нашей артиллерии и редкой ружейной стрельбе неприятельский огонь выбивает их в чрезмерно большом количестве и они обрекаются на напрасную смерть, причем исключается возможность победить врага, так как бороться голыми руками нет возможности. Ясно, что при такой обстановке недалеко до упадка духа. Действительно, к этому времени, то есть к маю 1915 года, огнестрельных припасов у нас было столь мало, что мы перевооружили батареи из восьми в шестиорудийный состав, а артиллерийские парки отправили в тыл за ненадобностью, ибо они были пустые.
При таких-то обстоятельствах пришлось вести отчаянную борьбу за удержание Перемышля в наших руках. Собственно, я такой цели себе не ставил, ибо в данное время Перемышль как один из участков позиции важного значения не имел, но он имел огромное моральное значение, и было понятно, что потеря Перемышля усилит упадок духа в войсках, произведет тяжелое впечатление во всей России и, наоборот, высоко поднимет дух нашего врага. Было совершенно ясно, что удержать Перемышль продолжительно при данной обстановке невозможно и можно удержать только некоторое время.
Не буду останавливаться на борьбе, которую мы выдержали у Перемышля. Это — дело военной истории, и для большой публики все перипетии этой борьбы не представляют интереса; да у меня и нет достаточных документов в руках, чтобы подробно останавливаться на описании этого момента наших боевых действий. Скажу лишь, в главных чертах, что противник старался отрезать Перемышль с его гарнизоном от армии: от Радымно — Краковец — Мальнов к югу от Мосьциски, а с другой стороны, с юга, также в направлении на Мосьциску. Неприятель всеми силами старался захватить Медыку, дабы отрезать путь отступления гарнизону Перемышля, в надежде захватить там богатую добычу и пленных, чтобы достойно отплатить за взятие нами Перемышля.
Как уже раньше было сказано, ряды наших войск были малочисленны, ударная группа немцев вся легла на плечи моей армии, главным образом на её правый фланг. Борьба во всех отношениях была непосильная, войск не хватало, и пришлось взять из Перемышля лучшую часть гарнизона, чтобы отстаивать путь отступления из Перемышля, в котором оставалось главным образом ополчение. Известно же, что ополчение, за малым исключением, было почти небоеспособно. Мне, например, было донесено, что на двух фортах западного фронта Перемышля противник спокойно резал проволоку предфортовых заграждений, а гарнизон этих фортов не только сам не мешал этому делу, но и не позволял артиллерии стрелять вследствие опасения, что сильная неприятельская артиллерия обрушится на форты. Очевидно, что такие гарнизоны легко отдали форты врагу, который, таким образом, попал внутрь крепости. При таких условиях удержать Перемышль дальше было невозможно, и ночью мною было приказано очистить этот участок общей позиции, чем сокращался фронт армии, и без того жидкий, приблизительно верст на 30, что имело для меня громадное значение, ибо давало мне возможность составить резервы, которые были мною все израсходованы в предыдущих боях. Я считал необходимым и после потери Перемышля удерживаться возможно дольше на занимаемом нами рубеже.
В помощь моей армии для борьбы за Перемышль были присланы 23-и армейский и 2-и кавказский корпуса, которые высшим командованием предвзято уже были направлены на Любачув; следовательно, было уже предрешено, откуда и каким способом эти два корпуса должны ударить по неприятелю, который к этому времени частью своих сил перешел на правый берег реки Сан у Радымно. Если бы спросили меня, то я эти два корпуса ввел бы возможно более тайно в Перемышль и, присоединив к ним гарнизон крепости, неожиданно произвел бы вылазку всеми этими силами из западных фортов в тыл вражеским войскам, находившимся на правом берегу Сана, а также тем, которые были расположены на левом берегу от Ярослава до Перемышля. И это — при условии, что все войска по всему фронту одновременно ввязались бы в бой с противником, в особенности же с севера; 3-я армия должна была бы в этом случае собрать возможно больший кулак, чтобы нанести удар к югу примерно от Лежайска. Не знаю, насколько это помогло бы при недостатке огнестрельных припасов вообще, но при таком образе действий, мне казалось, были некоторые шансы на успех, размер которого заранее определить было невозможно. При наступлении же вышеупомянутых двух корпусов от Любачува на юго-запад получалась лобовая атака противника, обладавшего громадной артиллерией и множеством пулеметов; у нас же ни орудий, ни пулеметов в достаточном количестве не было, да и артиллерийская атака, которая должна была подготовить пехотную и поддерживать ее, не могла состояться вследствие недостатка снарядов. Можно было вперед сказать, что этот недостаточный и несвоевременный кулак, пущенный в ход не в надлежащем месте, никаких осязательных результатов не даст. Нужно притом добавить, что эти два корпуса, сами по себе очень высоких боевых качеств, были плохо обучены, как и большинство войск, прибывавших к нам с севера, и атаку они произвели весьма несноровисто. Вскоре после этой атаки Перемышль пал, будучи, как я уже сказал, очищен по моему приказанию, так как гарнизон в нем более держаться не мог. Из всех фортов нами были удержаны лишь восточные — Седлисские. В общем, крепость досталась неприятелю совершенно разоруженная, без каких бы то ни было запасов; насколько мне помнится, в руки врагу попали лишь четыре орудия без замков, которые были унесены.
Было еще одно обстоятельство, мешавшее нам пополнять ряды прибывавшими солдатами: помимо того, что они были очень плохо обучены, они прибывали невооруженными, а у нас для них не было винтовок. Пока мы наступали, все оружие, оставшееся на полях сражения, — наше и неприятельское — собиралось особыми командами и по исправлении шло опять в дело; теперь же, при нашем отходе, получилось обратное; все оружие от убитых и раненых попадало в руки врага. Внутри страны винтовок не было. Приказано было легкораненым идти на перевязочные пункты обязательно с оружием, выдавались за это даже наградные деньги, но эти меры дали весьма незначительные результаты. При каждом полку — чем дальше, тем больше — росли команды безоружных солдат, которых и обучать почти было нечем. В общем, дезорганизация нашей армии, по недостатку технических средств, шла, быстро увеличиваясь, и наша боеспособность час от часу уменьшалась, а дух войск быстро падал.
Тем не менее я уповал, что на своем фронте удержусь на Сане, но совершенно для меня непредвиденно, и, к моему ужасу, я получил приказание генерала Иванова передать 5-й кавказский корпус в 3-ю армию, 21-й корпус отослать во Львов, в резерв главнокомандующего, а 2-й кавказский и 23-й корпуса немедленно направить в состав 9-й армии, ибо главкоюз продолжал бояться за свой левый фланг, невзирая на то что, казалось бы, вполне выяснилось, где наносится главный удар. Таким образом, мой правый фланг, куда и наносился главный удар противника, оголялся, и между мной и 3-й армией искусственно устраивался нами значительный разрыв, который заполнить было нечем. Нельзя считать восстановлением фронта этого пустопорожнего участка то, что здесь находилась 11-я кавалерийская дивизия, а на левом фланге 3-й армии был кавалерийский корпус в составе двух дивизий. Всякому понятно, что три кавалерийские дивизии не могут заменить собой четыре армейских корпуса, как бы эти дивизии ни были геройски настроены. Я немедленно протелеграфировал главнокомандующему, что одновременный уход четырех корпусов с моего правого фланга, на который и производится главный напор врага, даст возможность противнику беспрепятственно и быстро глубоко охватывать мой правый фланг и что, вместо того чтобы удержаться на месте, а в крайности — медленно уходить, мне под угрозой охвата и даже окружения части моих войск придется отходить быстро и потерять всякую надежду на успешный отпор подавляющим силам противника. На это мне было отвечено, что раз Перемышль пал, то надобности для меня в таком количестве войск больше не встречается, а потому предписывается немедленно выполнить данное приказание. На это я еще раз донес, что при подобной обстановке я не буду в состоянии на следующих этапах отхода сколько-нибудь задерживаться, что мы, таким образом, немедленно потеряем Львов и в самом быстром времени приведем врага в нашу страну. И это донесение успеха не имело. Так мне и пришлось совершенно оголить правый фланг и с полной безнадежностью смотреть на дальнейший ход событий.
Я посылал, кроме того, моего начальника штаба на автомобиле в штаб фронта, чтобы узнать, что там думают, каковы предположения высшего начальства для дальнейших действий и на что мы можем надеяться в ближайшем будущем. Вернувшийся из этой поездки начальник штаба мне доложил, что он застал штаб фронта в большом унынии, ни о каких планах действий там и не думают и на будущее смотрят чрезвычайно пессимистически, считая, что кампания нами проиграна. По вопросу об усилении отпуска оружия и огнестрельных припасов генерал Ломновский также получил самые безотрадные сведения.
ОСТАНОВКА НА БУГЕ
Как мне нетрудно было предвидеть, неприятель действительно предпринял тот образ действий, который ему указывался обстановкой, то есть он большими силами двигался в разрыв между 3-й и 8-й армиями и старался выйти мне в тыл. Понятно, невзирая на длинный фронт армии и малочисленность войск, я стянул к правому моему флангу все, что только мог, и возможно медленнее отходил от рубежа к рубежу. Я заботился только о том, чтобы в руки врага не могли попасть артиллерия, парки, обозы, транспорты, чтобы он захватил возможно менее пленных. Ведь при таких обстоятельствах упадок духа плохо обученных войск и более или менее легкая сдача в плен естественны.
Мне удалось не оставить противнику никаких трофеев и вполне благополучно отойти за реку Буг, где к этому времени на правом берегу реки была подготовлена укрепленная позиция, которую пришлось лишь усилить и развить. Штаб армии был перенесен в город Броды. Тут мною был отдан приказ по армии, в котором я объявлял войскам, что далее отходить нельзя, что мы подошли уже к нашей границе, что тут я приказываю во что бы то ни стало держаться крепко и о дальнейшем отходе не помышлять. Я заявлял, что верю в мою армию, так же как и она, я надеюсь, верит мне, что я понимаю ее тяжелое положение, ибо ее невзгоды я переживаю вместе с ней, но что на данном рубеже, как это ни трудно, необходимо остановиться и умирать за родину, но не пускать врага за нашу границу. Должен сказать, к своей радости, что армия послушалась моего воззвания, почувствовала необходимость жертвовать собой и не пустила дальше врага до тех пор, пока, как это будет видно дальше, мои соседи справа не ушли на северо-восток и между нами не оказался разрыв около 70 верст, в котором болталась наша кавалерия, храбрая, самоотверженная, но не имевшая никакой возможности задержать хлынувшие в этот громадный промежуток многочисленные полчища неприятельской пехоты.
Еще при подходе к Бугу, для того чтобы дать некоторую острастку противнику, мною было приказано 12-му армейскому корпусу с приданными ему для его усиления частями неожиданно перейти в наступление, дабы нанести короткий удар и этим временно приостановить движение противника. Приостановка давала возможность войскам более спокойно перейти на правый берег Западного Буга и подготовиться к обороне этой реки. Это и было выполнено, хотя вследствие некоторых ошибок начальствующих лиц этот удар не дал плодотворных результатов в тех размерах, которых я ожидал. Нужно, однако, признать, что при том состоянии духа, в котором находились войска, нельзя было ожидать чего-нибудь блестящего. Это короткое наступление было произведено по моей личной инициативе, без всяких указаний свыше.
Для пояснения дальнейшего мне необходимо упомянуть, что за крайне неудачные распоряжения главнокомандующего фронтом Иванова пострадал не он, а его начальник штаба генерал Драгомиров, который был отчислен в резерв. Новым начальником штаба фронта был назначен генерал Саввич, служивший прежде в корпусе жандармов.
В скобках говоря, я никогда не понимал, почему за ошибки в распоряжениях или из-за неудачных действий страдает не сам начальник, под флагом которого отдавались или осуществлялись те или иные приказания, а соответствующий начальник штаба, который, по закону, лишь исполнитель велений и распоряжений своего принципала. Между тем распространенная в нашей армии подобная система как бы указывает, что начальник штаба должен играть роль какого-то дядьки, а сам глава как бы лицо подставное, так сказать, парадное. Мне всегда казалось, что начальнику штаба придавать такое чрезмерное значение не следует. Ответственное лицо должно быть только одно: сам начальник, а не его исполнительные органы, чины штаба, под каким бы наименованием они ни значились; если же начальник не соответствует своей должности, то не дядьку следует менять, а самого начальника смещать.
Как бы то ни было, но с назначением генерала Саввича начальником штаба фронта я стал получать все более и более неприятные телеграммы с разными указаниями и приказаниями, которые или давно были выполнены, или совершенно не отвечали обстановке. Правда, мое начальство любезностью меня никогда не баловало, и насколько Верховный главнокомандующий относился ко мне справедливо, настолько же главнокомандующий армиями фронта, то есть мой непосредственный начальник, относился ко мне пристрастно и недоброжелательно, невзирая на то, что вверенная мне армия более, чем какая-либо другая армия его фронта, доставила ему честь, славу и высокие награды. Говорили, что такое неприязненное ко мне отношение происходит по той якобы причине, что генерал Иванов видит во мне опасного заместителя; но я этому не придавал никакого значения. Изложу столкновение, которое у меня вышло с ним в начале пребывания моей армии на Буге.
После ряда неприятных телеграмм я получил одну длиннейшую, в которой излагался ряд обвинительных пунктов, ошибок, которые, по мнению моего начальства, были сделаны во время нанесения короткого удара войсками моего правого фланга. В телеграмме винили не меня, а все валили на моего начальника штаба, но выходило так, что я или пешка в руках своего штаба, или же (на это намекал ось в вежливой форме) не соответствую моему назначению. Эта телеграмма не совпадала с другой, полученной мною от Верховного главнокомандующего, который благодарил меня за проведение отступления моей армии и просил лишь не терять присущей мне бодрости духа в дальнейших моих действиях. Совпадение этих телеграмм нельзя не признать странным по диаметрально противоположной оценке результата моих действий. Я уже ранее был чрезвычайно раздражен несправедливыми, по моему мнению, нападками генерала Иванова и считал, что нужно положить предел подобному ко мне отношению, от которого страдало дело само по себе, а также мои непосредственные подчиненные. На этом основании я послал телеграмму великому князю Николаю Николаевичу, в которой, ссылаясь на последнюю полученную мною телеграмму генерала Иванова, доносил, что при подобных условиях службы я пользы приносить не могу, а потому прошу отчислить меня от командования армией.
Я стал было укладываться и готовиться к сдаче своей должности и к отъезду. Однако я получил ответ главковерха, в котором он мне наотрез отказывал в смене, выражая мне свою благодарность за прошедшую боевую службу, но с оговоркой, что я обязан выполнять веления моего главнокомандующего. Эта последняя фраза, по правде сказать, была мне непонятна, ибо приказания начальства мною неизменно выполнялись. Если же я иногда и протестовал против них, то лишь тогда, когда по долгу службы и ради пользы нашего дела считал необходимым ранее выполнения приказа объяснить ту обстановку, в которой я находился и которая, по-видимому, была неизвестна в штабе фронта. Из последней фразы телеграммы я понял, что мое начальство на меня жаловалось, вероятно в ответ на запрос Верховного главнокомандующего.
Тогда я поехал в штаб фронта в город Ровно, предварительно испросив на это разрешение. Иванов принял меня довольно любезно, мне даже казалось, что он был несколько смущен. Он сказал, что совершенно не понимает, чем я обижен, так как его критика касалась не меня, а моего штаба. Я ему ответил, что мой штаб находится под моим непосредственным начальством, сам по себе ничего штаб делать не может, но если даже считать, что штаб плохо исполняет мои приказания, то опять-таки главный виновник — я, ибо я обязан наблюдать за действиями и работой моего штаба и должен устранять тех лиц, которые не соответствуют своему назначению. Я же считаю, что и начальник штаба генерал Ломновский и весь штаб работают хорошо, а если главнокомандующий недоволен, то единственный виновник — я, а вовсе не штаб; в общем, я заявил Иванову, что, невзирая на телеграмму великого князя, которую я тут же представил, я могу оставаться командующим армией только в том случае, если я пользуюсь полным доверием моего главнокомандующего, иначе будет вред для наших боевых действий. Поэтому я настоятельно просил его прямо мне сказать: 1) пользуюсь ли я его доверием и 2) что он имеет лично против меня. На столь прямо поставленный вопрос я ответа, в сущности говоря, не получил, ибо в очень продолжительной беседе мне объяснялись разные эпизоды из японской кампании, которые не имели отношения к делу; причем говорилось также, что нет основания мне не доверять и что лично против меня ничего не имеют; все это пересыпалось всевозможными рассказами, предмета нашей беседы совершенно не касавшимися. В результате оснований для ухода с моего поста я не получил, да мне, в сущности, и жалко было покидать армию в то время, когда наши дела были плохи и когда мы обязаны были напрячь все наши силы, чтобы спасти Россию от нашествия. Пообедав у главнокомандующего вместе с его начальником штаба генералом Саввичем, которого я раньше не знал, я вынес убеждение, что это — тип так называемой лисы-патрикеевны и что мне и в будущем ничего приятного в сношениях с этим штабом не предстоит. Во всяком случае, острастку я дал и надеялся, что в дальнейшем мои отношения будут не столь натянуты, в чем и не ошибся.
В начале задержки нашей на Буге пришлось отбить несколько наступлений, в особенности на правом фланге армии, а затем противник в свою очередь зарылся на левом берегу Буга, причем мне приходилось отвечать ему чрезвычайно редким ружейным и в особенности артиллерийским огнем, что очень обескураживало войска. Перемешанные во время отступления части войск, которые приходилось бросать, по мере надобности, из одного корпуса в другой, были мною теперь восстановлены в своей нормальной организации, а прибывавшие в пополнение форменные неучи усиленно обучались в тылу каждой дивизии.
Беда заключалась лишь в том, что винтовок было чрезвычайно малое количество. Отчасти мы пополнялись ружьями, взятыми у австрийцев и немцев, но это была капля в море, да и патронов к этим винтовкам было весьма недостаточно. Кадровых офицеров, как я уже говорил, в строю было очень мало, примерно человек пять-шесть на полк; остальной состав офицеров, также в недостаточном количестве, состоял из прапорщиков, наскоро и плохо обученных. Впрочем, некоторые из них уже впоследствии на практике выработались в хороших командиров. Были не только роты, но и батальоны, во главе которых находились малоопытные прапорщики. Старых унтер-офицеров также почти не было, а пополнялись они восстановленными полковыми учебными командами, из которых ускоренным курсом выпускались столь же малоопытные унтер-офицеры. В каждой роте можно было найти в среднем четыре-шесть рядовых старого состава, все же остальные нижние чины были, в сущности, плохо обученные милиционеры, а не настоящие солдаты регулярной армии. За год войны обученная регулярная армия исчезла; её заменила армия, состоявшая из неучей. Только высокие боевые качества начальствующего персонала, личное самопожертвование и пример начальников могли заставить такие войска сражаться и жертвовать собой во имя любви к родине и славы ее. Более чем в каких-либо других войсках в данном случае можно было сказать: «Каков поп, таков и приход». Для характеристики приведу один пример.
Недавно назначенный командир 12-го армейского корпуса, занимавшего позицию на крайнем правом фланге армии, впоследствии столь известный по Гражданской войне генерал Каледин, однажды ночью мне донес, что противник переправился через Буг, опрокинул занимавшие окопы передовые части войск его корпуса и значительными силами продолжает наступать дальше. Я вызвал Каледина для разговора по прямому проводу и спросил его, почему же он не вводит в дело своих резервов из частей войск, которых у него достаточно, чтобы отбросить неприятеля обратно па левый берег Буга. Он мне ответил, что совершенно неустойчива 12-я пехотная дивизия, прежде столь храбрая и стойкая, и что ни начальник дивизии, ни он ничего с нею поделать не могут и при нажиме противника она немедленно начинает уходить. По его мнению, начальник дивизии изнервничался, ослабел духом и не в состоянии совладать со своими частями. Меня это огорчило, потому что до того времени это был отличный боевой генерал, георгиевский кавалер, державший свою дивизию в порядке. Очевидно, отступление наше с Карпатских гор его расстроило духовно и телесно.
Колебаться нечего было, и я тут же отдал Каледину приказание моим именем отрешить начальника 12-й дивизии от командования и назначить на его место начальника артиллерии корпуса генерал-майора Ханжина, которого я знал еще с мирного времени и был уверен, что этот человек не растеряется. Ханжин оправдал мои ожидания. Подъехал к полку, который топтался на месте, но вперед не шел, и, ободрив его несколькими прочувствованными словами, он сам стал перед полком и пошел вперед. Полк двинулся за ним, опрокинул врага и восстановил утраченное положение. Не покажи Ханжин личного примера, не поставь он на карту и свою собственную жизнь, ему, безусловно, не удалось бы овладеть полком и заставить его атаковать австро-германцев. Такие личные примеры имеют еще то важное значение, что, передаваясь из уст в уста, они раздуваются, и такому начальнику солдат привыкает верить и любить его всем сердцем.
Кстати скажу несколько слов о генерале Каледине, который сыграл во время революции на Дону большую роль. Я его близко знал еще в мирное время. Дважды он служил у меня под началом, и я изучил его вдоль и поперек. Непосредственно перед войной он командовал 12-й кавалерийской дивизией, входившей в состав моего 12-го армейского корпуса. Он был человеком очень скромным, чрезвычайно молчаливым и даже угрюмым, характера твердого и несколько упрямого, самостоятельного, но ума не обширного, скорее, узкого, что называется, ходил в шорах. Военное дело знал хорошо и любил его. Лично был он храбр и решителен. В начале кампании, в качестве начальника кавалерийской дивизии, он оказал большие услуги армии в двух первых больших сражениях, отлично действовал в Карпатах, командуя различными небольшими отрядами. Весной 1915 года недалеко от Станиславова он был довольно тяжело ранен в ногу шрапнелью, но быстро оправился и вернулся в строй. По моему настоянию он был назначен командиром 12-го армейского корпуса, и тут оказалось, что командиром корпуса он был уже второстепенным, недостаточно решительным. Стремление его всегда все делать самому, совершенно не доверяя никому из своих помощников, приводило к тому, что он не успевал, конечно, находиться одновременно на всех местах своего большого фронта и потому многое упускал. Кавалерийская дивизия — по своему составу небольшая, он ею долго командовал, его там все хорошо знали, любили, верили ему, и он со своим делом хорошо управлялся. Тут же, при значительном количестве подчиненных ему войск и начальствующих лиц, его недоверчивость, угрюмость и молчаливость сделали то, что войска его не любили, ему не верили; между ним и подчиненными создалось взаимное непонимание. На практике на нем ясно обнаружилась давно известная истина, что каждому человеку дан известный предел его способностям, который зависит от многих слагаемых его личности, а не только от его ума и знаний, и тут для меня стало ясным, что, в сущности, пределом для него и для пользы службы была должность начальника дивизии; с корпусом же он уже справиться хорошо не мог.
Во время стояния на Буге генерал Владимир Драгомиров опять получил 8-й армейский корпус; я же хотел выделить и начальника моего штаба генерал-майора Ломновского и потому ходатайствовал о его назначении на должность начальника 15-й пехотной дивизии в том же корпусе. Мне жаль было расставаться с таким отличным ближайшим помощником, но я считал долгом выдвинуть его. Продолжительное исполнение такой каторжной, по количеству работы, должности, как начальник штаба армии, вконец истомило его и расшатало его нервы. По получении им дивизии уже через месяц его нельзя было узнать. За это время он пополнел, передохнул, и строевая служба вместо штабной дала ему новые силы и бодрость духа. Заместил я его генерал-майором Сухомлиным, который, в бытность мою командиром 14-го армейского корпуса, командовал у меня полком. Он был человек очень аккуратный, чрезвычайно исполнительный и старательный. Были у него некоторые недочеты в смысле чрезмерно бережливого отношения к своему здоровью, но это не мешало ему прекрасно выполнять свои обязанности, и в общем я был им вполне доволен.
За это время войска несколько пополнились, и, хотя с большим трудом вследствие недостатка ружей, заменив частью наши винтовки австрийскими, удалось довести большую часть дивизий до пяти-семитысячного состава, тогда как в начале нашего стояния на Буге в дивизиях в среднем было по 3000–4000 винтовок. Людей, прибывших на укомплектование, было много, но вооружать их было нечем, и они в тылу своих частей обучались, а главным образом, старательно питались хорошими щами и жирной кашей, ибо в то время мы еще могли хорошо кормить бойцов. Во вторую половину лета 1915 года противник нас мало беспокоил и занимался лишь перестрелкой, не жалея огнестрельных припасов, которые у него были в изобилии, к большой досаде наших войск. В это время шло наступление немцев и австрийцев на наши Северо-Западный и Западный фронты, и пали все наши пограничные крепости, между прочим и Новогеоргиевск, который был мне близко знаком.
Хотя Новогеоргиевск считался нашей лучшей крепостью и на него в последние годы тратились большие суммы, но по постройке он далеко не был современной крепостью и, конечно, не в состоянии был противостоять продолжительное время огню современной тяжелой артиллерии. Во время его перестройки на новый лад были большие колебания. Одно время, при Сухомлинове, и эту крепость хотели упразднить в числе нескольких других. Перед этим вследствие японской войны и некоторое время после нес никаких сумм на укрепление этой крепости не назначалось, а затем уже спешно начали строить новые форты и перестраивать старые, но к 1914 году эта крепость далеко не была приведена в надлежащий вид. Например, ее железобетонные сооружения были такой толщины, что могли противостоять снарядам лишь 6-дюймовых орудий. У нас было твердое убеждение, что артиллерию большого калибра подвезти нельзя, а немцы сумели скрыть те чудовищные калибры орудий, которые они приготовили для быстрой атаки крепостей, что впервые обнаружилось во время прохождения их через Бельгию. Но и помимо этого важного обстоятельства уничтожение у нас специальных крепостных войск имело пагубное влияние на силу сопротивляемости наших крепостей.
Меня нисколько не удивило известие, что Новогсоргиевск был взят немцами в одну неделю: я знал, каков был гарнизон этой крепости. Помимо ополчения, которое как боевая сила было ничтожно, в состав гарнизона этой крепости была послана из моей армии, по назначению главнокомандующего, одна второочередная дивизия, которая была взята мною в тыл для пополнения. В ней оставалось всего 800 человек; начальником дивизии вместо старого, получившего корпус, назначен был генерал-лейтенант де Витт, который, очевидно, не успел ознакомиться ни с кем из своих подчиненных, да и его никто не знал. К нему подвезли для пополнения, насколько мне помнится, около 6000 ратников ополчения, а для пополнения офицерского состава — свыше 100 только что произведенных прапорщиков. И вот, не дав ему даже времени разбить людей по полкам, а полкам сформировать роты и батальоны, всю эту разношерстную толпу засунули в вагоны и повезли прямо в Новогеоргиевск; там их высадили как раз к тому времени, когда немцы повели атаку на эту крепость. Мне неизвестно, успел ли де Витт сформировать там свои полки, но я твердо убежден, что он не имел никакой возможности, по недостатку времени, придать этой толпе какой бы то ни было воинский вид. А между тем считалось, что комендант крепости получил в состав гарнизона регулярную дивизию, отличившуюся во многих боях. Можно ли винить коменданта с таким гарнизоном, которого он раньше и в глаза не видел, если оказалось, что он сопротивляться не мог?
Другая крепость, также хорошо мне известная в бытность мою помощником командующего войсками Варшавского военного округа — Брест-Литовск — была еще значительно хуже оборудована, чем Новогеоргиевск. Ее форты были еще менее современны, а восточный форт и совсем защищен не был, поэтому сопротивляемость крепости оказалась нулевой, и при подходе неприятельских сил гарнизон ее по приказанию свыше без боя спешно эвакуировался, причем, насколько до меня доходили известия, не успели даже сжечь то громадное количество имущества, которое находилось в этой крепости.
Во время летнего наступления 1915 года на наши Северо-Западный и Западный фронты наши армии отступали чрезвычайно быстро, уступая противнику громадное пространство нашего отечества; насколько я могу судить по доходившим до меня в то время сведениям, во многих случаях это происходило без достаточного основания.
Вскоре после этих горестных событий было обнародовано, что Верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич смещен и назначен кавказским наместником, а должность Верховного главнокомандующего возложил на себя сам государь. Впечатление в войсках от этой замены было самое тяжелое, можно сказать — удручающее. Вся армия, да и вся Россия, безусловно, верила Николаю Николаевичу. Конечно, у него были недочеты, и даже значительные, но они с лихвой покрывались его достоинствами как полководца. Подготовка к этой мировой войне была неудовлетворительна, но тут Николай Николаевич решительно был ни при чем, в особенности же — в недостатке огнестрельных припасов войска винили не его, а военное министерство и вообще тыловое начальство. Во всяком случае, даже при необходимости сместить Николая Николаевича, чего в данном случае не было, никому в голову не приходило, что царь возьмет на себя при данной тяжелой обстановке обязанности Верховного главнокомандующего. Было общеизвестно, что Николай II в военном деле решительно ничего не понимал и что взятое им на себя звание будет только номинальным, за него все должен будет решать его начальник штаба. Между тем, как бы начальник штаба ни был хорош, допустим даже — гениален, он не может, по существу дела, заменить везде своего начальника, и, как это дальше будет видно, отсутствие настоящего Верховного главнокомандующего очень сказалось во время боевых действий 1916 года, когда мы, по вине Верховного главнокомандования, не достигли тех результатов, которые могли легко повести к окончанию вполне победоносной войны и к укреплению самого монарха на колебавшемся престоле.
Начальником штаба при государе состоял генерал Алексеев. Я уже раньше о нем говорил. Теперь лишь повторяю, что он обладал умом, большими военными знаниями, быстро соображал и, несомненно, был хороший стратег. Считаю, что в качестве начальника штаба у настоящего главнокомандующего он был бы безупречен, но у такого верховного вождя, за которого нужно было решать, направлять его действия, поддерживать его постоянно колеблющуюся волю, он был совершенно непригоден, ибо сам был воли недостаточно крепкой и решительной. Кроме того, он не был человеком придворным, чуждался этой сферы, и ему под напором различных влияний со всевозможных сторон было часто не под силу отстаивать свои мнения и выполнять надлежащим образом те боевые задачи, которые выпадали на русскую армию. Принятие на себя должности Верховного главнокомандующего было последним ударом, который нанес себе Николай II и который повлек за собой печальный конец его монархии.
Значительный разрыв, который произошел между нашим Юго-Западным фронтом, на правом фланге которого очутилась моя 8-я армия, и левым флангом Западного фронта, произошел вследствие того, что у нас с давних пор считалось аксиомой, что Полесье совершенно непригодно для ведения операций значительными силами. У нас думали, что в лучшем случае там можно вести войну партизанскими отрядами, сплошного же боевого фронта ни в каком случае в этом районе быть не может. Насколько я знаю, такое свойство Полесья, выгодное для ведения оборонительной войны, намечавшей разделить наступавшие неприятельские силы на две части — одна севернее Полесья, а другая южнее его, — привело к тому, что в мирное время тщательно избегали работ, могущих в значительной мере осушить Полесье и сделать его доступным для ведения операций в широких размерах. Основываясь на этом убеждении, Западный фронт, отступая в глубь России, двигался в северо-восточном направлении, и, таким образом, постепенно между моим правым флангом и левым флангом армий Западного фронта образовался промежуток приблизительно около 70 верст.
В последнее время противник на моем фронте в общем беспокоил меня мало и шевелился более или менее энергично лишь на моем правом фланге, где ему и давался надлежащий отпор. Когда явился разрыв, о котором я только что сказал, мой крайний фланг обнажился, так как в образовавшемся промежутке болтались большая часть моей конницы и кавалерийский корпус моих соседей, которые никакого серьезного значения для обороны такого большого пространства, да еще в болотах, иметь не могли. Ясная вещь, что противник с большими силами всех трех родов войск хлынул для охвата моего правого фланга.
Собрать уступ больших резервов за моим правым флангом мне не представлялось возможным, потому что около половины войск 8-й армии распоряжением Верховного главнокомандования было переброшено на север, а потому выставленный мною уступ мог иметь только второстепенное значение. Стало очевидным, что далее держаться на Буге невозможно, и главнокомандующий Юго-Западным фронтом отдал приказание отходить в наши пределы с таким расчетом, чтобы моим правым флангом я мог дотянуть до города Луцка, так как считалось, что севернее находятся уже непроходимые болота, в которых могут действовать лишь мелкие части. Дотянуть находившимся у меня войскам до Луцка, имея перед собой многочисленного врага, было фактически невозможно, о чем мною было своевременно донесено. Моим начальством это было признано правильным. Мне было сообщено, что для усиления моей армии будет прислан 39-й армейский корпус, который в то время составлялся из дружин ополчения.
Я уже раньше имел случай сказать, что эти дружины не представляли собой никакой боевой силы. Их корпус офицеров, за малым исключением, никуда не годился, много офицеров было взято из отставки — старые, больные, отставшие от службы, да и их было очень мало. Солдаты старших сроков службы твердо знали и были убеждены, что их обязанность — оберегать тыл и нести там службу, но отнюдь не сражаться на фронте с неприятелем. Молодые, неопытные офицеры и почти совсем необученные ратники ополчения ни в каком случае не могли считаться до поры до времени удовлетворительным боевым элементом. Присылка мне на подкрепление такого корпуса, да еще на правый фланг, который должен был выдержать серьезное испытание, меня глубоко возмутила; перегруппировать же войска в это время не было никакой возможности. Приходилось, однако, довольствоваться тем, что мне было дано, и вспоминать пословицу: «На тебе, боже, что мне не гоже».