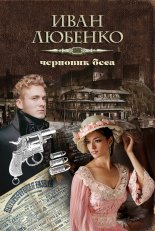Мои воспоминания Крылов Алексей
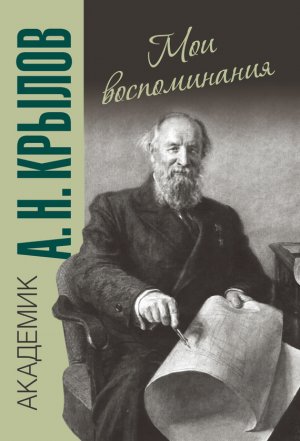
Так как промежуток между Западным фронтом и 8-й армией уже был значительный (моя разведка мне доносила, что противник быстро наступает), я просил разрешения отходить по моему усмотрению, так как все равно отход был неизбежен, а планомерное, спокойное отступление войск имело большое значение для устойчивости фронта Однако я решительно не знаю, по каким соображениям меня продержали еще три дня на Буге и разрешили отходить уже тогда, когда противник меня на флате опередил. Формировавшийся 39-й корпус должен был подвигаться к Луцку. Командир этого нового корпуса, генерал Стельницкий, явился ко мне в единственном числе; очевидно, невзирая на свои отличные боевые качества, он не мог один заменить собой двух дивизий, хотя бы и плохих. Тем не менее я его послал в Луцк поджидать свои части. У него, впрочем, в руках было два или три батальона, и я послал к нему еще Оренбургскую казачью дивизию.
Войска но всему фронту армии отошли вполне спокойно, отбрасывая противника, когда он пытался нас преследовать. Тыл армии заблаговременно был оттянут назад, и в этом отношении отход был произведен в полном порядке; лишь у Луцка неприятель нас опередил, ибо в это время из 39-го корпуса были только телеграммы, но ни одного человека. Луцк заблаговременно, распоряжением штаба фронта, был очень сильно укреплен, но по преимуществу к югу, откуда никакой опасности теперь не было, и более слабо — к западу, откуда неприятель напирал. Генерал Стельницкий, невзирая на свое критическое положение, сделал вид, что желает защищать Луцк. Этим он принудил австрийцев приостановиться, чтобы подтянуть свои войска и тяжелую артиллерию, так как они, по-видимому, предполагали, что на правом фланге у нас находятся большие силы. Но, разобравшись, они выяснили, что перед ними, в сущности, одна спешенная конница, и потому хитрость Стельницкого, надеявшегося, что он выиграет время и его войска начнут к нему прибывать, не удалась. Он принужден был отходить по дороге Луцк — Ровно, куда перешел штаб армии; первые эшелоны своего корпуса, которого раньше в глаза не видел, встретил в Клевани (в 20 верстах западнее Ровно), куда я спешно направлял один эшелон за другим. Войска прямо из вагонов попадали в огонь и получали боевое крещение при совершенно незнакомой обстановке, неспаянные и не знавшие своего начальства.
Было весьма мало шансов удержаться на реке Стубель, тем более что противник показался и севернее моего правого фланга, и даже было получено донесение, что к Александрии (в 15 верстах северо-восточнее Ровно) прибыл неприятельский кавалерийский разъезд, показавший, что за ним следует кавалерийская дивизия. Имея при штабе армии одну дружину ополчения и конвойный сводный эскадрон, я выслал этот эскадрон и три роты дружины в направлении на Александрию и двинул туда же Оренбургскую казачью дивизию. Вот все, что я мог сделать, чтобы в данный момент хоть сколько-нибудь прикрыть тыл моего правою фланга и штаб армии; это, впрочем, временно и оказалось достаточным. Кроме того, я спешно перевел к Клевали в распоряжение Стельницкого 4-ю стрелковую дивизию, чтобы он ее поставил в центре своего корпуса на шоссе Луцк — Ровно, имея две свои только что сформированные дивизии, 100-ю и 105-ю, на флангах; опираясь на «железную» дивизию, фронт получился достаточно устойчивый, чтобы задержать врага на Стубеле.
Зная Стельницкого как человека очень храброго и распорядительного, я временно успокоился за свой правый фланг. У Деражни и севернее я сосредоточил 7-ю и 11-ю кавалерийские дивизии и ту же Оренбургскую казачью. Однако с таким положением дела я помириться не мог и настоятельно просил генерала Иванова усилить меня еще одним корпусом, заявляя, что в случае такого подкрепления я буду иметь возможность перейти в короткое наступление, нанести сильный удар противнику с охватом его левого фланга и восстановить и укрепить устойчивость моего правого фланга. После различных препятствий, о которых тут не стоит говорить, мне несколько времени спустя был назначен в подкрепление 30-й армейский корпус, во главе которого стоял генерал Зайончковский.
Я был очень рад этому назначению, так как знал Зайончковского уже давно и считал его отличным и умным генералом. У него была масса недругов, в особенности среди его товарищей по службе Генерального штаба. Хотя вообще офицеры Генерального штаба друг друга поддерживали и тащили кверху во все нелегкие, но Зайончковский в этом отношении составлял исключение, и я редко видел, чтобы так нападали на кого-либо, как на него. Объясняю я себе это тем, что по складу и свойству его ума, очень едкого и часто злого, он своим ехидством обижал своих штабных соратников.
К этой характеристике можно еще прибавить, что это был человек очень ловкий и на ногу не давал себе наступать, товар же лицом показать умел. Что касается меня, то я его очень ценил, считая одним из наших лучших военачальников, невзирая на его недостатки. Но у кого их пет? Его достоинства значительно превышали его недочеты.
30-й армейский корпус был отправлен мною на реку Горынь, он сосредоточился у Степани. Как только большая его часть была подвезена, я вызвал для разговора по прямому проводу начальника штаба фронта генерала Саввича, прося его доложить Иванову, что я предполагаю перейти в наступление моим правым флангом, дабы отбросить противника за реку Стырь и запять Рожище — Луцк. На это мне Саввич ответил, что доложить он, конечно, может, но что едва ли главнокомандующий согласится на какие-нибудь наступательные операции, так как при настоящем положении дела он считает их бесполезными. Я ему ответил, что ни о каких больших наступательных операциях и разговора нет, что я также считаю их в настоящее время бесполезными и желаю лишь нанести противнику, как только что сказал, короткий удар, дабы выпрямить фронт по реке Стырь. После некоторых переговоров главнокомандующий согласился наконец на мое предложение, и я тотчас же сделал соответствующее распоряжение, придав 30-му корпусу 7-ю кавалерийскую дивизию.
Наступление Зайончковского было проведено умело и настойчиво, причем было рассчитано так, что части 30-го корпуса и 7-я кавалерийская дивизия все время охватывали левый фланг противника, заставляя его быстро отходить, 39-й же корпус генерала Стельницкого вел бой с фронта, задерживая австро-германцев, дабы дать возможность 30-му корпусу производить охваты возможно глубже. В результате Луцк был взят, и мы заняли по Стыри ту линию, которую я наметил. Тут произошел один инцидент, характеризующий генералов, принимавших участие в этом наступлении. При подходе к Луцку Стельницкий доносил, что начальник 4-й стрелковой дивизии Деникин затрудняется штурмовать этот город, сильно укрепленный и защищаемый большим количеством войск. Я послал тогда телеграмму Зайончковскому с приказанием атаковать Луцк с севера, чтобы помочь Деникину. Зайончковский тотчас же сделал соответствующие распоряжения, но вместе с тем в приказе по корпусу объявил, что 4-я стрелковая дивизия взять Луцк не может и что эта почетная задача возложена на его доблестные войска. Этот приказ, в свою очередь, уколол Деникина, и он, уже не отговариваясь никакими трудностями, бросился на Луцк, одним махом взял его, во время боя въехал на автомобиле в город и оттуда прислал мне телеграмму, что 4-я стрелковая дивизия взяла Луцк. В свою очередь Зайончковский доносил, что без движения с севера Деникин Луцка взять бы не мог и что честь этого дела принадлежит 30-му корпусу, в чем он, в сущности, был прав. Впоследствии оба эти генерала смотрели друг на друга очень враждебно и примириться так и не могли.
В действительности, конечно, честь этого дела принадлежит обоим корпусам. Я привел этот инцидент как пример, до чего чутки в военное время войсковые части и их начальники к своим боевым отличиям и как часто решение дела зависит от их соревнования. Деникин, который играл такую большую роль впоследствии, был хороший боевой генерал, очень сообразительный и решительный, но всегда старался заставить своих соседей порядочно поработать в свою пользу, дабы облегчить данную им для своей дивизии задачу; соседи же его часто жаловались, что он хочет приписывать их боевые отличия себе. Я считал естественным, что он старается уменьшить число жертв вверенных ему частей, но, конечно, все это должно делаться с известным тактом и в известных размерах. И нужно думать не только о себе, но главным образом об общей пользе, что, к сожалению, не всегда бывает.
Через несколько дней после перехода нашего на Стырь воздушная разведка мне донесла, что значительные силы немцев, в общем примерно около двух пехотных дивизий, двигаются с северо-востока на Колки. Было ясно, что противник направлял около корпуса с таким расчетом, чтобы выйти на правый фланг вверенной мне армии и в свою очередь постараться отбросить нас обратно на восток. Я немедленно двинул к Колкам обе дивизии 30-го корпуса и усилил 4-й стрелковой и 7-й кавалерийской дивизиями, считая эти силы совершенно достаточными, чтобы парировать маневр немцев. Кроме того, на всякий случай я взял одну дивизию в резерв, в мое распоряжение, расположив ее в районе Клевань — Олыко. При таком расположении сил я считал свое положение крепким.
К сожалению, на это дело в штабе фронта взглянули иначе, и совершенно неожиданно для меня в один скверный вечер, когда мои распоряжения приводились в исполнение, я получил длинную шифрованную телеграмму от главнокомандующего. По расшифровании ее, что отняло время, выяснилось, что штаб фронта предписывает произвести следующую операцию собственного измышления: правому флангу моей армии предписывалось в тот самый вечер отойти от Луцка обратно на Стубель с таким расчетом, чтобы к утру быть опять на старых позициях, 30-му же корпусу с приданными ему частями спрятаться в лесу восточнее Колков, и когда немцы вытянутся по дороге из Колков на Клевань, то неожиданно ударить им во фланг, разбить их и затем вновь остальными войсками правого фланга перейти в наступление. Предписывалось этот удивительный план произвести немедленно и безоговорочно.
Я ответил шифрованной же телеграммой, что повеление главнокомандующего выполняю, но считаю долгом службы донести, что телеграмму я получил в 7 часов вечера, расшифровка отняла время, написать новые директивы также требуется время, отправка по телеграфу, расшифровка корпусными командирами новой директивы, составление новых приказов в штабах корпусов, а затем дивизий, рассылка в полки новых распоряжений и доведение их до рот включительно требуют не менее 10–12 часов. При этом такая спешка вызовет неминуемую суету и беспорядок во время этой щекотливой операции и большое неудовольствие в войсках, которые после удачного наступления должны бросать взятые с бою позиции и уходить назад. Поэтому в этот вечер ни в каком случае незаметного отхода быть не может, а состоится он с вечера другого дня. Кроме того, одним махом перескочить в течение одной ночи, когда войска двигаются медленно, со Стыри на Стубель невозможно, так как тут около 50 верст расстояния, и в одну ночь сделать такой переход, сохраняя хоть какой-нибудь порядок, нельзя: требуется два перехода, и воздушная разведка противника выяснит наше отступление. Приказание главнокомандующего оставить в окопах разведчиков и дивизионную конницу, чтобы замаскировать наш отход, цели не достигнет, ибо артиллерию оставить с разведчиками я не могу, чтобы её не потерять, а отсутствие артиллерии не может не быть замечено неприятелем. Наконец, трем дивизиям пехоты и одной кавалерийской у Колков в лесу спрятаться нельзя: там масса обширных болот, германский корпус идет, очевидно, с разведкой и не может пропустить незамеченной такую массу наших войск, войска же эти в болотах атаковать могут совершенно иначе, чем на сухой местности, и никакой неожиданной атаки произойти не может. На основании всего вышеизложенного я доносил, что слагаю с себя всякую ответственность за успех этой операции. Мое донесение, или, вернее, критика плана действий, мне предписанных, успеха не имело, приказание оставалось в силе и было выполнено.
Естественно, что неприятель утром же заметил наш отход, и мы с боем должны были ни с того ни с сего отступать. Точно так же и 30-й корпус, как ни старался скрыться, был обнаружен немцами, и вышла обоюдная фронтальная атака, которая привела к тому, что обе стороны частью зарылись в землю, а частью в местах болотистых, которыми эта местность изобилует, начали устраивать окопы поверх земли. В результате этих действий получилось, что мой правый фланг протянулся дальше к северу, до Колков на Стыри, но так как противник занял Чарторийск на левом берегу этой реки, а затем и станцию железной дороги этого наименования, то пришлось и далее протягивать мой фронт все более к северу, до Кухоцкой Воли, где и был стык с 3-й армией. На более пассивных участках пришлось поставить конницу, а не активную пехоту. Весь 30-й корпус и три дивизии конницы, в сущности, зарыться в землю не могли, так же как и правый фланг 39-го корпуса; на участках расположения этих частей, вследствие сильной заболоченности этих мест, пришлось произвести огромные саперные работы. Пришлось устраивать бесконечные гати, массу мостов, окопы же не врывать в землю, а строить их из бревен, прикрытых с наружной стороны землею, так как углубляться в землю было невозможно по причине близости грунтовых вод.
Материала для выполнения этих работ было сколько угодно, так как вся местность сплошь покрыта лесами. Выяснилось, что хотя и с большими затруднениями и несколько иным порядком, но воевать в Полесье значительными массами можно: 3-я армия почти вся оказалась в болотах, и против нее был многочисленный противник.
ЗИМА 1915/16 ГОДА
Вскоре после Луцкой операции царь приехал на Юго-Западный фронт и объезжал армии. Между прочим, приехал и в Ровно, где был расположен штаб моей армии, вместе с главнокомандующим фронтом генерал-адъютантом Ивановым. Свитский поезд, прибывший за час ранее царского, чрезвычайно беспокоился, что могут появиться неприятельские самолеты, которые нас действительно постоянно посещали и бросали бомбы. Начальник царской охраны мне передал, что главнокомандующий приказал остановить царский поезд не на железнодорожной платформе, а где-нибудь раньше, по возможности незаметно. На это я ему ответил, что в данный момент эта предосторожность совершенно излишня, так как все небо покрыто низкими густыми тучами, и, безусловно, никакой неприятельский самолет появиться не может, да и у меня тут собрано восемь самолетов, которые не допустят появления неприятельского, тем более что время клонится к вечеру.
В почетный караул я поставил роту ополчения из моего конвоя. По прибытии царь, выслушав мой рапорт, спросил, в скольких верстах от Ровно находится противник. Я ему ответил, что верстах в 25 и что приготовленная для представления ему недавно сформированная 100-я дивизия расположена в 18 верстах отсюда. При этом я считал долгом предупредить, что место, на котором она сосредоточена, находится под огнем тяжелой артиллерии противника; я добавил, что считаю вполне безопасной поездку туда, так как при тумане неприятель, конечно, стрелять не будет: без корректирования стрельбы он зря снарядов не выпускает. Царь вполне с этим согласился, и в автомобилях мы поехали на место смотра. По моей просьбе царь наградил несколько нижних чинов Георгиевскими крестами и медалями за оказанные ими раньше боевые отличия и пропустил войска мимо себя церемониальным маршем. Его сопровождал наследник. Как и прежде, бросалось в глаза неуменье царя говорить с войсками, он как бы конфузился и не знал, что сказать, куда пойти и что делать, поэтому не удивительно, что войска были как бы замороженными и не выказали никакой радости и подъема духа. По окончании смотра царь проехал еще несколько вперед и осмотрел перевязочный пункт, где лежало несколько раненых солдат, которых до того, пока им сделают операции, нельзя было перевезти вследствие крайне тяжелых ран.
Генерал Иванов в течение этой царской поездки несколько раз предлагал мне от имени армии обратиться к царю с просьбой возложить на себя орден Георгия 4-й степени в память того, что он находился в районе артиллерийского обстрела. Я ответил Иванову, что лично для себя не нахожу удобным обратиться к государю с этой просьбой, что он тут старший и наш главный начальник и потому, если он находит это нужным и своевременным, то может и сам просить царя об этом. Однако для себя он нашел это тоже неудобным и ввиду моего категорического отказа пожелал возложить это поручение на командира 39-го корпуса генерала Стельницкого. Но Стельницкий куда-то исчез, и его найти не могли. Так желание главнокомандующего преподнести царю Георгиевский крест в данный момент исполнено не было.
Все-таки вслед за этим главнокомандующий собрал георгиевскую думу при штабе фронта под председательством генерала Каледина, и, по его предложению, дума присудила царю этот почетный боевой орден. Иванов поручил состоявшему при нем другу детства Николая II, свиты его величества генерал-майору князю Барятинскому, отвезти протокол думы в Ставку, где князь Барятинский, стоя на коленях, представил Верховному главнокомандующему постановление думы и самый крест и передал просьбу Иванова принять и возложить на себя этот орден по просьбе всех войск Юго-Западного фронта. Государь согласился на эту просьбу и принял крест, который тут же надел. Впоследствии мне говорили в Ставке, что другие главнокомандующие, в особенности великий князь Николай Николаевич, энергично протестовали против такого старательного действия Иванова, считая, что георгиевская дума ни в каком случае не могла присуждать крест царю, так как его отличия не подходили под георгиевский статут. Крест мог быть поднесен без обсуждения совершенных отличий единогласной просьбой всех главнокомандующих, но дело было уже сделало. Объяснялось такое желание Иванова заслужить отдельное благоволение царя тем, что, как рассказывали, фонды Иванова стояли очень низко и якобы генерал Алексеев сильно настаивал на необходимости смены Иванова. Этим поступком Иванов будто бы на некоторое время укрепил свое положение.
Ярко сохранились у меня в памяти несколько дней зимних праздников 1915/16 года. В то время на фронте было затишье. Хотя неприятель обстреливал нас ежедневно и мы отвечали ему тем же, но больших боев не было, и, воспользовавшись этим, к нам в штаб приезжало много гостей.
Как кинематографическая лента, ежедневно менялись у меня перед глазами впечатления: то члены Государственной думы, хотевшие со мной побеседовать, то представители различных городов и организаций с подарками на фронт, то артисты, желавшие веселить и развлекать наших воинов, то дамы со всевозможными делами, толковыми и бестолковыми. В эту зиму их было особенно много: так как я впервые позволил моей жене приехать ко мне в Ровно, то не имел права и другим отказывать в этом. Первые 17 месяцев войны я не видел своей семьи и очень сердился, когда узнавал, какое множество дам приезжало во Львов и вообще в Галицию, пока мы были там. Но запретить это было не в моей власти.
Итак, на праздниках в тот год всевозможных впечатлений и суматохи было достаточно и в моем штабе.
Помню яркий, светлый день Крещенья. Мы все после службы вышли из собора, чтобы присутствовать на молебне с водосвятием и традиционным крещенским парадом. Народу собралось множество — весь мой штаб, войска, горожане, представители администрации, лазаретов, госпиталей, наши приезжие гости.
В самом начале молебна я услышал знакомый шум в воздухе и, подняв глаза, увидел в ярко-синем небе совсем низко над собором два вражеских самолета. Быстро оглядев всех близ меня стоявших, я с радостью убедился, что все достойно и спокойно продолжают молиться, нисколько не выражая тревоги. Торжественное пение хора неслось ввысь навстречу врагу. Вдруг раздался сильный взрыв и треск упавшей бомбы. Было очевидно, что она попала в крышу одного из ближайших домов.
Молебен продолжался. Я с гордостью взглянул на группу сестер милосердия: ни одна из них не дрогнула, никакой сумятицы не произошло, все женщины и молодые девушки стояли по-прежнему спокойно. Но к ужасу своему, я вдруг заметил, что не только голос главного священника дрожит, но губы его посинели, и он, бледный как полотно, не может продолжать службу. Крест дрожит в его руке, и он чуть не падает. Спасли положение второй священник, дьякон и певчие, заглушившие этот позор перед всеми стоявшими несколько дальше. Молебен благополучно окончился. Вражеские самолеты сбросили еще несколько бомб, но они попали уже в болото за городом. Наша артиллерия быстро их обстреляла и выпроводила.
После парада мне доложили, что бомба разрушила верхний этаж одного из больших домов, убила и искалечила несколько жильцов, что все необходимые меры помощи приняты, пожар потушен. Я вытребовал к себе перетрусившего священнослужителя, пробрал его и пристыдил изрядно, обещая выслать его вон, если он не умеет держать себя достойно своему сану. Я сказал ему, что и во время прежних войн и во время нашей последней я видел и слышал о бесконечных героических подвигах духовенства, но что такой срамоты, какой он меня угостил сегодня, ни разу мне не доводилось быть свидетелем.
Тут мне хочется сказать несколько слов о сестрах милосердия. В этот день группа их представительниц порадовала меня своим спокойствием и присутствием духа во время падения бомбы. А теперь я невольно вспомнил о том, как много наветов и грязных рассказов ходило во время войны о сестрах вообще и как это меня всегда возмущало. Спору нет, были всякие между ними, но я считаю своим долгом перед лицом истории засвидетельствовать, что громадное большинство из них героически, самоотверженно, неустанно работало, и никакие вражеские бомбы не могли их оторвать от тяжелой, душу раздирающей работы их над окровавленными страдальцами — нашими воинами. Да и сколько из них самих было перекалечено и убито…
В тот крещенский, богатый впечатлениями день ко мне приехал генерал Никулин, старый знакомый моей жены по Одессе. Он пригласил нас всех приехать в его дивизию на праздник-маскарад, который устраивали солдаты. Я охотно согласился, и мы поехали по направлению к Клевали, поближе к передовым позициям.
Удивительно, на что только наш солдат не способен, чего он только самодельно, с большим искусством не наладит!
На большой поляне перед лесом, в котором были расположены землянки этой дивизии, нас поместили как зрителей удивительного зрелища: солдаты, наряженные всевозможными народностями, зверями, в процессиях, хороводах и балаганах задали нам целый ряд спектаклей, танцев, состязаний, фокусов, хорового пения, игры на балалайках. Смеху и веселья было очень много. И вся эта музыка, шум и гам прерывались раскатами вражеской артиллерийской пальбы, которая здесь была значительно слышней, чем в штабе. А среди солдат и офицеров царило такое беззаботное веселье, что любо-дорого было смотреть.
Вскоре после этого многие из провожавших нас с этого веселого праздника были убиты, и первый из них — энергичный и любимый солдатами генерал Никулин. А в ту лунную красивую ночь, когда наконец после чая в землянке гостеприимные хозяева нас отпустили домой, никто из них не думал о смерти, несмотря на близость неприятеля.
В этом празднике принимали участие и внесли много оживления чехи из чешской дружины. Эта дружина имеет свою маленькую историю. Почему-то Ставка не хотела ее организовать и опасалась измены со стороны пленных чехов. Но я настоял, и впоследствии оказалось, что я был прав. Они великолепно сражались у меня на фронте. Во все время они держали себя молодцами. Я посылал эту дружину в самые опасные и трудные места, и они всегда блестяще выполняли возлагавшиеся на них задачи.
Положение, в котором находилась моя армия, в особенности правый фланг ее, мне не нравилось. Я считал, что необходимо стараться откинуть противника к западу, с тем чтобы укрепиться на Стыри от Торговицы — Луцка к северу и далее на Стоход, всемерно стараясь захватить Ковель. Для выполнения этого намерения у меня не было достаточно сил; с другой стороны, ко всяким наступательным операциям главнокомандующий продолжал относиться скептически и думал главным образом лишь о том, чтобы не пустить врага дальше к востоку и предохранить от нашествия Киев. В это- то время его распоряжением начали воздвигаться полосы укрепленных позиций, в несколько сотен верст длины каждая, и было построено несколько мостов через Днепр. Стоимость этих сооружений была колоссальная, но для защиты края они не пригодились, так как мы противника дальше не пустили.
Насколько Иванов не верил больше в стойкость войск, можно видеть из того, что укрепленные полосы стали строиться не от неприятеля в глубь страны, а обратно — от самого Киева по направлению к противнику. Когда впоследствии я был назначен главнокомандующим этим фронтом, то оказалось, что вблизи противника никаких укреплений не было, а таковые были воздвигнуты внутри страны, далеко от линии фронта. Вообще, Иванов поставил себе целью предохранить Юго-Западный край от нашествия противника, но, очевидно, не особенно верил в возможность выполнить это благое намерение. Что же касается не только выигрыша войны, но даже остановки наступления врага — в это он не верил. И в этом ничего мудреного нет, так как ни он войск, ни войска его совершенно не знали. За все время его главнокомандования он только один раз посетил армии, причем посещение это заключалось в том, что он в двух-трех местах видел резервы, с которыми довольно-таки бестолково поговорил и уехал. Мою армию он посетил в то время, когда я стоял на Буге; утром приехал к штабу, видел в совокупности около четырех батальонов и вечером уехал. Понятно, что при таких условиях он пульса жизни армии не чувствовал и не знал, а вместе с тем по натуре был очень недоверчив и самонадеянно думал, что он все знает лучше всех.
Пользуясь той задачей, которую он на себя возложил, я выпросил у него еще дивизию, 2-ю стрелковую, чтобы усилить мой правый фланг, тем более что фронт 8-й армии, с протяжением его до Кухоцкой Воли, оказался страшно растянутым. Из 2-й и 4-й стрелковых дивизий был сформирован новый, 40-й корпус, который по составу своих войск был, несомненно, одним из лучших во всей русской армии; этим-то корпусом, его соседом 30-м корпусом и конницей я решил нанести короткий удар правым флангом в расчете отбросить немцев от Чарторийска и захватить Колки, дабы сократить фронт и поставить врага в худшие жизненные условия в течение зимних месяцев. На 4-ю стрелковую дивизию возложена была самая тяжелая задача — взять Чарторийск и разбить 14-ю германскую пехотную дивизию. Подготовка к указанной мною операции велась весьма тайно, и можно сказать, что элемент внезапности был сохранен в полной мере. Немцы, стоявшие на левом берегу Стыри, от Рафаловки до Чарторийска, были разбиты наголову, захвачено было много пленных, между прочим — почти целиком полк кронпринца германского и германская гаубичная батарея. Неприятель в большом замешательстве был отброшен к западу. Но Колки, невзирая на все усилия, взять не удалось, потому что два соседа, корпусные командиры, сговориться безобразия, которые партизаны творили у нее в тылу, о чем я немедленно доносил главнокомандующему на распоряжение. Однако и Иванов с ними ничего поделать не мог, ибо, наблудив в одном каком-нибудь месте, они перескакивали в другое и, понятно, адреса своего не оставляли. Единственное хорошее дело, которое за всю зиму они совершили, был наскок на Нобель, насколько мне помнится. Три команды партизан, соединившись вместе и оставив своих лошадей дома, пешком пробрались сквозь болота ночью и перед рассветом напали на штаб германской пехотной дивизии, причем захватили и увели с собой в плен начальника дивизии с несколькими офицерами. Этот злосчастный начальник дивизии, находясь в плену, сделал вид, что хочет бриться, и бритвой перерезал себе горло.
Думаю, что если уже признано было нужным учреждать партизанские отряды, то следовало их формировать из пехоты, и тогда, по всей вероятности, они сделали бы несколько больше. Правду сказать, я не мог никак понять, почему пример 1812 года заставлял нас устраивать партизанские отряды, по возможности придерживаясь шаблона того времени: ведь обстановка была совершенно другая, неприятельский фронт был сплошной и действовать на сообщения, как в 1812 году, не было никакой возможности. Казалось бы, нетрудно сообразить, что при позиционной войне миллионных армий действовать так, как сто лет назад, не имело никакого смысла. В конце концов весной партизаны были расформированы, не принеся никакой пользы, а стоили они громадных денег, и пришлось некоторых из них, поскольку мне помнится, по суду расстрелять, других сослать в каторжные работы за грабеж мирных жителей и за изнасилование женщин. К сожалению, этими злосчастными партизанами увлекся не один наш главнокомандующий. Вновь назначенный походный атаман великий князь Борис Владимирович последовал тому же примеру: по его распоряжению во всех казачьих частях всех фронтов были сформированы партизаны, которые, как и на нашем фронте, болтались в тылу наших войск и, за неимением дела, производили беспорядки и наносили обиды ни в чем не повинным жителям, русским подданным. Попасть же в тыл противника при сплошных окопах от моря и до моря и думать нельзя было. Удивительно, как здравый смысл часто отсутствует у многих, казалось бы, умных людей.
В течение зимы 1915/16 года, стоя все время на одних и тех же позициях, мы их постепенно совершенствовали, и они стали приобретать тот вид, который при современной позиционной войне дает большую устойчивость войскам: каждая укрепленная полоса имела от трех до четырех линий окопов полного профиля и с многочисленными ходами сообщений. Строили также пулеметные гнезда и убежища, но не пользовались для этой цели, как германцы и австрийцы, железобетоном, а строили убежища, зарываясь глубоко в землю и прикрываясь сверху несколькими рядами бревен с расчетом, чтобы такой потолок мог выдержать 6-дюймовый снаряд. Убежища, вообще, подвигались туго, их было очень мало, и, правду сказать, я не особенно наседал на их развитие, так как они представляли собой не только прикрытие от артиллерийского огня, но и ловушки: спрятанный в убежище гарнизон данного участка, в случае проникновения противника в окопы, почти неизбежно целиком попадал в плен. Нужно признать, что австрийцы и немцы укреплялись лучше нас, более основательно, и у них в окопах было гораздо удобнее жить, нежели в наших. Помимо довольно широкого применения железобетонных сооружений у них во многих местах было проведено электричество, устроены садики и блиндированные помещения для офицеров и для солдат. Я совершенно не гнался за этими усовершенствованиями, но старался обставить жизнь людей возможно более гигиенично, чтобы они были хорошо одеты, по сезону, и хорошо кормлены, чтобы было возможно больше бань.
В отношении бань Всероссийский земский союз оказал нам прямо-таки неизмеримую пользу. Ни от каких задач союз этот не отказывался, и его деятели вкладывали в полном смысле этого слова душу свою в то, чтобы возможно быстрее и основательнее выполнять то или другое задание. И Союз городов принес большую пользу, но, по крайней мере, у меня в 8-й армии Земский союз был более деятелен, и считаю долгом совести засвидетельствовать, что благодаря его работе никогда никакие инфекционные болезни не принимали обширных размеров; при появлении какой-либо заразной болезни мы быстро справлялись с инфекцией, и войска от болезней страдали мало, в особенности по сравнению с санитарным состоянием войск в прежних войнах.
В течение этой зимы мы усердно обучали войска и из необученных делали хороших боевых солдат, подготовляя их к наступательным операциям в 1916 году. Постепенно и техническая часть поправлялась в том смысле, что стали к нам прибывать винтовки, правда различных систем, но с достаточным количеством патронов; артиллерийские снаряды, по преимуществу легкой артиллерии, стали также отпускаться в большом количестве; прибавили число пулеметов и сформировали в каждой части так называемых гренадер, которых вооружили ручными гранатами и бомбами.
Войска повеселели и стали говорить, что при таких условиях воевать можно и есть полная надежда победить врага. Лишь воздушный флот, по сравнению с неприятельским, был чрезмерно слаб. Между тем, помимо воздушной разведки и снятия фотографий неприятельских укреплений, самолеты имели еще незаменимое значение при корректировании стрельбы тяжелой артиллерии. Много раз обещали увеличить число самолетов, но так это одним обещанием и осталось. Не было у нас также и танков, и поэтому я очень обрадовался, когда было сообщено, что таковые будут присланы из Франции; но и это обещание до конца моей работы на фронте выполнено не было. К ранней весне в каждой пехотной дивизии было от 18 до 20 тысяч человек, вполне обученных, и от 15 до 18 тысяч винтовок в полном порядке и с изобилием патронов. Износившиеся орудия были заменены новыми, и мы могли жаловаться только на то, что тяжелой артиллерии у нас было еще далеко не достаточно, хотя и ее несколько прибавилось. По состоянию духа войск вверенной мне армии и, как я скоро убедился, других армий Юго-Западного фронта мы находились, по моему убеждению, в блестящем состоянии и имели полное право рассчитывать сломить врага и вышвырнуть его вон из наших пределов.
Мы все были страшно огорчены, когда в декабре 1915 года было произведено чрезвычайно неудачное наступление 7-й армии. Она сначала была перевезена к Одессе, для того чтобы быть направленной в Болгарию, которая объявила нам войну. Новый командующий этой армией генерал Щербачев, как он мне сам впоследствии рассказывал, отговорил Николая II отправлять эту армию в Болгарию, полагая, что у нее там нет никаких шансов на успех и что было бы лучше быстро перебросить ее на Юго-Западный фронт, чтобы прорвать расположение противника и, присоединяя к этому прорыву общее наступление всех войск фронта, отбросить австро-германцев возможно далее к западу. С этим предложением царь согласился.
До меня доходили довольно верные сведения из штаба фронта, что генерал Иванов был расстроен этой новой наступательной операцией и вперед решил, что она никаких благих результатов дать не может. Действительно, эта операция была так скомбинирована штабом фронта, что успеха иметь не могла. Останавливаться на ней я не буду, так как она меня не касалась. Скажу лишь вкратце, что армии Щербачева, которая должна была представлять собой ударную группу, был отведен слишком широкий фронт и потому у нес резервов оказалось недостаточно, а два гвардейских корпуса, резерв главнокомандующего, Щербачеву не были переданы. Таким образом, Щербачеву пришлось наносить удар не кулаком, а растопыренными пальцами. Кроме того, слепо следуя германскому примеру прорыва нашей 3-й армии весной того же 1915 года, штаб фронта распорядился, чтобы все остальные армии стояли на месте, отнюдь не предпринимали каких- либо наступательных операций до полной победы 7-й армии и только вели демонстрации артиллерией и поисками разведчиков. При условии, что артиллерийские снаряды следовало беречь, а устраивать разведчикам какие-либо особые поиски было нельзя, так как мы стояли почти по всему фронту с противником нос к носу, очевидно, что о сильных демонстрациях и разговаривать нечего было и надуть противника было совершенно невозможно. Ведь это — азбучная истина, что демонстрация только тогда достигает своей цели, когда она ведется решительно и когда войска сами не знают, что это демонстрация, а не настоящая атака.
Подобная чепуха меня сильно возмущала, и я просил разрешения главнокомандующего усилить свою ударную группу своими собственными средствами и войсками и устроить такую демонстрацию, которая притянула бы к себе все неприятельские резервы, стоявшие против моей армии. На это мое предложение я получил резкий и безапелляционный отказ. Поэтому я не был удивлен, когда во время боевых действий 7-й армии моя воздушная разведка мне донесла, что резервы противника потянулись на запад; понятно — против 7-й армии; мы же, находясь в полной боевой готовности, высылали команды разведчиков, которые по ночам бесцельно болтались между нашими проволочными заграждениями и проволочными заграждениями противника. В результате наступление 7-й армии, как это и было неизбежно, потерпело полное крушение. Армия понесла громадные потери и успеха никакого не имела. В штабе фронта все, с Ивановым и Саввичем во главе, отчаянно ругали и проклинали Щербачева и считали его виновником неудачи, но и Щербачев в этом отношении не отставал от них и с лихвой возвращал им их обвинения. Будучи непричастным к этому печальному делу, я по всей справедливости считаю, что главным виновником неудачи был, несомненно, сам Иванов с его штабом, а не Щербачев.
Я был уведомлен о предположениях Ставки поручить главную наступательную операцию летом 1916 года Западному фронту, которую ближайшим образом должны поддержать армии Северо-Западного фронта, и о том, что армии нашего фронта обречены на бездействие, пока те фронты не обозначат явного успеха и не продвинутся вперед. Но, на всякий случаи, в своей 8-и армии я усердно подготовлял наступление, выбрав соответствующий главный ударный участок направлением на Луцк и два вспомогательных ударных участка, перегруппировывая свои войска.
НАЗНАЧЕНИЕ МОЕ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИМ АРМИЯМИ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА
Совершенно неожиданно в половине марта 1916 года я получил шифрованную телеграмму из Ставки от генерала Алексеева, в которой значилось, что Верховным главнокомандующим я избран на должность главнокомандующего Юго-Западным фронтом взамен Иванова, который назначается состоять при особе царя, посему мне надлежит немедленно принять эту должность, так как 25 марта царь прибудет в Каменец-Подольск для осмотра 9-й армии, стоявшей на левом фланге фронта. Я ответил, что приказание выполню и испрашиваю назначить вместо меня командующим 8-й армией начальника штаба фронта генерала Клембовского.
На это я получил ответ, что государь его не знает и что хотя он меня не стесняет в выборе командующего армией, но со своей стороны считает нужным усиленно рекомендовать генерала Каледина, — государь был бы доволен, если бы я остановился на этом лице. Я имел раньше случай сказать, что генерала Каледина я считал выдающимся начальником дивизии, но как командир корпуса он выказал себя значительно хуже; тем не менее, поскольку я ничего против него не имел, поскольку за все время кампании он вел себя отлично и заслужил два Георгиевских креста и Георгиевское оружие, был тяжело ранен и, еще не вполне оправившись, вернулся в строй, у меня не было достаточных оснований, чтобы отклонить это высочайшее предложение, забраковать опытного и храброго генерала лишь потому, что, по моим соображениям и внутреннему чувству, я считал его слишком вялым и нерешительным для занятия должности командующего армией. Впоследствии я сожалел, что в данном случае уступил, так как на боевом опыте оказалось, что я был прав и что Каледин, при всех своих достоинствах, не соответствовал должности командующего армией.
Я протелеграфировал Иванову, испрашивая у него указания, когда ему будет угодно, чтобы я прибыл для принятия его должности. Он мне ответил, что это зависит от меня, но генерал-квартирмейстер штаба фронта Дитерихс вызвал моего начальника штаба Сухомлина и передал ему, что Иванов очень стесняется быстро уезжать, что мое скорое прибытие в Бердичев будет для него весьма неудобным, так как ему нужно закончить разные дела, и что было бы с моей стороны хорошо, если бы я отсрочил свое прибытие, тем более что Иванов получил извещение министерства двора, в котором значится, что ему пока не следует уезжать из Бердичева. Этим сообщением я был поставлен в крайне неловкое положение: с одной стороны, Алексеев именем государя требует, чтобы я ехал возможно скорее принимать должность главнокомандующего; с другой же стороны, неофициально передается по прямому проводу, что именем государя министр двора предлагает Иванову оставаться на месте. Так как я решительно ничего не домогался, никаких повышений не искал, ни разу из своей армии никуда не уезжал, в Ставке ни разу не был и ни с какими особыми лицами о себе не говорил, то лично для меня, в сущности, было решительно все равно, принимать ли новую должность или остаться на старой. Но так как в телеграмме Алексеева было сказано, что царь прибудет в Каменец-Подольск 25 марта и мне приказано там его встретить, а времени оставалось очень мало, чтобы ознакомиться с фронтом, то я телеграммой изложил все вышесказанное Алексееву, спрашивая, что мне делать. Я получил ответ, что если я не могу сейчас ехать в штаб фронта, то чтобы я хотя вытребовал к себе начальника штаба или генерал-квартирмейстера штаба фронта, дабы ознакомиться хоть несколько с положением дел.
Помимо четырех армий, главнокомандующему фронтом непосредственно и во всех отношениях подчинялись еще округа Киевский и Одесский, всего же двенадцать губерний, не исключая их гражданской части. Не желая отрывать начальника штаба фронта от дела, я вытребовал к себе генерал-квартирмейстера Дитерихса, человека очень способного и отлично знающего свое дело. Он мне сделал подробный доклад, вполне меня удовлетворивший, и я ему сообщил о недоразумении, которое, по необъяснимым для меня причинам, неожиданно явилось между мной и генералом Ивановым. Я просил его доложить Иванову, что я, бывший его подчиненный, не считаю себя вправе покидать армию без его приказания, так как, пока он не сдал должности главнокомандующего, он и поныне состоит моим прямым начальником, и что без его распоряжения я в Бердичев не поеду и предупреждаю, что, не приняв на законном основании должности главкоюза, я в Каменец-Подольск тоже не поеду. Это мое заявление повергло Иванова, по-видимому, в большое смятение, и он мне протелеграфировал, что он меня уже давно ждет и совсем не понимает, почему я до сих пор не приехал. Тогда я сдал должность командующему армией генералу Каледину, которого заранее вытребовал в Ровно, и отправился к новому месту служения.
Прибыл я в Бердичев экстренным поездом 23 марта и был встречен там начальником штаба Клембовским и главным начальником снабжения фронта Мавриным.
Я сейчас же спросил у первого из них, когда и где я могу представиться генералу Иванову. Он мне ответил, что Иванов живет теперь в поезде главнокомандующего в своем вагоне и меня просит пожаловать к нему в 8 часов вечера. На мой вопрос, как обстоят дела на фронте армий, Клембовский мне доложил, что все обстоит благополучно и, кроме обыденной перестрелки, на фронте ничего не происходит, но получено известие, что командующий 9-й армией генерал Лечицкий опасно заболел воспалением легких и требуется назначить ему временного заместителя. Я указал из числа корпусных командиров 9-й армии на генерала Крымова, который, по моему мнению, наиболее соответствовал этому назначению; хотя он и не был старшим корпусным командиром, но я считал, что при назначениях на такие должности старшинство никакого значения не имеет. Я приказал поставить мой вагон рядом с вагоном Иванова, а сам поехал осмотреть мою квартиру и сделать визиты генералам Клембовскому и Маврину.
Вечером отправился я к Иванову, которого застал в полном отчаянии: он расплакался навзрыд и говорил, что никак не может понять, почему он смещен; я также не мог ему разъяснить этот вопрос, так как решительно ничего не знал. Про дела на фронте мы говорили мало; он мне только сказал, что, по его мнению, никаких наступательных операций мы делать не в состоянии и что единственная цель, которую мы можем себе поставить, это предохранить Юго-Западный край от дальнейшего нашествия противника. В этом я с ним в корне расходился, что и высказал ему, но его мнения упорно не критиковал, находя это излишним; в дальнейшем не он, а уже я имел власть решать образ действий войск Юго-Западного фронта, а потому я нашел излишним огорчать и без того морально расстроенного человека.
Засим мы пошли ужинать в вагон-столовую, где собрались состоявшие при Иванове лица, которые мне туг же представились. До меня уже доходили сведения, что они полагали, будто я их немедленно разгоню, поэтому я им объявил, что они все остаются на своих местах и я решительно никаких перемен делать пока не предполагаю. Ужин был очень печальный, все сидели как опущенные в воду, глядя на Иванова, который не мог удерживать своих слез. Он меня тут же спросил, может ли он еще несколько дней оставаться в штабе фронта; я ему ответил, что это только от него зависит, но что я должен вступить теперь же в исполнение моих обязанностей. В следующие два дня я познакомился с моими новыми сослуживцами по штабу фронта и управления при главном начальнике снабжения фронта, вошел в курс дела и затем уехал в Каменец-Подольск, чтобы попутно, перед встречей там царя, ознакомиться с положением дел 9-й армии и посетить какой-либо боевой участок фронта. Прибыв в Каменец-Подольск, я посетил генерала Лечицкого в разгаре его болезни, принял доклад его начальника штаба и поехал на следующий день на боевой участок 74-й пехотной дивизии. Эта дивизия была сформирована в Петербурге по преимуществу из швейцаров и дворников и осенью 1914 года в 3-й армии показала весьма плохие боевые свойства, причем Радко-Дмитриев принужден был сместить начальника дивизии и назначить нового. Мне интересно было посмотреть, какой вид имеет эта дивизия в настоящее время. Обошел я ее окопы, осмотрел части, находившиеся в резерве, и остался очень доволен ее состоянием.
На следующий день в Каменец-Подольске я встретил вечером царя, который, обойдя почетный караул, пригласил меня к себе в вагон и спросил, какое у меня вышло столкновение с Ивановым и какие разногласия выяснились в распоряжениях генерала Алексеева и графа Фредерикса по поводу смены генерала Иванова Я ответил, что у меня лично никаких столкновений и недоразумений с Ивановым нет и не было, а в чем заключается разногласие между распоряжениями генерала Алексеева и графа Фредерикса — мне неизвестно, так как я получил распоряжения только от генерала Алексеева, а от графа Фредерикса никаких сообщений или приказаний не получал, и мне кажется, что дела военного ведомства, тем более на фронте, графа Фредерикса не касаются. Затем царь спросил меня, имею ли я что-либо ему доложить. Я ему ответил, что имею доклад, и весьма серьезный, заключающийся в следующем: в штабе фронта я узнал, что мой предшественник категорически донес в Ставку, что войска Юго-Западного фронта не в состоянии наступать, а могут только обороняться. Я лично не согласен с этим мнением; напротив, я твердо убежден, что ныне вверенные мне армии после нескольких месяцев отдыха и подготовительной работы находятся во всех отношениях в отличном состоянии, обладают высоким боевым духом и к 1 мая будут готовы к наступлению, а потому я настоятельно прошу предоставления мне инициативы действий, конечно согласованно с остальными фронтами. Если же мнение, что Юго-Западный фронт не в состоянии наступать, превозможет и мое мнение не будет уважено, как главного ответственного лица в этом деле, то в таком случае мое пребывание на посту главнокомандующего не только бесполезно, но и вредно, и в этом случае прошу меня сменить.
Государя несколько передернуло, вероятно, вследствие столь резкого и категорического моего заявления, тогда как по свойству его характера он был более склонен к положениям нерешительным и неопределенным.
Никогда он не любил ставить точек над i и тем более не любил, чтобы ему преподносили заявления такого характера. Тем не менее он никакого неудовольствия не высказал, а предложил лишь повторить мое заявление на военном совете, который должен был состояться 1 апреля, причем сказал, что он ничего не имеет ни за, ни против и чтобы я на совете сговорился с его начальником штаба и другими главнокомандующими.
Не успел я выйти из вагона государя, как ко мне подошел камер-лакей с приглашением идти к министру двора, который желает меня видеть. Граф Фредерикс обнял меня, поцеловал, хотя я с ним никогда близок не был, и поздравил с новым назначением. Усадив меня, он начал меня уверять, что против меня решительно ничего не имеет, никакой интриги по поводу моего назначения не знает и что его телеграмма генерал-адъютанту Иванову совершенно не касалась его смены и моего назначения, до которых ему дела нет. Он заверял меня, что чрезвычайно обрадовался, что выбор пал на меня, так как было несколько кандидатов, и он будет стараться меня поддерживать; если же мне понадобится что-либо секретно доводить до сведения государя, то он вообще всегда будет к моим услугам. Я ему ответил, что за все ласковые слова я сердечно благодарю, но что по принципу, которым руководствовался всю свою жизнь, я никогда ничего не искал и лично для себя ничего не добивался, что буду исполнять свой долг так же, как и раньше, от всей души, но просить чего-либо ни в каком случае не буду. На этом наша беседа и закончилась; мы еще раз обнялись, и я ушел к себе в вагон. Так я, в сущности, и не узнал, какая интрига велась против моего назначения и кто ее вел.
На другое утро царь поехал осматривать недавно сформированную 3-ю Заамурскую пехотную дивизию и нашел ее в прекрасном состоянии. Как и в предыдущие разы, воодушевления у войск никакого не было. Ни фигурой, ни уменьем говорить царь не трогал солдатской души и не производил того впечатления, которое необходимо, чтобы поднять дух и сильно привлечь к себе сердца. Он делал, что мог, и обвинять его в данном случае никак нельзя, но благих результатов в смысле воодушевления он вызывать не мог. После осмотра этой дивизии мы направились дальше, ближе к противнику, и там состоялся смотр всего 11-го армейского корпуса, который находился в резерве. Смотр был произведен обычным порядком, ничего достопримечательного не произошло, за исключением разве того, что во время смотра был налет неприятельских самолетов, который им не удался, так как в предвидении их посещения, которое могло повести за собой большие жертвы при метании бомб в собранный вместе целый корпус, было размещено несколько зенитных батарей и наша флотилия самолетов. Когда неприятельские аппараты показались, наши зенитные батареи начали их усердно обстреливать и отогнали их.
В общем, имея в виду близость неприятельского фронта от Каменец-Подольска, частые налеты самолетов противника на Каменец-Подольск и невозможность полного обеспечения царского поезда от бросаемых ими бомб, я старался уговорить царя сократить свое пребывание в Каменец-Подольске, в чем меня поддержал и граф Фредерикс, но царь ни за что не соглашался изменить свой маршрут и уехал лишь после двухсуточного пребывания. В тот же вечер, часа два спустя после отхода императорского поезда, и я отправился прямо в Могилев на военный совет, который должен был состояться 1 апреля. Мой начальник штаба генерал Клембовский соединился со мной для этой поездки в Казатине, и мы безостановочно проехали в Могилев, куда и прибыли 1 апреля утром.
На военном совете под председательством самого императора присутствовали: главнокомандующий Северо-Западным фронтом генерал-адъютант Куропаткин со своим начальником штаба Сиверсом, главнокомандующий Западным фронтом Эверт, также со своим начальником штаба, я с генералом Клембовским, Иванов, военный министр Шуваев, полевой генерал-инспектор артиллерии великий князь Сергей Михайлович и начальник штаба Верховного главнокомандующего Алексеев.
Главный вопрос, который нужно было решить на этом совещании, состоял в выработке программы боевых действий на 1916 год. Генерал Алексеев доложил совещанию, что предрешено передать всю резервную тяжелую артиллерию и весь общий резерв, находящийся в распоряжении Верховного главнокомандующего, Западному фронту, который должен нанести свой главный удар в направлении на Вильно; некоторую часть тяжелой артиллерии и войск общего резерва предполагается передать Северо-Западному фронту, который своей ударной группой также должен наступать с северо-востока на Вильно, помогая этим выполнению задачи Западного фронта; что касается вверенного мне Юго-Западного фронта, то, как уже было признано, этот фронт к наступлению не способен, он должен держаться строго оборонительно и перейти в наступление лишь тогда, когда оба его северных соседа твердо обозначат свой успех и достаточно выдвинутся к западу. Затем слово было предоставлено генералу Куропаткину, который заявил, что на успех его фронта рассчитывать очень трудно и что, по его мнению, как это видно из предыдущих неудачных попыток к наступлению, прорыв фронта немцев совершенно невероятен, ибо их укрепленные полосы настолько развиты и сильно укреплены, что трудно предположить удачу; скорее, нужно полагать, мы понесем громадные безрезультатные потери. С этим Алексеев не соглашался. Однако он заявил, что, к сожалению, у нас не хватает в достаточном количестве тяжелых снарядов. На это военный министр заявил, а полевой генерал-инспектор добавил, что в данное время легкие снаряды они могут получить в громадном количестве, но что касается тяжелых, то отечественная военная промышленность их пока дать не может, из-за границы получить нам их также очень трудно, и определить время, когда улучшится дело снабжения тяжелыми снарядами, они не могут, во всяком случае — не этим летом. Затем было предоставлено слово Эверту. Он в свою очередь сказал, что всецело присоединяется к мнению Куропаткина, в успех не верит и полагает, что лучше было бы продолжать держаться оборонительного образа действий до тех пор, пока мы не будем обладать тяжелой артиллерией, по крайней мере в том же размере, как наш противник, и не будем получать тяжелых снарядов в изобилии.
После этого слово было предоставлено мне. Я заявил, что, несомненно, желательно иметь большее количество тяжелой артиллерии и тяжелых снарядов, необходимо также увеличить количество воздушных аппаратов, выключив устаревшие, износившиеся. Но и при настоящем положении дел в нашей армии, я твердо убежден, мы можем наступать. Не берусь говорить о других фронтах, ибо их не знаю, но Юго-Западный фронт, по моему убеждению, не только может, но и должен наступать, и полагаю, что у нас есть все шансы для успеха, в котором я лично убежден. На этом основании я не вижу причин стоять мне на месте и смотреть, как мои товарищи будут драться. Я считаю, что недостаток, которым мы страдали до сих пор, заключается в том, что мы не наваливаемся на врага сразу всеми фронтами, дабы лишить противника возможности пользоваться выгодами действий по внутренним операционным линиям, и потому, будучи значительно слабее нас количеством войск, он, пользуясь своей развитой сетью железных дорог, перебрасывает свои войска в то или иное место по желанию. В результате всегда оказывается, что на участке, который атакуется, он в назначенное время всегда сильнее нас и в техническом и в количественном отношении. Поэтому я настоятельно прошу разрешения и моим фронтом наступательно действовать одновременно с моими соседями; если бы, паче чаяния, я даже и не имел никакого успеха, то по меньшей мере не только задержал бы войска противника, но и привлек бы часть его резервов на себя и этим существенным образом облегчил бы задачу Эверта и Куропаткина.
На это генерал Алексеев мне ответил, что в принципе у него никаких возражений нет, но он считает долгом предупредить, что я ничего не получу вдобавок к имеющимся у меня войскам: ни артиллерии, ни большего числа снарядов, чем по сделанной им разверстке мне причитается. На это я в свою очередь ему ответил, что я ничего и не прошу, никаких особых побед не обещаю, буду довольствоваться тем, что у меня есть, но войска Юго-Западного фронта будут знать вместе со мной, что мы работаем на общую пользу и облегчаем работу наших боевых товарищей, давая им возможность сломить врага. На это никаких возражений не последовало, но Куропаткин и Эверт после моей речи несколько видоизменили свои заявления и сказали, что они наступать могут, но с оговоркой, что ручаться за успех нельзя. Очевидно, что такого ручательства ни один военачальник никогда и нигде дать не мог, хотя бы он был тысячу раз Наполеон. Было условлено, что на всех фронтах мы должны быть готовы к половине мая. Остальные разбиравшиеся на военном совете вопросы были по преимуществу хозяйственные и в настоящее время утратили свой интерес, поэтому я о них упоминать не буду. Председательствующий Верховный главнокомандующий прениями не руководил, а обязанности эти исполнял Алексеев. Царь же все время сидел молча, не высказывал никаких мнений, а по предложению Алексеева своим авторитетом утверждал то, что решалось прениями военного совета, и выводы, которые делал Алексеев.
Мы завтракали и обедали за высочайшим столом в промежутках между заседаниями. По окончании военного совета, когда мы направились к обеду, ко мне подошел один из заседавших старших генералов и выразил свое удивление, что я как бы напрашиваюсь на боевые действия; между прочим, он сказал: «Вы только что назначены главнокомандующим, и вам притом выпадает счастье в наступление не переходить, а следовательно, и не рисковать вашей боевой репутацией, которая теперь стоит высоко. Что вам за охота подвергаться крупным неприятностям, может быть, смене с должности и потере того военного ореола, который вам удалось заслужить до настоящего времени? Я бы на вашем месте всеми силами открещивался от каких бы то пи было наступательных операций, которые при настоящем положении дела могут вам лишь сломать шею, а личной пользы вам не принесут». На это я ответил этому генералу, что я о своей личной пользе не мечтаю и решительно ничего для себя не ищу, нисколько не обижусь, если меня за негодность отчислят, но считаю долгом совести и чести действовать на пользу России. По-видимому, этот генерал отошел от меня очень недовольный этим ответом, пожимая плечами и смотря на меня с сожалением.
В этот же вечер я уехал обратно в Бердичев. Тотчас по приезде я вытребовал всех командующих армиями с их начальниками штабов в Волочиск, как наиболее центральный для них пункт, чтобы сговориться относительно плана действий на это лето и отдать им нужные приказания. Вообще, в принципе я враг всяких военных советов и не для того собрал командующих армиями, чтобы спросить их мнения о возможности или плане военных действий, но считал весьма важным перед решающими событиями собирать своих ближайших сотрудников для того, чтобы лично изложить им мои решения и в случае каких-либо недоразумений разъяснить те пункты, которые им не ясны или различно понимаются. При таких условиях есть возможность соседям сговориться друг с другом и в дальнейшем избегнуть шероховатостей и споров, которые иначе неизбежны.
Собраны были мною на совещание: командующий 8-й армией Каледин, командующий 11-й армией Сахаров, командующий 7-й армией Щербачев и временный командующий 9-й армией Крымов, так как Лечицкий был еще болен. Я изложил им положение дела и мое решение — непременно в мае перейти в наступление. На это Щербачев доложил, что я его лично давно знаю и, наверное, не сомневаюсь в его стремлении неизменно действовать активно, но что в настоящее время он считает наступательные действия очень рискованными и нежелательными. На это я ему ответил, что я собрал командующих армиями не для того, чтобы решать вопрос об активном или пассивном образе действий армий фронта, а для того, чтобы лично отдать приказания о подготовке к атаке противника, которая бесповоротно мною решена. Необходимо, следовательно, в данном случае обсудить вопрос, какая роль выпадет на долю каждой из армий при предстоящем наступлении, и строго согласовать их действия. Я при этом предупредил, что никаких колебаний и отговорок ни от кого ни в каком случае принимать не буду.
Затем я изложил мой взгляд на порядок атаки противника, который расходился довольно крупно с тем порядком, который, по примеру немцев, считался к этому моменту войны исключительно пригодным для прорыва фронта противника в позиционной войне. До начала этой войны считалось аксиомой, что атаковать противника с фронта (в полевой войне) почти невозможно ввиду силы огня; во всяком случае, такие лобовые удары требовали больших жертв и должны были дать мало результатов; решения боя следовало искать на флангах, сковав войска противника на фронте огнем, резервы же сосредоточивать на одном или на обоих флангах, в зависимости от обстановки, для производства атаки, а в случае полной удачи — и окружения. Однако, когда полевая война вскоре перешла в позиционную и благодаря миллионным армиям вылилась в сплошной фронт от моря до моря, только что описанный образ действий оказался невозможным. И вот немцы под названием фаланги и разными другими наименованиями применили такой образ действий, при котором атака в лоб должна была иметь успех, так как флангов ни у одного из противников не было ввиду сплошного фронта. Собиралась огромная артиллерийская группа разных калибров, до 12-дюймовых включительно, и сильные пехотные резервы, которые сосредоточивались на избранном для прорыва противника боевом участке. Подготовка такой атаки должна была начаться сильнейшим артиллерийским огнем, который должен был смести проволочные заграждения и уничтожить неприятельские укрепления с их защитниками. И затем атака пехоты, поддержанная артиллерийским огнем, должна была неизменно увенчаться успехом, то есть прорывом фронта и в дальнейшем расширением прорванного фронта. Очевидно, противник должен был уходить с тех участков, которые не были атакованы.
Такой способ действий в 1915 году дал полную победу австро-германцам над русской армией, отбросив нас далеко на восток; противник занял чуть ли не четверть Европейской России, захватил около двух миллионов пленных, несколько крепостей и неисчислимый военный материал разного рода. Для объяснения такого удивительного успеха этого способа действий следует, по справедливости, присовокупить, что в 1915 году наши укрепленные полосы были устроены ниже всякой критики, никаких целесообразных мер противодействия мы не предпринимали, тяжелой артиллерии у нас почти совсем не было и, наконец, самое главное — у нас вообще не было никаких огнестрельных припасов. В тех же случаях, когда принимались соответствующие меры для противодействия, прорыв фронта вышеозначенным способом успеха не имел. Дело в том, что такая подготовка к прорыву фронта при наличии воздушной разведки секретной быть не может: подвоз артиллерии, громадного количества огнестрельных припасов, значительное сосредоточение войск, интендантских складов и т. д. требуют много времени, и скрыть все это мудрено. Самая подготовка к атаке, то есть расстановка артиллерии различных калибров, причем каждая артиллерийская группа получает свою особую задачу, а каждый род артиллерии свое особое назначение, устройство телефонной связи и наблюдательных пунктов, устройство плацдарма, чтобы довести свои передовые окопы до окопов противника на 200–300 шагов, на что требуются громадные земляные работы, — все это требует не менее шести-восьми недель времени. Следовательно, противник, безошибочно определив выбранный пункт удара, имеет полную возможность собрать. к назначенному месту и свою артиллерию и свои резервы и принять все меры к тому, чтобы отразить удар.
На Западном и Северо-Западном фронтах были выбраны на каждом по одному участку фронта, куда уже свозились все необходимые материалы для атаки по вышеизложенному способу, и на военном совете 1 апреля генерал Алексеев предупреждал главнокомандующих, в особенности Эверта, о необходимости избежать преждевременного сосредоточения резервов, дабы не открыть противнику своих карт. На это вполне резонно Эверт ответил, что скрыть место нашего удара все равно невозможно, так как земляные работы для подготовки плацдарма раскроют противнику наши намерения.
Во избежание вышеуказанного важного неудобства я приказал не в одной, а во всех армиях вверенного мне фронта подготовить по одному ударному участку, а кроме того, в некоторых корпусах выбрать каждому свой ударный участок и на всех этих участках немедленно начать земляные работы для сближения с противником. Благодаря этому на вверенном мне фронте противник увидит такие земляные работы в 20–30 местах, и даже перебежчики не будут в состоянии сообщать противнику ничего иного, как то, что на данном участке подготовляется атака. Таким образом, противник лишен возможности стягивать к одному месту все свои силы и не может знать, где будет ему наноситься главный удар. У меня было решено нанести главный удар в 8-й армии, направлением на Луцк, куда я и направлял мои главные резервы и артиллерию, но и остальные армии должны были наносить каждая хотя и второстепенные, но сильные удары, и, наконец, каждый корпус на какой-либо части своего боевого участка сосредоточивал возможно большую часть своей артиллерии и резервов, дабы сильнейшим образом притягивать на себя внимание противостоящих ему войск и прикрепить их к своему участку фронта.
Правда, этот способ действий имел, очевидно, свою обратную сторону, заключавшуюся в том, что на месте главного удара я не мог сосредоточить того количества войск и артиллерии, которое там было бы, если вместо многочисленных ударных групп у меня была бы только одна. Каждый образ действий имеет свою обратную сторону, и я считал, что нужно выбрать тот план действий, который наиболее выгоден для данного случая, а не подражать слепо немцам. Припомним, что 1 апреля на военном совете в Ставке мне лишь условно было разрешено выбирать момент и атаковать врага, с тем чтобы помочь Эверту успешно нанести главный удар и не допустить посылки противником подкреплений с моего фронта. В то время, когда я излагал мои соображения, мои сотрудники, видя, сколь я уклоняюсь от общепринятого шаблона атаки, очень смущались, а Каледин доложил, что он сомневается в успехе дела и думает, что едва ли его главный удар приведет к желательным результатам, тем более что на Луцком направлении неприятель в особенности основательно укрепился.
На это я ему ответил, что 8-ю армию я только что ему сдал, неприятельский фронт там знаю лучше него и что я выбрал для главного удара именно это направление и подготовлял там все предварительные работы, потому что мы главным образом должны помочь Западному фронту, на который возлагаются наибольшие надежды, а следовательно, 8-я армия, ближайшая к Западному фронту, своим наступлением скорее всего поможет Эверту. Кроме того, движением 24-го корпуса вдоль полотна железной дороги на Маневичи — Ковель, а ударной группой от Луцка на Ковель же при настоящем расположении войск противник легко будет захвачен в клещи, и тогда все войска противника, расположенные у Пинска и севернее, должны будут без боя очистить эти места. Если же генерал Каледин все-таки не надеется на успех, то я, хотя и скрепя сердце, перенесу главный удар южнее, передав его Сахарову на львовском направлении. Каледин сконфузился, — очевидно, отказаться от главной роли в этом наступлении он не желал. Потом он мне сказал, что отказывался от нанесения главного удара лишь для того, чтобы снять с себя ответственность на случай неудачи, но что он приложит все силы для выполнения возложенной на него задачи. Я тут же разъяснил ему, что легко может статься, что на месте главного удара мы можем получить небольшой успех или совсем его не иметь, но так как неприятель атакуется нами во многих местах, то большой успех может оказаться там, где мы в настоящее время его не ожидаем, и тогда я направлю свои резервы туда, где нужно будет развить наибольший успех. Это заявление очень подкрепило и успокоило остальных командующих армиями. Сроком окончательной подготовки я назначил 10 мая и объявил, что начиная с 10 мая, по моему телеграфному извещению, спустя неделю нужно быть совершенно готовым к решительному переходу в наступление. Никаких отговорок и просьб о продлении срока я ни в коем случае принимать не буду и прошу это твердо помнить. На этом наше совещание и закончилось.
В конце апреля я получил извещение от Алексеева, Что государь с супругой и дочерьми едет в Одессу для смотра Сербской дивизии, формировавшейся из пленных австрийских славян, и что мне приказано его встретить в Бендерах 30 апреля. Сначала я поехал прямо в Одессу, дабы предварительно ознакомиться с Сербской дивизией и с положением дел в этом округе, так как этот округ был мне совершенно неизвестен, тогда как Киевский я близко знал. В Сербской дивизии было, насколько мне помнится, около 10 тысяч человек с большим количеством бывших австрийских офицеров. Выглядела она хорошо и жаловалась лишь на отсутствие артиллерии, которая для нее формировалась, но не была еще готова. На следующий день я встретил царя в Бендерах на дебаркадере; он произвел там смотр формировавшейся пехотной дивизии. Смотр прошел по общему шаблону, и в тот же день царь поехал дальше, в Одессу.
Так как я там должен был присутствовать при встрече, а мой вагон не мог быть прицеплен к царскому поезду, то генерал Воейков пригласил меня к себе в купе. Царя сопровождали, как и во все предыдущие поездки, дворцовый комендант Воейков, исполнявший обязанности гофмаршала князь Долгорукий, начальник конвоя граф Граббе и флаг-капитан адмирал Нилов. Все эти лица ничего общего с войной не имели, и меня как прежде, так и теперь удивляло, во-первых, что царь в качестве Верховного главнокомандующего уезжает на продолжительное время из Ставки и, очевидно, в это время исполнять свои обязанности верховного вождя не может, а во-вторых, если уж он уезжал, то хотя бы для декорума ему нужно было брать с собой какого-либо толкового офицера Генерального штаба в качестве докладчика по военным делам. Связь же царя с фронтом состояла лишь в том, что он ежедневно по вечерам получал сводку сведений о происшествиях на фронте. Думаю, что эта связь чересчур малая; она с очевидностью указывала, что царь фронтом интересуется мало и ни в какой мере не принимает участия в исполнении столь сложных обязанностей, возложенных по закону на Верховного главнокомандующего. В действительности царю в Ставке было скучно. Ежедневно в 11 часов утра он принимал доклад начальника штаба и генерал-квартирмейстера о положении на фронте, и, в сущности, на этом заканчивалось его фиктивное управление войсками. Все остальное время дня ему делать было нечего, и поэтому, мне кажется, он старался все время разъезжать то в Царское Село, то на фронт, то в разные места России, без какой-либо определенной цели, а лишь бы убить время. В данном случае, как мне объяснили его приближенные, эта поездка в Одессу и Севастополь была им предпринята главным образом для того, чтобы развлечь свое семейство, которому надоело сидеть на одном месте, в Царском Селе.
В течение этих нескольких дней я неизменно завтракал за царским столам, между двумя великими княжнами, но царица к высочайшему столу не выходила, а ела отдельно, и на второй день пребывания в Одессе я был приглашен к ней в ее вагон. Она встретила меня довольно холодно и спросила, готов ли я к переходу в наступление. Я ответил, что еще не вполне, но рассчитываю, что мы в этом году разобьем врага. На это она ничего не ответила, а спросила, когда думаю я перейти в наступление. Я доложил, что мне это пока неизвестно, что это зависит от обстановки, которая быстро меняется, и что такие сведения настолько секретны, что я их и сам не помню. Она, помолчав немного, вручила мне образок св. Николая-чудотворца; последний ее вопрос был: приносят ли ее поезда-склады и поезда-бани какую- либо пользу на фронте? Я ей по совести ответил, что эти поезда приносят громадную пользу и что без этих складов раненые во многих случаях не могли бы быть своевременно перевязаны, а следовательно, и спасены от смерти. На этом аудиенция и закончилась. В общем, должен признать, что встретила она меня довольно сухо и еще суше со мной простилась. Это был последний раз, когда я ее видел.
Никогда не мог я понять, за что императрица меня так сильно не любила. Она ведь должна была видеть, как я неутомимо работал на пользу родины, следовательно, в то время во славу ее мужа и ее сына. Я был слишком далек от двора, так что никакого повода к личной антипатии подать не мог.
Странная вещь произошла с образком св. Николая, который она мне дала при этом последнем нашем свидании.
Эмалевое изображение лика святого немедленно же стерлось, и так основательно, что осталась лишь одна серебряная пластинка. Суеверные люди были поражены, а нашлись и такие, которые заподозрили нежелание святого участвовать в этом лицемерном благословении. Одно твердо знаю, что нелюбовь этой глубоко несчастной, роковой для нашей родины женщины я ничем сознательно не заслужил. А жена моя от всей души много помогала и старалась быть полезной ее благотворительным делам и складам на Юго-Западном фронте. Все это было поставлено на большую высоту благодаря многим сотрудникам моей жены, работавшим не покладая рук, и царице приходилось скрепя сердце посылать высочайшие благодарственные телеграммы.
Как тяжело все это нам вспоминать!
Смотр войск прошел благополучно, и никаких неприятных инцидентов не было, да нужно правду сказать, что по натуре своей царь был человек снисходительный и всегда старался благодарить. Из Одессы вся царская семья уехала в Севастополь, который мне подчинен не был; я же вернулся в штаб фронта.
Чтобы дать понятие о том, какая кропотливая и трудная работа требуется для подготовки атаки неприятельской укрепленной позиции современного типа, изложу тут вкратце, что армии Юго-Западного фронта должны были исполнить в течение восьми недель для того, чтобы успешно атаковать врага.
Уже заранее с помощью войсковой агентуры и воздушной разведки мы ознакомились с расположением противника и сооруженными им укрепленными позициями. Войсковая разведка и непрерывный захват пленных по всему фронту дали возможность точно установить, какие неприятельские части находились перед нами в боевой линии.
Выяснилось, что немцы сняли с нашего фронта несколько своих дивизий для переброски их на французский. В свою очередь австрийцы, надеясь на свои значительно укрепленные позиции, также перебросили несколько дивизий на итальянский фронт в расчете, что мы больше не способны к наступлению, они же в течение этого лета раздавят итальянскую армию. Действительно, в начале мая на итальянском фронте они перешли в решительное успешное наступление. По совокупности собранных нами сведений мы считали, что перед нами находятся австро-германцы силою в 450 тысяч винтовок и 30 тысяч сабель. Преимущество противника над нами состояло в том, что его артиллерия была более многочисленна по сравнению с нашей, в особенности тяжелой, и, кроме того, пулеметов у него было несравнимо больше, чем у нас. Агентурная разведка, кроме того, сообщила нам, что в тылу у неприятеля резервов почти нет и что подкреплений к нему не подвозится. В свою очередь воздушная разведка с самолетов сфотографировала все неприятельские укрепленные позиции как ее боевой линии, так и лежавшие в тылу. Эти фотографические снимки с помощью проекционного фонаря разворачивались в план и помещались на карте; фотографическим путем эти карты легко доводились до желаемого масштаба. Мною было приказано во всех армиях иметь планы в 250 саженей в дюйме с точным нанесением на них всех неприятельских позиций. Все офицеры и начальствующие лица из нижних чинов снабжались подобными планами своего участка.
На основании всей этой работы выяснилось, что неприятельские позиции были чрезвычайно сильно укреплены. По всему фронту они состояли не менее как из трех укрепленных полос в расстоянии друг от друга приблизительно от 3 до 5 верст. В свою очередь, каждая полоса состояла из нескольких линий окопов, не менее трех, и в расстоянии одна от другой от 150 до 300 шагов, в зависимости от конфигурации местности. Все окопы были полного профиля, выше роста человека, и везде в изобилии были построены тяжелые блиндажи, убежища, лисьи поры, гнезда для пулеметов, бойницы, козырьки и целая система многочисленных ходов сообщения для связи с тылом. Окопы были сооружены с таким расчетом, чтобы подступы к позициям обстреливались перекрестным ружейным и пулеметным огнем.
Убежища были устроены чрезвычайно основательно, глубоко врыты в землю и укрывали людей не только от легких, но и от тяжелых артиллерийских снарядов. Они имели сверху два ряда бревен, присыпанных слоем земли толщиной около 2 аршин; в некоторых местах вместо бревен были железобетонные сооружения надлежащей толщины; в некоторых местах они устраивались даже с комфортом: стены и потолки обиты были досками; полы были или дощатые или глинобитные, а величина таких комнат была шагов двенадцать в длину и шесть в ширину; в окна, там, где это оказывалось возможным, были вставлены застекленные рамы. В таких помещениях ставилась складная железная печь и были устроены нары и полки. Для начальствующих лиц устраивались помещения из трех-четырех комнат с кухней, с крашеными полами и со стенами, оклеенными обоями. Каждая укрепленная полоса позиций противника была основательно оплетена колючей проволокой: перед фронтом тянулась проволочная сеть, состоявшая из 19–21 ряда кольев. Местами таких полос было несколько, в расстоянии 20–50 шагов одна от другой; некоторые ряды были оплетены столь толстой стальной проволокой, что ее нельзя было резать ножницами; на некоторых боевых участках через проволоку заграждений пропускался сильный переменный электрический ток высокого напряжения, в некоторых местах подвешены были бомбы, а во многих местах впереди первой полосы были заложены самовзрывающиеся фугасы. Вообще эта работа австро-германцев по созданию укреплений была основательная и произведена непрерывным трудом войск в течение более девяти месяцев.
Очевидно, что осуществление прорыва таких сильных, столь основательно укрепленных позиций противника было почти невероятным. Все это мне было хорошо известно, и я отлично понимал всю затруднительность атаки, которую ниже вкратце изложу. Но я был уверен, что все же есть возможность вполне успешно прорывать фронт и при таких тяжелых условиях. Уже выше я говорил об одном из главных условий успеха атаки — об элементе внезапности, и для сего, как было выше сказано, мною было приказано подготовлять плацдармы для атаки не на одном каком-нибудь участке, а по всему фронту всех вверенных мне армий, дабы противник никак не мог догадаться, где будет он атакован, и не мог собрать сильную войсковую группу для противодействия. Всякому понятно, что самые укрепления, как бы они ни были сильны, без надлежащей живой силы отбить атаку не могут, и в ослаблении неприятельских сил на моем фронте главным образом заключалась моя надежда на успех.
Каждая армия, сообразно с имевшимися у нее средствами, должна была выбрать у себя подходящий участок для прорыва фронта неприятельской позиции. На основании общей разведки, по совокупности всех собранных данных, каждая армия наметила участки для прорыва и представила свои соображения об атаке на мое утверждение. Когда эти участки были мной окончательно утверждены и вполне точно были установлены места первых ударов, началась горячая работа по самой тщательной подготовке к атаке: в эти районы скрытно притягивались войска, предназначавшиеся для прорыва неприятельского фронта. Однако, для того чтобы противник не мог заблаговременно разгадать наши намерения, войска располагались в тылу за боевой линией, но их начальники разных степеней, имея у себя планы в 250 саженей в дюйме с подробным расположением противника, все время находились впереди и тщательно изучали районы, где им предстояло действовать, лично знакомились с первой линией неприятельских укреплений, изучали подступы к ним, выбирали артиллерийские позиции, устраивали наблюдательные пункты и т. д. Пехотные части еще задолго до атаки и, как было сказано, во многих местах начали сближение с противником окопными работами: по ночам они выдвигались ходами сообщений на 100–200 шагов вперед и устраивали окопы, обнося их рогатками с колючей проволокой. Таким путем на избранных участках наши окопы, постепенно сближаясь с противником, доводились до того, что отстояли от позиций австро-германцев всего на 200–300 шагов, в зависимости от местности. Для удобства атаки и скрытного расположения резервов на этих исходных для боя плацдармах строилось несколько параллельных рядов окопов, также соединенных между собой ходами сообщений.
Лишь за несколько дней до начала наступления незаметно ночью были введены в боевую линию войска, предназначенные для первоначальной атаки, и поставлена артиллерия, хорошо замаскированная, на избранные позиции, с которых она и произвела тщательную пристрелку по намеченным целям. Было обращено большое внимание на тесную и непрерывную связь пехоты с артиллерией. Во время этой подготовки к наступлению, работа крайне тяжелой и кропотливой, лично я, а также командированные мною для этой цели мой начальник штаба генерал Клембовский и некоторые другие офицеры Генерального штаба и штаба фронта ездили для проверки работ и добытых сведений о противнике.
Должен добавить, что как в этом случае, так и ранее, почти с начала кампании при мне по инженерной части состоял известный военный инженер генерал Величко. Он во многом мне помогал и в данном случае помог войскам своими указаниями и советами. Во время неудачной японской войны на него много нападали за постройку несметного количества укрепленных позиций, которых даже и не пришлось защищать. Обвинение это — весьма странного свойства. Он строил там, где высшее начальство это ему указывало, и строил, несомненно, отлично, а что затем войска, по распоряжению того же начальства, их не защищали, а до боя бросали их — в этом, мне кажется, винить инженеров более чем странно, так как область командования их не касается./p>
В свою очередь командующие армиями и начальники всех степеней усердно проверяли и изучали всю производившуюся работу. Как я и наметил раньше, к 10 мая наша подготовка к атаке была в общих чертах закончена.
БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ АРМИЙ ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА
11 мая я получил телеграмму начальника штаба Верховного главнокомандующего, в которой он мне сообщал, что итальянские войска потерпели настолько сильное поражение, что итальянское высшее командование не надеется удержать противника на своем фронте и настоятельно просит нашего перехода в наступление, чтобы оттянуть часть сил с итальянского фронта к нашему; поэтому, по приказанию государя, он меня спрашивает, могу ли я перейти в наступление и когда. Я ему немедленно ответил, что армии вверенного мне фронта готовы и что, как я раньше говорил, они могут перейти в наступление неделю спустя после извещения. На этом основании доношу, что мною отдан приказ 19 мая перейти в наступление всеми армиями, но при одном условии, на котором особенно настаиваю, чтобы и Западный фронт одновременно также двинулся вперед, дабы сковать войска, против него расположенные. Вслед за тем Алексеев пригласил меня для разговора по прямому проводу. Он мне передал, что просит меня начать атаку не 19 мая, а 22-го, так как Эверт может начать свое наступление лишь 1 июня. Я на это ответил, что и такой промежуток несколько велик, но с ним мириться можно при условии, что дальнейших откладываний уже не будет. На это Алексеев мне ответил, что он гарантирует мне, что дальнейших откладываний не будет. И тотчас же разослал телеграммами приказания командующим армиями, что начало атаки должно быть 22 мая на рассвете, а не 19-го.
21 мая вечером Алексеев опять пригласил меня к прямому проводу. Он мне передал, что несколько сомневается в успехе моих активных действий вследствие необычного способа, которым я его предпринимаю, то есть атаки противника одновременно во многих местах вместо одного удара всеми собранными силами и всей артиллерией, которая у меня распределена по армиям. Алексеев высказал мнение, не лучше ли будет отложить мою атаку на несколько дней для того, чтобы устроить лишь один ударный участок, как это уже выработано практикой настоящей войны. Подобного изменения плана действий желает сам царь, и от его имени он и предлагает мне это видоизменение. На это я ему возразил, что изменять мой план атаки я наотрез отказываюсь и в таком случае прошу меня сменить. Откладывать вторично день и час наступления не нахожу возможным, ибо все войска стоят в исходном положении для атаки, и, пока мои распоряжения об отмене дойдут до фронта, артиллерийская подготовка начнется. Войска при частых отменах приказаний неизбежно теряют доверие к своим вождям, а потому настоятельно прошу меня сменить. Алексеев мне ответил, что Верховный уже лег спать и будить его ему неудобно, и он просит меня подумать. Я настолько разозлился, что резко ответил: «Сон Верховного меня не касается, и больше думать мне не о чем. Прошу сейчас ответа». На это генерал Алексеев сказал: «Ну, бог с вами, делайте как знаете, а я о нашем разговоре доложу государю императору завтра». На этом наш разговор и кончился. Должен пояснить, что все подобные мешавшие делу переговоры по телеграфу, письмами и т. п., которых я тут не привожу, мне сильно надоели и раздражали меня. Я очень хорошо знал, что в случае моей уступчивости в вопросе об организации одного удара этот удар несомненно окончится неудачей, так как противник непременно его обнаружит и сосредоточит сильные резервы для контрудара, как во всех предыдущих случаях. Конечно, царь был тут ни при чем, а это была система Ставки с Алексеевым во главе — делать шаг вперед, а потом сейчас же шаг назад.
Чтобы дальнейшее изложение боевых действий армий Юго-Западного фронта в 1916 году было более понятным, мне необходимо теперь объяснить читателю, какие цели я преследовал и выполнения какого плана действий я добивался.
Естественно, что вначале, сейчас же после военного совета в Ставке 1 апреля, когда мне, как бы из милости, разрешено было атаковать врага вместе с моими северными боевыми товарищами и я был предупрежден, что мне не дадут ни войск, ни артиллерии сверх имеющихся у меня, мои намерения состояли в том, чтобы настолько сильно сковать противостоящие мне части противника, чтобы он не только не мог ничего перекидывать с моего фронта на другие фронты, но наоборот — принужден был посылать кое-что и на мой фронт. В это время я думал лишь о том, чтобы наилучшим образом помочь Эверту, на которого возлагались наибольшие надежды и которого поэтому и снабдили всеми средствами, имевшимися в распоряжении Ставки. По этим соображениям 8-я армия, как ближайший сосед Западного фронта, была назначена производить главный удар Юзфронта на Луцк — Ковель. Затем я придавал большое значение успеху 9-й армии, соседу Румынии, которая колебалась, на чью сторону стать. Что же касается 7-й и 11-й армий, то я им придавал значение второстепенное. Сообразно с этим и были мною распределены мои резервы и технические средства. Дальше в этот момент я не заглядывал, ибо будущее было от меня скрыто.
11 мая, при получении первой телеграммы Алексеева о необходимости немедленно помочь Италии и с запросом, могу ли я перейти сейчас в наступление, решение военного совета от 1 апреля оставалось в силе; изменилось лишь то, что Юзфронт начал наступление раньше других и тем притягивал на себя силы противника в первую голову. Даже в испрошенном мною подкреплении одним корпусом мне было наотрез отказано. В июне, когда обнаружились крупные размеры успеха Юзфронта, в общественном мнении начали считать Юзфронт как будто бы главным, но войска и технические средства оставались на Западном фронте, от которого Ставка все еще ждала, что он оправдает свое назначение. Но Эверт был тверд в своей линии поведения, и тогда Ставка, чтобы отчасти успокоить мое возмущение, стала перекидывать войска сначала с Северо-Западного фронта, а затем и с Западного. Ввиду слабой провозоспособности наших железных дорог, которая была мне достаточно известна, я просил не о перекидке войск, а о том, чтобы разбудить Эверта и Куропаткина, — не потому, что я хотел усиления, а потому что знал, что, пока мы раскачиваемся и подвезем один корпус, немцы успеют перевезти три или четыре корпуса. Странно, что Ставка, правильно считавшая, что лучшая и быстрейшая помощь Италии состояла в моей атаке, а не в посылке войск в Италию, когда дело касалось излюбленных ею Эверта и Куропаткина, пасовала перед ними, занималась лишь перекидками, притом, конечно, в недостаточных размерах, несвоевременно и не туда, куда я просил, и удивлялась, что я сержусь. А сердиться я имел право, ибо легко мог предвидеть, что при таком образе действий мой фронт будет скоро остановлен сильными подкреплениями, спешно свозившимися к противнику со всех фронтов, и в конце концов меня же будут упрекать в том, что Юзфронт не сумел получить стратегических результатов, а одержал только тактический успех, который имел, конечно, только второстепенное значение.
Вспомним, однако, опять-таки военный совет 1 апреля и его решения и спросим: когда и кем было решено изменить цели, назначенные фронтам? А затем спросим: если эти цели были изменены, то каковы они были? Должен откровенно сознаться, что мне они были неизвестны, а знал я только, что за все время боев 1916 года Ставка неотступно от меня требовала во что бы то ни стало взять Ковель, и все перевозки направлялись на Ровно, то есть опять-таки к Ковелю, что в конечном результате указывало на желание помочь и толкнуть Западный фронт, то есть Эверта. Иначе говоря, цель оставалась та же. А общие цели ставил ведь Алексеев, а не я.
Я не спорю, что я мог бы, при тогдашнем составе Ставки, добиться другой цели для действий, например наступления на Львов, но для этого требовалась колоссальная перегруппировка войск, которая заняла бы много времени, и вражеские силы, сосредоточенные у Ковеля, конечно, прекрасно успели бы в свою очередь принять меры против этого предприятия. Дело сводилось, в сущности, к уничтожению живой силы врага, и я рассчитывал, что разобью их у Ковеля, а затем руки будут развязаны, и, куда захочу, туда и пойду. Я чувствую за собой другую вину: мне следовало не соглашаться на назначение Каледина командующим 8-й армией, а настоять на своем выборе Клембовского, и нужно было тотчас же сменить Гилленшмидта с должности командира кавалерийского корпуса. Есть большая вероятность, что при таком изменении Ковель был бы взят сразу, в начале Ковельской операции. Но теперь раскаяние бесполезно.
С рассветом 22 мая на назначенных участках начался сильный артиллерийский огонь по всему Юго-Западному фронту. Главной задержкой для наступления пехоты справедливо считались проволочные заграждения вследствие их прочности и многочисленности, поэтому требовалось огнем легкой артиллерии проделать многочисленные проходы в этих заграждениях. На тяжелую артиллерию и гаубицы возлагалась задача уничтожения окопов первой укрепленной полосы, и, наконец, часть артиллерии предназначалась для подавления артиллерийского огня противника. По достижении одной задачи та часть артиллерии, которая ее выполнила, должна была переносить свой огонь на другие цели, которые по ходу дела считались наиболее неотложными, всемерно помогая пехоте продвигаться вперед. Вообще же огонь артиллерии имеет громаднейшее значение в успехе атаки, артиллерия начинает атаку и после ее надлежащей подготовки, то есть после того, как сделано достаточное количество проходов в проволочных заграждениях и уничтожены укрепления противника, его убежища и пулеметные гнезда, должна сопровождать атаку пехоты, препятствуя своим заградительным огнем подходу неприятельских резервов. Роль начальника артиллерии, как из этого видно, имеет громадное значение, и он, как капельмейстер в оркестре, должен дирижировать этим огнем, для чего телефонная связь между ним и артиллерийскими группами должна быть чрезвычайно прочно устроена, дабы она не могла быть прервана во время боя.
Должен признать, что везде наша артиллерийская атака увенчалась полным успехом. В большинстве случаев проходы были сделаны в достаточном количестве и основательно, а первая укрепленная полоса совершенно сметалась и вместе со своими защитниками обращалась в груду обломков и растерзанных тел. Тут ясно обнаружилась обратная сторона медали: многие убежища разрушены не были, но сидевшие там части гарнизона должны были класть оружие и сдаваться в плен, потому что стоило хоть одному гренадеру с бомбой в руках стать у выхода, как спасения уже не было, ибо в случае отказа от сдачи внутрь убежища металась граната, и спрятавшиеся неизбежно погибали без пользы для дела; своевременно же вылезть из убежищ чрезвычайно трудно и угадать время невозможно. Таким образом, вполне понятно то количество пленных, которое неизменно попадало к нам в руки. Я не буду, как и раньше, подробно описывать шаг за шагом боевые действия этого достопамятного периода наступления вверенных мне армий; скажу лишь, что к полудню 24 мая было нами взято в плен 900 офицеров, свыше 40 000 нижних чинов, 77 орудий, 134 пулемета и 49 бомбометов; к 27 мая нами уже было взято 1240 офицеров, свыше 71 000 нижних чинов и захвачено 94 орудия, 179 пулеметов, 53 бомбомета и миномета и громадное количество всякой другой военной добычи.
Но в это же время у меня снова состоялся довольно неприятный разговор с Алексеевым. Он меня опять вызвал к телеграфному аппарату, чтобы сообщить, что вследствие дурной погоды Эверт 1 июня атаковать не может, а переносит свой удар на 5 июня. Конечно, я был этим чрезвычайно недоволен, что, не стесняясь, и высказал, а затем спросил, могу ли я, по крайней мере, быть уверенным, что хоть 5 июня Эверт наверняка перейдет в наступление. Алексеев ответил мне, что в этом не может быть никакого сомнения, но 5 июня опять меня вызвал к телеграфному аппарату, чтобы сообщить иное: по новым данным, разведчики Эверта доносили, что против его ударного участка собраны громадные силы противника и многочисленная тяжелая артиллерия, а потому Эверт считает, что атака на подготовленном им месте ни в коем случае успешной быть не может, что, если ему прикажут, он атакует, но при убеждении, что он будет разбит; Эверт просит разрешения государя перенести пункт атаки к Барановичам, где, по его мнению, атака его может иметь успех, и, принимая во внимание все вышесказанное, государь император разрешил Эверту от атаки воздержаться и возможно скорее устроить новую ударную группу против Барановичей. На это я ответил, что случилось то, чего я боялся, то есть, что я буду брошен без поддержки соседей и что, таким образом, мои успехи ограничатся лишь тактической победой и некоторым продвижением вперед, что на судьбу войны никакого влияния иметь не будет. Неминуемо противник со всех сторон будет снимать свои войска и бросать их против меня, и, очевидно, что в конце концов я буду принужден остановиться. Считаю, что так воевать нельзя и что даже если бы атаки Эверта и Куропаткина не увенчались успехом, то самый факт их наступления значительными силами на более или менее продолжительное время сковал войска противника против них и не допустил бы посылку резервов с их фронтов против моих войск. Создание новой ударной группы против Барановичей ни к каким благим результатам повести не может, так как для успешной атаки укрепленной полосы требуется подготовка не менее шести недель, а за это время я понесу излишние потери и могу быть разбит. Я просил доложить государю мою настоятельную просьбу, чтобы был дан приказ Эверту атаковать теперь же и на издавна подготовленном участке. Алексеев мне возразил: «Изменить решения государя императора уже нельзя», — и добавил, что Эверту дан срок атаковать противника у Барановичей не позже 20 июня. «Зато, — сказал Алексеев, — мы вам пришлем в подкрепление два корпуса». Я закончил нашу беседу заявлением, что такая запоздалая атака мне не поможет, а Западный фронт опять потерпит неудачу по недостатку времени для подготовки удара и что если бы я вперед знал, что это так и будет, то наотрез отказался бы от атаки в одиночку. Что касается получения двух корпусов в подкрепление, то по нашим железным дорогам их будут везти бесконечно и нарушат подвоз продовольствия, пополнений и огнестрельных припасов моим армиям; кроме того, два корпуса, во всяком случае, не могут заменить атак Эверта и Куропаткина. За это время противник по своей железнодорожной сети и со своим многомиллионным подвижным составом по внутренним линиям может подвезти против меня целых десять корпусов, а не два.
Я хорошо понимал, что царь тут ни при чем, так как в военном деле его можно считать младенцем, и что весь вопрос состоит в том, что Алексеев, хотя отлично понимает, каково положение дел и преступность действий Эверта и Куропаткина, но, как бывший их подчиненный во время японской войны, всемерно старается прикрыть их бездействие и скрепя сердце соглашается с их представлениями.
Впоследствии командующий 4-й армией генерал Рагоза, бывший моим подчиненным в мирное и военное время, мне говорил, что на него была возложена задача атаки укрепленной позиции у Молодечно, что подготовка его была отличная и он был твердо убежден, что с теми средствами, которые были ему даны, он безусловно одержал бы победу, а потому как он, так и его войска были вне себя от огорчения, что атака, столь долго подготовлявшаяся, совершенно для них неожиданно отменена. Поэтому поводу он ездил объясняться с Эвертом. Тот ему сказал сначала, что такова воля государя императора; на это Рагоза заявил, что он не хочет нести ответственности за этот неудавшийся по неизвестной ему причине маневр и что просит разрешения подать докладную записку, где ясно изложит, что не было никакого основания для оставления этой атаки и что новая атака у Барановичей едва ли может быть успешной по недостатку подготовки; он просил Эверта представить эту докладную записку Верховному главнокомандующему. Эверт сначала согласился на эту просьбу и посадил Рагозу с его начальником штаба в своем кабинете для составления этой записки, но когда Рагоза эту записку написал и сам вручил её Эверту, то командующий заявил ему, что такую записку он никому не подаст и оставит у себя, и тут только сознался, что инициатива отказа от удара на выбранном у Молодечно участке исходила от него лично и что он сам испросил разрешения в Ставке перенести удар на другое место.
Все это меня чрезвычайно удивило, и я спросил Рагозу, как он сам объясняет себе такой ни с чем не сообразный поступок Эверта. Рагоза ответил мне, что, по его убеждению, громадные успехи, которые сразу одержали мои армии, необыкновенно волновали Эверта, и ему кажется, что Эверт боялся, как бы в случае неуспеха он как военачальник не скомпрометировал себя, и полагал, что в таком случае вернее воздержаться от боевых действий, дабы не восстановить против себя общественного мнения. Впоследствии до меня дошли сплетни, будто Эверт однажды сказал: «С какой стати я буду работать во славу Брусилова». Я, конечно, этому не верю, но привожу это как доказательство того, чего он, собственно, добился своими действиями в общественном мнении, о котором, по словам Рагозы, так заботился. Русской же армии он повредил бесповоротно. Как бы то ни было, я остался один. Чтобы покончить с вопросом о помощи, оказанной Западным фронтом, скажу лишь, что действительно в последних числах июня, по настоянию Алексеева, атака на Барановичи состоялась, но, как это нетрудно было предвидеть, войска понесли громадные потери при полной неудаче, и на этом закончилась боевая деятельность Западного фронта по содействию моему наступлению.
Будь другой Верховный главнокомандующий — за подобную нерешительность Эверт был бы немедленно смещен и соответствующим образом заменен, Куропаткин же ни в каком случае в действующей армии никакой должности не получил бы. Но при том режиме, который существовал в то время, в армии безнаказанность была полная, и оба продолжали оставаться излюбленными военачальниками Ставки.
Все это время я получал сотни поздравительных и благодарственных телеграмм от самых разнообразных кругов русских людей. Всё всколыхнулось. Крестьяне, рабочие, аристократия, духовенство, интеллигенция, учащаяся молодежь — все бесконечной телеграфной лентой хотели мне сказать, что они — русские люди и что сердца их бьются заодно с моей дорогой, окровавленной во имя родины, но победоносной армией. И это было мне поддержкой и великим утешением. Это были лучшие дни моей жизни, ибо я жил одной общей радостью со всей Россией. Насколько я помню, если не первой, то одной из первых была телеграмма с Кавказа от великого князя Николая Николаевича: «Поздравляю, целую, обнимаю, благословляю». Прочитав эту телеграмму, я был сильно взволнован, настолько она меня тронула. Он, наш бывший Верховный главнокомандующий, не находил слов, чтобы достаточно сильно выразить свою радость по поводу наших побед. Я объясняю себе свое волнение тем, что нервы мои были слишком измучены предыдущими переживаниями в столкновениях с людьми совсем иного склада. И только несколько дней спустя мне подали телеграмму от государя, в которой стояло всего несколько сухих и сдержанных слов благодарности.
Такие впечатления не изглаживаются, и я их унесу с собой в могилу.
Хотя и покинутые нашими боевыми товарищами, мы продолжали наше кровавое боевое шествие вперед, и к 10 июня нами было уже взято пленными 4013 офицеров и около 200 000 солдат; военной добычи было: 219 орудий, 644 пулемета, 196 бомбометов и минометов, 46 зарядных ящиков, 38 прожекторов, около 150 000 винтовок, много вагонов и бесчисленное количество разного другого военного материала. 11 июня в состав Юго-Западного фронта была передана 3-я армия генерала Леша, и я поставил задачей 3-й и 8-й армиям — разбить противостоящего противника и овладеть районом Городок — Маневичи; двум левофланговым армиям, 7-й и 9-й, — продолжать наступление на Галич и Станиславов и, наконец, центральной, 11-й армии, — удерживать занимаемое положение. С 11 по 21 июня войска Леша и Каледина, во исполнение данной им задачи, производили необходимые перегруппировки своих сил. В это же время 8-й армии Каледина пришлось отбивать многократные контратаки вновь подвезенных с других фронтов многочисленных германских полчищ, стремившихся прорвать фронт 8-й армии и отбросить ее к Луцку.
Собственно продвижение Каледина к Владимиру- Волынскому мною одобрено не было; произошло оно и не по его указанию, а вследствие горячности войск при преследовании разбитого противника; мною же ему многократно доказывалось, и сам я два раза к нему ездил для того, чтобы заставить его, держась к западу оборонительно, обратить все свое внимание и все свои силы для захвата Ковеля. Но странный был характер у Каледина: невзирая на полную успешность действий, он все время плакался, что находится в критическом положении и ожидает ежедневно, по совершенно неизвестным причинам, как армии, так и себе погибели; управление войсками было у него нерешительное, колеблющееся. В свою очередь, войска видели его мало, а когда видели, то замечали лишь угрюмого, молчаливого генерала, с ними не говорившего и их не благодарившего; его не любили и ему не доверяли.
То, что Каледин мог сделать в мае и в начале июня, когда в Ковеле никаких почти войск не было, во второй половине июня он уже сделать был не в состоянии, а противник, вследствие бездействия моих соседей по фронту, успел подвезти многочисленные войска с наших Северного и Западного фронтов, а также с французского. Австрийцы же остановили свое наступление на Италию и перевезли на мой фронт все, что только могли, перейдя на итальянском к обороне. Таким образом, Италия была избавлена от нашествия врага; кроме того, уменьшился напор на Верден, так как и немцы принуждены были снять некоторое количество своих дивизий для переброски на мой фронт. В этом и была положительная сторона моего наступления.
Но это была работа для других, а не для нас. Если бы у нас был настоящий верховный вождь и все главнокомандующие действовали по его указу, то мои армии, не встречая достаточно сильного противодействия, настолько выдвинулись бы вперед и стратегическое положение врага было бы столь тяжелее, что даже без боя ему пришлось бы отходить к своим границам, и ход войны принял бы совершенно другой оборот, а ее конец значительно бы ускорился. Теперь же приходилось бороться в одиночку с постепенно усиливающимся противником. Мне потихоньку посылали подкрепления с бездействующих фронтов, но и противник не зевал, и так как он пользовался возможностью более быстрой переброски войск, то количество их возрастало в значительно большей прогрессии, нежели у меня, и численностью своей, невзирая на громадные потери пленными, убитыми и ранеными, противник стал значительно превышать силы моего фронта.
21 июня армии генерала Леша и Каледина перешли опять в решительное наступление и к 1 июля утвердились на реке Стоход, перекинув во многих местах свои авангарды на левый берег реки. Для нас имело большое значение то, что немцы и австрийцы, задерживая нас на ковельском и владимиро-волынском направлениях, стали образовывать сильную группу в районе станции Маневичи для удара в правый фланг Каледина. Моим ударом в этом направлении указанными двумя армиями я предупредил намерение противника и не только свел к нулю маневренное значение ковель-маневичской фланговой позиции, но и окончательно упрочил свое положение на Волыни. В это время войскам Сахарова, в особенности его правому флангу, приходилось очень тяжело, так как на него было произведено несколько настойчивых атак австро-германцев, но он отбил их все и сохранил занимаемые им позиции. Я очень оценил этот успех, так как все свои резервы, естественно, направлял на ударные участки, Сахарову же с данной ему оборонительной задачей приходилось действовать, имея сравнительно небольшое количество войск. 9-я армия Лечицкого за то же время овладела районом Делатыня.
К 1 июля 3-я армия и правый фланг 8-й армии стояли на Стоходе, 7-я армия продвинулась к западу от линии Езержаны — Порхов и 9-я армия заняла район Делатыня; в остальном положение наших армий приблизительно оставалось без изменения. С 1 по 15 июля 3-я и 8-я армии производили новую перегруппировку, подготовляясь к дальнейшему наступлению в направлении на Ковель и Владимир-Волынский. К этому времени прибыл также гвардейский отряд, состоявший из двух гвардейских корпусов всех родов войск и одного гвардейского кавалерийского корпуса. К этому отряду я присоединил два армейских корпуса, и он вошел в боевую линию между 3-й и 8-й армиями направлением на Ковель. Он получил наименование Особой армии.
В этот период Сахаров со своей 11-й армией нанес три сильных, хотя и коротких, удара противнику; в результате этих боев Сахаров продвинулся своим правым флангом и центром на запад, заняв линию Кошев — Звеняч — Мерва — Лишнюв, и захватил в плен 34 000 австро-германцев, 45 орудий и 71 пулемет. Как я уже имел случай сказать, действиям 11-й армии я придавал значение лишь постольку, поскольку нужно было заставить противника опасаться перехода в наступление и не снимать своих войск с фронта этой армии. Сама по себе эта армия была настолько слаба, что не могла предпринять ничего серьезного.
Войска 7-й и 9-й армий в это время также совершили перегруппировку для нанесения сильного удара вдоль реки Днестр, в направлении на Галич, но Лечицкий за тот же период значительно продвинулся к юго-западу от города Куты; к 10 июля обе эти армии должны были опять перейти в наступление, но вследствие сильных дождей, непрерывно ливших в течение нескольких дней, вынуждены были отложить наступление до 15 июля. Эта оттяжка была для нас чрезвычайно невыгодна по многим причинам, главным же образом потому, что неприятель успел отгадать наши намерения и стянуть свои резервы на угрожаемые участки, — следовательно, элемент внезапности пропал.
15 июля все мои армии перешли в дальнейшее наступление. 3-я и Особая армии встретили на ковельском направлении чрезвычайно упорное сопротивление немцев, успевших подвезти новые весьма значительные подкрепления и массу тяжелой артиллерии. Хотя наши войска сбили противника в районах Селец и Трыстень и захватили там свыше 8000 пленных и 40 орудий, несколько вытянувшись вперед, но дойти до Ковеля возможности не имели. Время для взятия Ковеля было уже окончательно упущено. В свою очередь 8-я армия нанесла сильный удар противнику в районе деревни Кошев, захватила тут свыше 9000 пленных и 46 орудий и также несколько выдвинулась вперед, но дойти до Владимира-Волынского не могла. В дальнейшем этим трем армиям пришлось, укрепляя свои новые позиции, отбивать несколько упорных контратак немцев, веденных громадными силами и с многочисленной тяжелой артиллерией. 9-я армия в этот период продвигала свой левый фланг вперед, нанося удар из района Радзивиллов в юго-западном направлении. 15 июля был взят с боя город Броды, а 22 и 23 июля было вновь нанесено сильное поражение противнику на реках Граберк и Серет, причем он потерял одними пленными свыше 8000 человек.
Наконец, стремительной атакой левого фланга 11-й армии совместно с правым флангом 7-й армии неприятель с громадными потерями был отброшен к западу, и к 31 июля была занята намеченная линия Лишнюв — Дубы — Звижень и западнее Зборов. Левый фланг 7-й армии совместно с правым флангом 9-й армии атаковал противника на реке Коропец в направлении на Монастержиску. Однако австро- германцы к этому пункту успели подвезти значительные резервы и оказали там упорное сопротивление. 27 июля атаку повторили, и на сей раз успешно: был нанесен сильный удар врагу, в результате которого он поспешно стал отходить. Боевой неприятельский участок против центра 7-й армии, который императором Вильгельмом, посетившим его, был признан недоступным, был, однако, брошен почти без боя, так как наши войска охватили его с северо-запада и юго-запада. В свою очередь 9-я армия в упорном бою 15 июля успела сбить противника на станиславовском направлении и продвинулась верст на 15, захватив при этом около 8000 пленных и 33 орудия. Неприятель отошел на заблаговременно приготовленную позицию. 25 июля Лечицкий ее атаковал и нанес врагу жестокое поражение. Во время подготовки атаки наша артиллерия весьма успешно стреляла химическими снарядами по батарее противника, которая прекратила огонь и бросила свои орудия. За этот день опять было взято свыше 8000 пленных, в том числе 3500 немцев, много орудий; так закончилась операция армий Юго-Западного фронта по овладению районом Тысменицы, Станиславов и Надворная.
В общем, с 22 мая по 30 июля вверенными мне армиями было взято всего 8255 офицеров, 370153 солдата, 496 орудий, 144 пулемета и 367 бомбометов и минометов, около 400 зарядных ящиков, около 100 прожекторов и громадное количество винтовок, патронов, снарядов и разной другой военной добычи. К этому времени закончилась операция армий Юго-Западного фронта по овладению зимней, чрезвычайно сильно укрепленной неприятельской позицией, считавшейся нашими врагами безусловно неприступной. На севере фронта нами была взята обратно значительная часть нашей территории, а центром и левым флангом вновь завоевана часть Восточной Галиции и вся Буковина. Непосредственным результатом этих удачных действий был выход Румынии из нейтрального положения и присоединение её к нам.
Эта неудачная для нашего противника операция была для него большим разочарованием: у австро-германцев было твердое убеждение, что их восточный фронт, старательно укреплявшийся в течение десяти и более месяцев, совершенно неуязвим, в доказательство его крепости была даже выставка в Вене, где показывали снимки важнейших укреплений. Эти неприступные твердыни, которые местами были закованы в железобетон, рухнули под сильными, неотразимыми ударами наших доблестных войск.
Что бы ни говорили, а нельзя не признать, что подготовка к этой операции была образцовая, для чего требовалось проявление полного напряжения сил начальников всех степеней. Все было продумано и все своевременно сделано. Эта операция доказывает также, что мнение, почему-то распространившееся в России, будто после неудач 1915 года русская армия уже развалилась — неправильно: в 1916 году она еще была крепка и, безусловно, боеспособна, ибо она разбила значительно сильнейшего врага и одержала такие успехи, которых до этого времени ни одна армия не имела.
К 1 августа для меня уже окончательно выяснилось, что помощи от соседей, в смысле их боевых действий, я не получу; одним же моим фронтом, какие бы мы успехи ни одержали, выиграть войну в этом году нельзя. Несколько большее или меньшее продвижение вперед для общего дела не представляло особого значения; продвинуться же настолько, чтобы это имело какое-либо серьезное стратегическое значение для других фронтов, я никоим образом рассчитывать не мог, ибо в августе, невзирая на громадные потери, понесенные противником, во всяком случае большие, чем наши, и на громадное количество пленных, нами взятых, войска противника перед моим фронтом значительно превысили мои силы, хотя мне и были подвезены подкрепления. Поэтому я продолжал бои на фронте уже не с прежней интенсивностью, стараясь возможно более сберегать людей, а лишь в той мере, которая оказывалась необходимой для сковывания возможно большего количества войск противника, косвенно помогая этим нашим союзникам — итальянцам и французам.
Одна из причин, не давших возможности овладеть Ковелем, помимо сильных подкреплений, подвезенных немцами, заключалась в том, что у них было громадное количество самолетов, которые летали эскадрильями в 20 и более аппаратов и совершенно не давали возможности нашим самолетам ни производить разведок, ни корректировать стрельбу тяжелой артиллерии, а о том, чтобы поднять привязные шары для наблюдений, и думать нельзя было. На все мои требования увеличить количество наших самолетов, для Особой и 3-й армий в особенности, я получал неизменный ответ, что самолеты ожидаются, что некоторое количество находится уже в Архангельске, но что пропускная способность железных дорог не допускает их перевозки в настоящее время и, в общем, мне не следует ожидать их прибытия в более или менее скором времени. Между тем наш воздушный флот был настолько слаб, что почти не имел возможности подниматься, и потому точное расположение неприятельской артиллерии мне было неизвестно, а корректировать стрельбу тяжелой артиллерии на ровной местности, покрытой густым лесом, было невозможно. Вследствие этого наша метко стреляющая артиллерия не могла проявить своих качеств и надлежащим образом подготовлять атаку пехоты и гасить огонь неприятельской артиллерии, которая к тому же превышала нашу количеством.
Другое неблагоприятное для наших успешных действий условие состояло в следующем. Прибывший на подкрепление моего правого фланга гвардейский отряд, великолепный по составу офицеров и солдат, очень самолюбивых и обладавших высоким боевым духом, терпел значительный урон без пользы для дела потому, что их высшие начальники не соответствовали своему назначению. Находясь долго в резерве, они отстали от своих армейских товарищей в технике управления войсками при современной боевой обстановке, и позиционная война, которая за это время выработала очень много своеобразных сноровок, им была неизвестна. Во время же самых боевых действий начать знакомиться со своим делом — поздно, тем более что противник был опытный. Сам командующий Особой армией генерал-адъютант Безобразов был человек честный, твердый, но ума ограниченного и невероятно упрямый. Его начальник штаба, граф Н.Н. Игнатьев, штабной службы совершенно не знал, о службе Генерального штаба понятия не имел, хотя в свое время окончил академию Генерального штаба с отличием. Начальник артиллерии армии герцог Мекленбург-Шверинский был человек очень хороший, но современное значение артиллерии знал очень неосновательно, тогда как артиллерийская работа была в высшей степени важная, и без искусного содействия артиллерии успеха быть не могло. Саперные работы, имеющие столь большое значение в позиционной войне, также производились неумело. Командир 1-го гвардейского корпуса великий князь Павел Александрович был благороднейший человек, лично безусловно храбрый, но в военном деле решительно ничего не понимал; командир 2-го гвардейского корпуса Раух, человек умный и знающий, обладал одним громадным для воина недостатком: его нервы совсем не выносили выстрелов, и, находясь в опасности, он терял присутствие духа и лишался возможности распоряжаться.
Я все это знал и писал об этом Алексееву, но и ему было очень трудно переменить такое невыгодное положение дела. По власти главнокомандующего фронтом я имел право смещать командующих армиями, корпусных командиров и все нижестоящее армейское начальство, но гвардия с её начальством были для меня недосягаемы. Царь лично их выбирал, назначал и сменял, и сразу добиться смены такого количества гвардейского начальства было невозможно. Во время моей секретной переписки по этому поводу частными письмами с Алексеевым на мой фронт приехал председатель Государственной думы Родзянко и спросил разрешения посетить фронт, именно — Особую армию. Уезжая обратно, он послал мне письмо, в котором сообщал, что вся гвардия вне себя от негодования, что ее возглавляют лица, не способные к ее управлению в такое ответственное время, что они им не верят и страшно огорчаются, что несут напрасные потери без пользы для их боевой славы и для России. Это письмо мне было на руку, я препроводил его при моем письме Алексееву с просьбой доложить царю, что такое положение дела больше нетерпимо и что я настоятельным образом прошу назначить в это избранное войско, хотя бы только на время войны, наилучшее начальство, уже отличившееся на войне и выказавшее свои способности. В конце концов все вышеперечисленные лица были сменены, и командующим этой армией был назначен Гурко, человек безусловно соответствовавший этому назначению, но, к сожалению, было уже поздно, да и не все смененные лица были заменены столь удачно.
Приблизительно в это же время был сформирован отдельный корпус для действия в Добрудже против болгар в помощь Румынии, которая сосредоточивала все свои войска для наступления в Трансильванию, а в Добрудже оставляла только одну свою дивизию. К сожалению, Алексеев, по моему мнению, недостаточно оценил значение нашей помощи в Добрудже. Туда следовало направить не один корпус из двух второочередных дивизий весьма слабого состава, а послать целую армию с хорошими войсками. Тогда, вероятно, выступление Румынии, оказавшееся столь неудачным, приняло бы совершенно другой оборот. Плохое состояние румынской армии начальнику штаба Верховного главнокомандующего должно было быть хорошо известно — для того и военная агентура существует, — но оказалось, что мы ничего не знали, и для нас было полным сюрпризом, что румыны никакого понятия не имели о современной войне.
Потребовали, чтобы я выбрал и назвал корпусного командира в направленный в Добруджу отдельный корпус. Затруднение выбора состояло в том, что недостаточно было избрать хорошего боевого генерала, но требовалось, чтобы он также был человеком ловким и умел не только ужиться с корпусом и румынским начальством, но и оказывать на них возможно большее влияние. Мною избран был генерал Зайончковский, который, как мне казалось, отвечал всем вышеперечисленным требованиям. Такое назначение очень расстроило этого генерала, и он начал усиленно от него отговариваться, ссылаясь на то, что с таким составом и качеством русских войск, которые ему назначены, он не будет в состоянии высоко держать знамя русской армии, что ему нужно не менее трех-четырех дивизий пехоты высокого качества, иначе он рискует осрамиться и, по совести, такой ответственности взять на себя не может. Я ему ответил, что этот корпус мне не подчинен как отдельный, назначение, количество и выбор этих войск от меня не зависят; я предложил Зайончковскому ехать в Ставку и там самому объясниться с Алексеевым, которому он непосредственно и подчинялся; изменить же мой выбор я отказался. С этим он и уехал в Могилев.
Каковы были его объяснения с Алексеевым, не знаю, но оттуда он уехал к своему новому месту служения, как он мне вслед за сим писал, очень раздосадованный и с составом войск не измененным. Алексеев его заверил, что значение его корпуса совершенно второстепенное и что он в Добрудже особого противодействия не встретит. Однако спустя немного времени после начала военных действий румынской армии вполне выяснилось, что румынское высшее военное начальство никакого понятия об управлении войсками в военное время не имеет; войска обучены плохо, знают лишь парадную сторону военного дела, об окапывании, столь капитально важном в позиционной войне, представления не имеют, артиллерия стрелять не умеет, тяжелой артиллерии почти совсем нет, и снарядов у них очень мало. При таком положении не удивительно, что они вскоре были разбиты, и той же участи подвергся и Зайончковский в Добрудже.
Между тем Алексеев заболел и уехал лечиться в Крым, а на его место был вызван царем для временного исполнения должности наштаверха командующий Особой армией генерал Гурко, который по дороге заехал ко мне. Он был очень озадачен своим новым назначением, хотя и временным, и говорил, что его очень затрудняет не военное дело, ему отлично известное, а придворная жизнь со всевозможными осложнениями того времени и необходимость для успеха войны касаться также внутренней политики и личных сношений с министрами, которые менялись тогда молниеносно. Что мог я ему на это ответить? Я ведь вполне разделял его мнение о трудности его положения вследствие нашей никуда не годной внутренней политики и мог только посоветовать ему, поскольку его сил хватит, бороться с влиянием Царского Села. Вместе с тем я убедительно просил его настоять на том, чтобы возможно более упорядочить довольствие войск, так как к этому времени подвоз продовольствия, обмундирования и снаряжения начал все более и более хромать; я же знал, что от армии можно потребовать всего, что угодно, и что она свой долг охотно выполнит, но при условии, что она сыта и хорошо, по времени года, одета. На этом мы временно и расстались.
Вскоре после этого было получено приказание, ввиду необходимости спасения румынской армии, для оказания ей помощи одну из моих армий направить в Румынию, чтобы занять ее правый фланг, так как эта злосчастная румынская армия при отступлении совсем растаяла, а кроме того, вместо отдельного корпуса Зайончковского, который потерял почти всю Добруджу, стала формироваться новая армия, и обе эти армии включены были в Юго-Западный фронт.
Таким образом, получалось, что на новом румынском фронте его правый и левый фланги подчинялись мне, центр же подчинялся королю румынскому, который со мной не только никаких отношений не имел, но, невзирая на все мои упорные просьбы, ни за что не хотел сообщать своих предложений и присылать свои директивы, без которых мне невозможно было распоряжаться правым и левым флангами этого фронта. На мой горячий протест по поводу такого ненормального и нетерпимого положения дела я получил ответ от Гурко, что приказано генералу Беляеву, который для этой цели был послан в главную квартиру румынской армии, ежедневно сообщать мне подробные сведения о румынах и их намерениях. Но оказалось, что и генерал Беляев ничего мне сообщать не мог и на мои постоянные требования отвечал, что румынский главный штаб тщательно скрывает от него свои распоряжения и решительно никаких сведений ему не даст.
В это же время последовала смена Зайончковского, который был назначен командиром 18-го армейского корпуса, а взамен его по моей рекомендации был назначен генерал Сахаров, которым я все время был доволен как по должности командира 11-го армейского корпуса в Карпатах, так и в качестве командующего армией. Исполнилось то, что предсказывал Зайончковский, а именно, что на Добруджский фронт нужно было сразу назначить не один слабый по составу армейский корпус, а сильную армию в пять-шесть корпусов. Сахарову с места пришлось, держась в Добрудже в оборонительном положении, направить часть своих сил на поддержку румынской армии на ее главный фронт после потери ею своей столицы Бухареста; я же в дальнейшем, не получая никаких сведений от румынской главной квартиры, послал решительную телеграмму Гурко для официального доклада Верховному главнокомандующему, в которой заявлял, что управлять флангами фронта, центр которого мне не подчинен, совершенно немыслимо и такой ответственности брать на себя я не могу, а потому настоятельно прошу о подчинении мне всего румынского фронта с его главной квартирой полностью или же о немедленном создании нового самостоятельного фронта — румынского, к которому бы я никакого отношения не имел.
После этой телеграммы и сношения с королем румынским, который считался главнокомандующим румынской армией, было решено устроить отдельный Румынский фронт с номинальным главнокомандующим, королем румынским, и назначить ему в помощники генерала Сахарова, которому должны были подчиняться непосредственно все русские войска, а через румынский штаб — и румынские войска. Таким способом я наконец был избавлен от невыносимого и бессмысленного положения, в которое меня поставила Ставка, то есть Алексеев.
В конце октября, в сущности, военные действия 1916 года закончились. Со дня наступления 20 мая по 1 ноября Юго-Западным фронтом было взято в плен свыше 450 000 офицеров и солдат, то есть столько, сколько в начале наступления, по всем имевшимся довольно точным у нас сведениям, находилось передо мной неприятельских войск. За это же время противник потерял свыше 1 500 000 убитыми и ранеными. Тем не менее к ноябрю перед моим фронтом стояло свыше миллиона австро-германцев и турок. Следовательно, помимо 450 000 человек, бывших вначале передо мной, против меня было перекинуто с других фронтов свыше 2 500 000 бойцов. Из этого ясно видно, что если бы другие фронты шевелились и не допускали возможности переброски войск против вверенных мне армий, я имел бы полную возможность далеко выдвинуться к западу и могущественно повлиять и стратегически и тактически на противника, стоявшего против нашего Западного фронта. При дружном воздействии на противника нашими тремя фронтами являлась полная возможность — даже при тех недостаточных технических средствах, которыми мы обладали по сравнению с австро- германцами, — отбросить все их армии далеко к западу. А всякому понятно, что войска, начавшие отступать, падают духом, расстраивается их дисциплина, и трудно сказать, где и как эти войска остановятся и в каком порядке будут находиться. Были все основания полагать, что решительный перелом в кампании на всем нашем фронте совершится в нашу пользу, что мы выйдем победителями, и была вероятность, что конец нашей войны значительно ускорился с меньшими жертвами.
Не новость, что на войне упущенный момент более не возвращается, и на горьком опыте мы эту старую истину должны были пережить и перестрадать. Отчего же это произошло? Оттого, что Верховного главнокомандующего у нас не было, а его начальник штаба, невзирая на весь свой ум и знания, не был волевым человеком, да и по существу дела и вековечному опыту начальник штаба заменять своего принципала не может. Война — не шутка и не игрушка, она требует от своих вождей глубоких знаний, которые являются результатом не только изучения военного дела, но и наличия тех способностей, которые даруются природой и только развиваются работой. Преступны те люди, которые не отговорили самым решительным образом, хотя бы силой, императора Николая II возложить на себя те обязанности, которые он по своим знаниям, способностям, душевному складу и дряблости воли ни в коем случае нести не мог.
Если бы я гнался только за своей собственной славой, то я должен бы быть спокоен и доволен таким оборотом боевых действий 1916 года, ибо по всему миру пронеслась весть о «брусиловском наступлении». Вся Россия ликовала, имена Эверта и, в особенности, Куропаткина осуждались, а Эверта к тому же зачислили в разряд изменников. Я написал Эверту письмо, в котором сообщал ему, что получил несколько писем от разных мне неизвестных корреспондентов, в которых он обвиняется в предательстве русских интересов и в желании нанести ущерб русской армии; я не верил, конечно, всем этим обвинениям, но считал необходимым осведомить его о том, что его задержка в оказании мне помощи толкуется весьма превратно. На это письмо я ответа не получил. Что касается меня, то я, как воин, всю свою жизнь изучавший военную науку, мучился тем, что грандиозная победоносная операция, которая могла осуществиться при надлежащем образе действий нашего Верховного главнокомандования в 1916 году, была непростительно упущена.
Подводя итоги боевой работе Юго-Западного фронта в 1916 году, необходимо признать следующее:
1. По сравнению с надеждами, возлагавшимися на этот фронт весной 1916 года, его наступление превзошло все ожидания. Он выполнил данную ему задачу — спасти Италию от разгрома и выхода ее из войны, а кроме того, облегчил положение французов и англичан на их фронте, заставил Румынию стать на нашу сторону и расстроил все планы и предположения австро-германцев на этот год.
2. Никаких стратегических результатов эта операция не дала, да и дать не могла, ибо решение военного совета 1 апреля ни в какой мере выполнено не было. Западный фронт главного удара так и не нанес, а Северный фронт имел своим девизом знакомое нам с японской войны «терпение, терпение и терпение». Ставка, по моему убеждению, ни в какой мере не выполнила своего назначения управлять всей русской вооруженной силой и не только не управляла событиями, а события ею управляли, как ветер управляет колеблющимся тростником.
3. По тем средствам, которые имелись у Юго-Западного фронта, он сделал все, что мог, и большего выполнить был не в состоянии — я, по крайней мерс, не мог. Если бы вместо меня был военный гений вроде Юлия Цезаря или Наполеона, то, может быть, он сумел бы выполнить что-либо грандиозное, но таких претензий у меня не было и быть не могло.
4. Меня некоторые специалисты упрекали, что я не устроил одного прорыва, к которому я мог бы сосредоточить большие резервы, а устроил несколько ударных групп, поэтому, при оказавшемся успехе, я якобы не мог развить победу в надлежащем размере. На это отвечу, что при прорыве в одном только месте у меня получился бы результат такой же, как у Эверта близ Барановичей. Но лучше ли это — предоставляю судить читателю.
5. Во всяком случае, вот что пишет в своих воспоминаниях Людепдорф (том I, стр. 178–180):
«4 июня русские атаковали австро-венгерский фронт восточнее Луцка, у Тарнополя и непосредственно севернее Днестра. Атака была начата русскими без значительного превосходства сил. В районе Тарнополя генерал граф фон Ботмер, вступивший после генерала фон Линзингена в командование южно-германской армией, начисто отбил русскую атаку, но в остальных двух районах русские одержали полный успех и глубоко прорвали австро-венгерский фронт. Но еще хуже было то, что австро-венгерские войска проявили при этом столь слабую боеспособность, что положение Восточного фронта сразу стало исключительно серьезным. Несмотря на то что мы сами рассчитывали перейти в наступление, мы немедленно подготовили несколько дивизий для отправки на юг. Фронт генерал-фельдмаршала принца Леопольда Баварского действовал в этих обстоятельствах таким же образом. Германское верховное командование сделало на этих обоих фронтах большие позаимствования, а также подвезло дивизии с запада. В то время сражение на Сомме еще не началось. Австро-Венгрия постепенно прекратила наступление в Италии и также перебросила войска на Восточный фронт. Вслед за тем итальянская армия перешла в наступление в Тироле. Обстановка коренным образом изменилась. С началом сражения на Сомме и с выступлением Румынии она вскоре еще раз должна была измениться не в нашу пользу…»
«В то время мы все еще считались с возможностью атаки у Сморгони, или, как это опять начало обрисовываться, на старом мартовском поле сражения у Риги. Как прежде, так и теперь русские располагали в данных пунктах очень крупными силами. Несмотря на это, мы до крайности ослабили наш фронт, чтобы помочь южнее расположенным армиям. В резерве мы имели на всем растянутом фронте лишь отдельные батальоны. Я формировал батальоны из состава рекрутских депо, хотя мне было совершенно ясно, что если русские где-нибудь одержат настоящий успех, то это будет капля в море».
И далее:
«Русские решили добиваться решительной победы на австро-венгерском фронте, но они располагали большим количеством резервов и могли одновременно энергично атаковать и нас, чтобы, по крайней мере, воспрепятствовать дальнейшей переброске сил на юг».
Затем на стр. 182 значится:
«Русская атака в излучине Стыри, восточнее Луцка, имела полный успех. Австро-венгерские войска были прорваны в нескольких местах, германские части, которые шли на помощь, также оказались здесь в тяжелом положении, и 7 июля генерал фон Линзинген был принужден отвести свое левое крыло за Стоход. Туда же пришлось отвести с участка южнее Припяти правое крыло фронта генерал-фельдмаршала принца Леопольда Баварского, где была расположена часть армейской группы Гронау. Это был один из наисильнейших кризисов на Восточном фронте. Надежды на то, что австро-венгерские войска удержат неукрепленную линию Стохода, было мало. Мы рисковали еще больше ослабить наши силы, на то же решился и генерал-фельдмаршал принц Леопольд Баварский. Несмотря на то что русские атаки могли в любой момент возобновиться, мы продолжали выискивать отдельные полки, чтобы поддержать левое крыло фронта Линзингена северо-восточнее и восточнее Ковеля».
После взятия Брод (11-я армия) 27 июля Гинденбург и Людендорф были вызваны к Верховному командованию, и им была вручена власть над всем Восточным фронтом.
Далее, на стр. 189 значится:
«Для укрепления австро-венгерского фронта требовались германские войска. Прежний фронт главнокомандующего Востоком был уже настолько обобран, что в ближайшее время многого от него получить было невозможно». И далее: «На весь фронт, чуть ли не в 1000 километров длины, мы имели в виде резерва одну кавалерийскую бригаду, усиленную артиллерией и пулеметами. Незавидное состояние, когда ежедневно надо быть готовым оказать помощь далеко расположенному участку! Это также свидетельствует, на что мы, немцы, оказались способными».
С этим последним выводом я согласиться без корректива не могу. Нужно добавить: при условии иметь противниками Алексеева, Эверта и Куропаткина. Впрочем, эта оговорка имеет силу применительно ко всему периоду операции Юго-Западного фронта в 1916 году.
В заключение скажу, что при таком способе управления Россия, очевидно, выиграть войну не могла, что мы неопровержимо и доказали на деле, а между тем счастье было так близко и так возможно! Только подумать, что если бы в июле Западный и Северный фронты навалились всеми силами на немцев, то они были бы безусловно смяты, но только следовало навалиться по примеру и способу Юго-Западного фронта, а не на одном участке каждого фронта. В этом отношении, что бы ни говорили и ни писали, я остаюсь при своем мнении, доказанном на деле, а именно: при устройстве прорыва, где бы то ни было, нельзя ограничиваться участком в 20–25 верст, оставив остальные тысячу и более верст без всякого внимания, производя там лишь бестолковую шумиху, которая никого обмануть не может, Указание, что если разбросаться, то даже в случае успеха нечем будет развить полученный успех, конечно, справедливо, но только отчасти. Нужно помнить пословицу: «По одежке протягивай ножки». Для примера укажу на наш Западный фронт. К маю 1916 года он был достаточно хорошо снабжен, чтобы, имея сильные резервы в пункте главного прорыва, в каждой армии подготовить по второстепенному удару, и тогда, несомненно, у него не было бы неудачи у Барановичей. С другой стороны, Юго-Западный фронт был, несомненно, слабейший, и ожидать от него переворота всей войны не было никакого основания. Хорошо, что он выполнил неожиданно данную ему задачу с лихвой. Переброска запоздалых подкреплений в условиях позиционной войны помочь делу не могла. Конечно, один Юго-Западный фронт не мог заменить собой всю многомиллионную русскую рать, собранную на всем русском Западном фронте. Еще в древности один мудрец сказал, что «невозможное — невозможно»!
Покончив с этим вопросом, буду излагать дальнейший ход событий.
ПЕРЕД ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ
В декабре 1916 года опять был собран военный совет в Ставке. На нем я был со своим новым начальником штаба Сухомлиным, так как Клембовский по моему представлению был назначен командующим 11-й армией взамен Сахарова, когда тот ушел на Румынский фронт. Мне было жаль расстаться с таким помощником, но я всегда старался выдвигать, хотя бы в ущерб своему спокойствию, тех людей, которые своими выдающимися качествами того заслуживали.
Клембовский, невзирая на некоторые свои недостатки, был именно дельный, умный генерал, вполне способный к самостоятельной высокой командной должности; Сухомлин же был мой старый начальник штаба, с которым я привык работать.
В Ставке, по заведенному порядку, мы начали с завтрака у Верховного главнокомандующего, который ко мне отнесся сухо, хотя и не видел меня во все время моего наступления. Когда государь ко мне подошел в приемной, где мы все были выстроены, со мной рядом стоял мой предместник Иванов. Я только перед этим узнал, что тотчас вслед за военным советом, имевшим место 1 апреля, когда я заявил, что я наступать могу и буду, что и было тогда утверждено, Иванов после моего отъезда испросил аудиенцию у верховного вождя и доложил ему, что по долгу совести и любви к отечеству он считает себя обязанным, как знающий хорошо Юго-Западный фронт и его войска, просить не допускать меня к переходу в наступление, так как это сгубит армию и даст возможность неприятелю разбить меня и заполонить Юго-Западный край с Киевом. Царь спросил его, почему же он не заявлял это на военном совете, на котором он присутствовал. Иванов ответил, что его никто ни о чем не спрашивал и он не находил удобным напрашиваться со своими советами. Но царь возразил ему: «Тем более я единолично не нахожу возможным изменять решения военного совета и ничего тут поделать не могу. Переговорите с Алексеевым». На этом разговор и закончился.
Иванов принадлежал к той плеяде военачальников, которые, под руководством Куропаткина, проиграли японскую войну. И Эверт был один из деятелей этой злосчастной войны. Я всегда боялся генералов этой куропаткинской школы и думаю, что если бы с самого начала они сидели на тыловых должностях, то от этого наше дело много выиграло бы, и недаром бывший Верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич их не жаловал. Многократно хотел он сменить Иванова, при нем не были бы главнокомандующими ни Эверт, ни тем более Куропаткин; но он сам был сменен, и все пошло шиворот-навыворот. Конечно, я Иванову ни слова не сказал относительно его разговора с царем обо мне и моем наступлении, ибо всегда пренебрегал всякими подвохами и в принципе никогда не мстил тем, кто старался меня уязвлять.
После завтрака мы начали заседать. Царь был еще более рассеян, чем на предыдущем военном совете, и беспрерывно зевал, ни в какие прения не вмешивался, а исполняющий должность начальника штаба Верховного главнокомандующего Гурко, невзирая на присущий ему апломб, с трудом руководил заседанием, так как не имел достаточного авторитета. На этом совете выяснилось, что дело продовольствия войск в будущем должно значительно ухудшиться.
Быстро сменяющиеся министры со своими премьерами во главе не успевали что-либо завести, как уже заменялись новыми. Большинство министров назначалось управлять такими министерствами, которые им раньше были совсем неизвестны, и каждый из них должен был начинать с того, что знакомился с теми функциями, которые ему надо было исполнять. Но, в сущности, и на это у них времени не было, так как они главным образом должны были заниматься борьбой с Государственной думой и общественным мнением, чтобы отстоять свое существование. Что удивительного, если при этих условиях управление государством шло все хуже и хуже, а от этого непосредственно страдала армия! Конечно, нам не объясняли причин расстройства народного хозяйства, но нам говорилось, что этому бедственному положению помочь нельзя, мы же все дружно требовали, чтобы армия по-прежнему была хорошо одета, обута и кормлена.
Относительно военных действий на 1917 год абсолютно ничего определенного решено не было. Военный совет в этот день своих занятий не кончил. На следующий день, также после завтрака у царя, заседание продолжалось, но с таким же малым толком, тем более что нам было сообщено, что царь, не дожидаясь окончания военного совета, уехал в Царское Село, и видно было, что ему не до нас и не до наших прений. Во время нашего заседания было получено известие об убийстве Распутина, и потому отъезд царя был ускорен, и он экстренно уехал, быстро с нами простившись. Понятно, мы — главнокомандующие, генералы Рузский, Эверт и я — сговориться ни о чем не могли, так как различно понимали положение дел. Было лишь решено, по предложению Гурко, формировать в каждом корпусе по одной новой пехотной дивизии, но без артиллерии, так как ни орудий, ни лошадей для такого количества артиллерийских бригад найти нельзя было. Решено было также в принципе, что весной 1917 года главный удар должен наноситься моим фронтом и для этого мне будет передан резерв тяжелой артиллерии, находившийся в распоряжении Верховного главнокомандующего и частью формировавшийся в тылу из тяжелых орудий, доставленных нашими союзниками. Никаких, однако, подробностей того, в каком направлении мы должны действовать, каких целей должны достигнуть и какой маневр в широком смысле этого слова должны совершить, ни говорено, ни решено не было.
Не знаю, как другие главнокомандующие, но я уехал очень расстроенный, ясно видя, что государственная машина окончательно шатается и что наш государственный корабль носится по бурным волнам житейского моря без руля и командира. Нетрудно было предвидеть, что при таких условиях этот несчастный корабль легко может наскочить на подводные камни и погибнуть — не от внешнего врага, не от внутреннего, а от недостатка управления и государственного смысла тех, которые волею судеб стоят у кормила правления.
Еще раньше, в начале октября 1916 года, великому князю Георгию Михайловичу, ехавшему на фронт для раздачи Георгиевских крестов от имени государя, я говорил и просил довести до высочайшего сведения, что в такое время, какое мы переживаем, правительству нужно не бороться с Государственной думой и общественным мнением и не отмахиваться от желания всего народа работать на пользу войны, а всеми силами привлекать всех сынов отечества для того, чтобы пережить эту страшную военную годину; что не только можно, но и необходимо дать ответственное министерство, так как вакханалия непрерывной смены министров до добра довести не может, а отстранение от дружной работы общественных сил на пользу войны поведет ее по меньшей мере к проигрышу. Великий князь вполне разделял мой образ мыслей, немедленно написал подробное письмо о моем с ним разговоре и вручил его мне для посылки с фельдъегерем в Ставку, что я в тот же день и исполнил. Может быть, это была причина, что царь меня так сухо встретил. Последние его слова при отъезде, после которых я уже более не видел его, были: «До свидания, скоро буду у вас на фронте». Он не подозревал тогда, что не пройдет и двух месяцев, как ему придется отказаться от престола и засесть в излюбленном им Царском Селе, но уже не самодержавным владыкою полуторастамиллионного народа, а узником, которого потом будут пересылать с места на место и наконец лишат жизни.
Во время зимы 1916/17 года войска не могли жаловаться на недостаток теплой одежды, но сапог уже не хватало, и военный министр на военном совете в Ставке нам заявил, что кожи почти нет, что они стараются добыть сапоги из Америки, но прибудут ли и когда, в каком количестве, он сказать не может. При этом добавлю со своей стороны, что недостаток сапожного товара к 1917 году произошел не оттого, что было его слишком мало, а вследствие непорядков в тылу: чуть ли не все население России ходило в солдатских сапогах, и большая часть прибывавших на фронт людей продавала свои сапоги по дороге обывателям, часто за бесценок, и на фронте получала новые. Такую денежную операцию некоторые искусники умудрялись делать два-три раза. То же самое происходило и с одеждой, которую, не стесняясь, продавали, и зачастую солдаты, отправленные из тыла вполне снаряженными и отлично одетыми, обутыми, на фронт приходили голыми. Против таких безобразий никаких мер не принималось, или же были меры недостаточные и не дававшие никаких благих результатов.
Питание также ухудшилось: вместо трех фунтов хлеба начали давать два фунта строевым, находившимся в окопах, и полтора в тылу; мяса, вместо фунта в день, давали сначала три четверти, а потом и по полфунту. Затем пришлось ввести два постных дня в неделю, когда клали в котел вместо мяса рыбу, в большинстве случаев селедку; наконец, вместо гречневой каши пришлось зачастую давать чечевицу. Все это начало вызывать серьезное недовольство солдат, и я стал получать много анонимных ругательных писем, как будто от меня зависело снабжать войска теми или иными продуктами. Стал я также получать письма, в большинстве случаев анонимные, в которых заявлялось, что войска устали, драться больше не желают и что если мир не будет вскоре заключен, то меня убьют. Однако получал я и иные письма, также анонимные, в которых значилось, что если война не будет доведена до конца и «изменница-императрица Александра Федоровна» заставит заключить несвоевременный мир, то меня также убьют. Из этого видно, что для меня выбор был не особенно широк, а в войсках мнения относительно войны и мира расходились.
Во всяком случае, в это время войска были еще строго дисциплинированны, и не подлежало сомнению, что в случае перехода в наступление они выполнят свой долг в той же степени, как и в 1916 году. Как и раньше бывало, прибывавшие пополнения, очень плохо обученные, были распропагандированы, но по прибытии на фронт, через некоторое время, после усердной работы, дело с ними налаживалось. Меня особенно заботили не войска и их мощь, в которой я в то время не сомневался, а внутренние дела, которые не могли не влиять на состояние духа армии. Постоянная смена министров, зачастую чрезвычайно странный выбор самих министров и премьер-министров, хаотическое управление Россией с так называемыми безответственными лицами в виде всесильных советников, бесконечные рассказы о Распутине, императрице Александре Федоровне, Штюрмере и т. п. всех волновали, и можно сказать, что, за исключением солдатской массы, которая в своем большинстве была инертна, офицерский корпус и вся та интеллигенция, которая находилась в составе армии, были настроены по отношению к правительству в высшей степени враждебно. Везде, не стесняясь, говорили, что пора положить предел безобразиям, творящимся в Петербурге, и что совершенно необходимо установить ответственное министерство.
Что касается меня, то я хорошо сознавал, что после первого акта революции, бывшего в 1905–1906 годах, неминуемо должен быть и второй акт как неизбежное последствие этой грозной и продолжительной войны. Мне, любящему Россию всеми силами своей души, хотелось лишь одного: дать возможность закончить эту войну победоносно для России, а для сего было совершенно необходимо, чтобы неизбежная революция началась по окончании войны, ибо одновременно воевать и революционировать невозможно. Для меня было ясно, что если мы начнем революцию несвоевременно, то войну должны проиграть, а это, в свою очередь, повлечет за собой такие последствия, которые в то время нельзя было исчислить, и, конечно, легко можно было предположить, что Россия рассыплется, — это я считал, безусловно, для нас нежелательным и великим бедствием для народа, который я любил и люблю всей душой. Какую бы физиономию революция ни приняла, я внутренне решил покориться воле народной, но желал, чтобы Россия сохранила свою мощь, а для этого необходимо было выиграть войну.
Из беседы со многими лицами, приезжавшими на фронт по тем или иным причинам из внутренних областей России, я знал, что все мыслящие граждане, к какому бы классу они ни принадлежали, были страшно возбуждены против правительства и что везде без стеснения кричали, что так продолжаться не может. С другой стороны, при разговорах моих с некоторыми из министров, которые приезжали ко мне на фронт, я замечал их большую растерянность и неуверенность в своих действиях. В этом отношении интересна была у меня беседа с министром земледелия Риттихом, которого я видел в первый раз. Это был человек молодой, по-видимому умный и энергичный, распорядительный. Он мне говорил, что попал в министры совершенно для себя неожиданно и этого поста ни в каком случае не стремился занять; почему его выбрали в министры, он понять не мог, ибо с Распутиным никаких отношений не имел и даже никогда его не видел, никакой протекцией не пользовался да и царя лично знает очень мало. Риттих предполагал, что некого было назначить на такое трудное место, отказаться же от этого поста не считал себя вправе ввиду переживаемого времени, делал, что мог, но сознавал бесполезность своего труда, потому что, будучи только что назначенным министром земледелия, он не сомневался, что не успеет доехать до Петербурга, как будет уже смещен без всякой причины. Ясно, что при такой неуверенности и его самого и его подчиненных и общественных деятелей в прочности его положения все предпринимавшиеся им мероприятия успеха иметь не могли; в это время на министров смотрели не серьезно, а скорее с юмористической точки зрения.
Вот при каком положении дел я решился написать письмо министру двора графу Фредериксу. Черновик этого письма у меня затерялся уже после моего отъезда с фронта, но вкратце я твердо помню его содержание. Изложив в нем положение России и возбуждение общественного мнения, которым пренебрегать нельзя, в особенности в такое тяжелое время, я просил доложить, что для спасения России совершенно необходимо дать ранее обещанную конституцию и призвать все общественные силы для совокупной работы на пользу войны. Я добавлял, что секретные распоряжения — давить и сводить на нет деятельность Всероссийских земского и городского союзов — преступны, так как оба эти общественные учреждения приносят с начала кампании неисчислимую пользу армии и облегчают ей исполнение ее бесконечно тяжелого долга. На это письмо я ни ответа ни привета не получил.
В начале января 1917 года великий князь Михаил Александрович, служивший у меня на фронте в должности командира кавалерийского корпуса, был назначен на должность генерал-инспектора кавалерии и по сему случаю приехал ко мне проститься. Я очень его любил, как человека безусловно честного и чистого сердцем, не причастного ни с какой стороны ни к каким интригам и стремившегося лишь к тому, чтобы жить честным человеком, не пользуясь прерогативами императорской фамилии. Он отстранялся, насколько это было ему возможно, от каких бы то ни было дрязг и в семействе и в служебной жизни; он был храбрый генерал и скромно, трудолюбиво выполнял свой долг. Ему, брату царя, я очень резко и твердо обрисовал положение России и необходимость тех реформ, немедленных и быстрых, которых современная жизнь неумолимо требует; я указывал, что для выполнения их остались не дни, а только часы и что во имя блага России я его умоляю разъяснить все это царю, и если он (великий князь) разделяет мое мнение, то поддержит содержание моего доклада и со своей стороны. Он ответил, что со мной совершенно согласен и, как только увидит царя, постарается выполнить это поручение. «Но, — добавил он, — я влиянием никаким не пользуюсь и значения никакого не имею. Брату неоднократно со всевозможных сторон сыпались предупреждения и просьбы в таком же смысле, но он находится под таким влиянием и давлением, которого никто не в состоянии преодолеть». На этом мы с ним и расстались.
В январе 1917 года я собрал командующих армиями для того, чтобы распределить роли каждой армии при наступлении весной этого года. Главный удар мною поручался на сей раз 7-й армии, ударная группа которой должна была направиться в северо-западном направлении на Львов; 11-я армия своей ударной группой должна была пробиться прямо на запад, также направлением на Львов, а Особая и 3-я армии должны были продолжать свои операции для захвата Владимира-Волынского и Ковеля; что касается 8-й армии, находившейся в Карпатах, то она своей ударной группой должна была выполнять вспомогательную роль, помогая правому флангу румынского фронта для продвижения его вперед.
На сей раз моему фронту были даны сравнительно значительные средства для атаки противника: так называемый ТАОН — главный артиллерийский резерв Верховного главнокомандующего, состоявший из тяжелой артиллерии разных калибров, и два армейских корпуса того же резерва должны были прибыть ранней весной. Я вполне был уверен, что при той же тщательной подготовке, которая велась в предыдущем году, и значительных средствах, которые отпускались, мы не могли не иметь и в 1917 году хорошего успеха. Войска, как я выше говорил, были в твердом настроении духа, и на них можно было надеяться, за исключением 7-го Сибирского корпуса, который прибыл на мой фронт осенью из Рижского района и был в колеблющемся настроении. Некоторую дезорганизацию внесла неудачная мера формирования третьих дивизий в корпусах без артиллерии и трудность сформировать этим дивизиям обозы ввиду недостатка лошадей, а отчасти и фуража. Сомнительным было также состояние конского состава вообще, так как овса и сена доставлялось из тыла чрезвычайно мало, а на месте не было возможности что-либо добывать, так как уже все было съедено. Прорвать первую укрепленную полосу противника мы, безусловно, могли, но дальнейшее продвижение на запад при недостатке и слабости конского состава делалось сомнительным, о чем я доносил и настоятельно просил ускоренно помочь этому бедствию. Но в Ставке, куда уже вернулся Алексеев (Гурко принял опять Особую армию), а также в Петербурге было, очевидно, не до фронта. Подготовлялись великие события, опрокинувшие весь уклад русской жизни и уничтожившие и армию, которая была на фронте.
ПОСЛЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Раньше, чем излагать события Февральской революции, столь сильно отразившиеся на фронте, и чтобы дать ясно понять мой образ действий, мне необходимо объяснить мой образ мыслей и мои стремления.
Я вполне сознаю, что с самого начала революции я мог и неизбежно делал промахи. При таких трудных обстоятельствах, как война и революция в одно время, приходилось много думать о своей позиции, для того чтобы быть полезным своему народу и родине. Среди поднявшегося людского водоворота, всевозможных течений — крайних правых, крайних левых, средних и т. д., среди разумных людей, увлекающихся честных идеалистов, негодяев, авантюристов, волков в овечьих шкурах, их интриг и домогательств — сразу твердо и бесповоротно решиться на тот или иной образ действий было для меня невозможно. Я не гений и не пророк и будущего твердо знать не мог; действовал же я по совести, всеми силами стараясь тем или иным способом сохранить боеспособную армию. Я сделал все, что мог, но, повторяю, я не гений и не оказался в состоянии привести сразу в полный порядок поднявшуюся народную стихию, потрясенную трехлетней войной и небывалыми потерями. Спрашивается, однако: кто же из моих соседей мог это исполнить? Во всяком случае, мой фронт держался твердо до моего отъезда в Могилев, и у меня не было ни одного случая убийства офицеров, чем другие фронты похвастаться не могли. А затем могу сказать, что войска верили мне и были убеждены, что я — друг солдата и ему не изменю. Поэтому, когда бывали случаи, что та или иная дивизия или корпус объявляли, что более на фронте оставаться не желают и уходят домой, предварительно выгнав свой командный состав и угрожая смертью всякому генералу, который осмелится к ним приехать, — я прямо ехал в такую взбунтовавшуюся часть, и она неизменно принимала меня радостно, выслушивала мои упреки и давала обещание принять обратно изгнанный её начальствующий состав, слушаться его и не уходить с позиции, защищаясь в случае наступления противника.
Одного мне не удавалось — это получить обещание наступать и атаковать вражеские позиции. Тут уже на сцену выступали слова: «без аннексий и контрибуции» и дальше дело никак не шло, ибо это, в сущности, были отговорки, основанные на нежелании продолжать войну. Позицию большевиков я понимал, ибо они проповедовали «долой войну и немедленно мир во что бы то ни стало», но я никак не мог понять тактики эсеров и меньшевиков, которые первыми разваливали армию якобы во избежание контрреволюции, что не рекомендовало их знания состояния умов солдатской массы, и вместе с тем желали продолжения войны до победного конца. Поэтому-то я пригласил военного министра Керенского весной 1917 года прибыть на Юго-Западный фронт, чтобы на митингах подтвердить требование наступления от имени Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, так как к этому времени солдатская масса более не признавала Государственной думы, считая ее себе враждебной, и слушалась, и то относительно, Совета рабочих и солдатских депутатов.
К маю войска всех фронтов совершенно вышли из повиновения, и никаких мер воздействия предпринимать было невозможно. Да и назначенных комиссаров слушались лишь постольку, поскольку они потворствовали солдатам, а когда они шли им наперекор, солдаты отказывались исполнять и их распоряжения. Например, 7-й Сибирский корпус, отодвинутый с позиций в тыл для отдыха, наотрез отказался по окончании отдыха вернуться на фронт и объявил комиссару корпуса Борису Савинкову, что бойцы корпуса желают идти для дальнейшего отдыха в Киев; никакие уговоры и угрозы Савинкова не помогли. Таких случаев на всех фронтах было много. Правда, при объезде Юго-Западного фронта Керенским его почти везде принимали горячо и многое ему обещали, но когда дошло до дела, то, взяв сначала окопы противника, войска затем самовольно на другой же день вернулись назад, объявив, что так как аннексий и контрибуций требовать нельзя и война до победного конца недопустима, то они и возвращаются на свои старые позиции. А затем, когда противник перешел в наступление, наши армии без сопротивления очистили свои позиции и пошли назад. Ясно, что и Керенский и тогдашний Совет рабочих и солдатских депутатов также потеряли к этому времени свое обаяние в умах солдатской массы, и мы быстро приближались к анархии, невзирая на старания немощного Временного правительства, которое, правду сказать, само твердо не знало, чего хотело.
Вот при этой-то обстановке мне было предложено в конце мая 1917 года принять должность Верховного главнокомандующего. Так как я решил во всяком случае оставаться в России и служить русскому народу, то я согласился на это предложение, которое мне сделал Керенский.
Исходил я из следующих соображений. Очевидно, новая, переворачивающаяся страница нашей истории неизбежно вытекала из прошлого и, не поняв или не обратив внимания на это прошлое, все настоящее могло, да и должно было, показаться странным и непонятным. Не забираясь слишком сильно в глубину истории, вспомним мельком Пугачевский бунт при Екатерине II, во время которого уничтожались помещики, ибо уже тогда идеал крестьянства в скрытом виде состоял в том, чтобы уничтожить барина и, главное, отобрать у него землю. Главное зло — крепостное право, заложенное Борисом Годуновым, значительно впоследствии развившееся и укрепившееся, естественно, делало всю массу крестьянства вполне бесправной и находившейся в диком состоянии. Пока лозунг «Вера, царь и отечество» не терял в глазах народа своего величия и обаяния, такое состояние народа, несмотря на местные волнения, изредка прорывавшиеся наружу, существовало и довольно крепко держалось.
Но вот при Александре I, во время борьбы с Французской революцией и Наполеоном I, наши войска вошли в тесное соприкосновение с французами, на знаменах коих стоял лозунг: «Свобода, равенство и братство», и эти слова стали чарующе действовать не столько на солдат, сколько на их корпус офицеров. Образовались тайные общества, которые в конце концов вылились в так называемое восстание декабристов 14 декабря 1825 года. Развитию этих революционных течений способствовали распространявшиеся мысли и мнения самого Александра I, стремившегося на словах к конституции и освобождению крепостных и никогда не переходившего от слов к делу. При Николае I эти течения были загнаны в глубокое подполье, скрывались и тлели.
Неудачная Севастопольская война и реформы Александра II захватили и вызвали наружу таившееся революционное движение интеллигенции, которая страстно бросилась в агитацию. Ее мечтаниям не было предела, и никакие реформы ее не удовлетворяли, — правда, и правительство, видя результаты своих реформ, само испугалось своей работы и начало пятиться назад, отбирая одной рукой то, что давало другой. Освобождение от крепостного права нисколько не удовлетворило крестьян, ибо земли им было нарезано недостаточно, да и то дана была им не в собственность, — давали ее общине. Народ оставался таким же безграмотным и темным, как и раньше.
Лозунг «Вера, царь и отечество» стал постепенно терять свое значение в глазах крестьян, и чувствовалось скрытое недоумение и недовольство. Развивать народ, учить его, пропагандировать идеи нового правительственного порядка считалось преступным и сильно каралось, ибо полагали наиболее удобным и легким держать всю народную массу в темноте, поэтому ни идеи русской государственности, ни патриотизма, ни православия, освещенные с точки зрения правительства, не имели места, а получила широкий доступ тайная антиправительственная пропаганда. Правительство же основывало свое благополучие на терминах «держи и не пущай», «карай».
Воцарение Александра III и его правление опять вогнало революционное движение в подполье; но времена были уже не те, и слова «держи и не пущай» не имели уже той силы и значения, как при его деде. Этим он окончательно бросил интеллигенцию в революционный лагерь. Времена самодержавия исторически и психологически были уже изжиты, и нужно было идти вместе со своим временем. Задержав на точке замерзания ход государственной машины, он тем самым готовил для своего сына тяжелое наследие, которое, правда, при большом старании этого столь слабовольного наследника, поглотило и его и его царство без остатка.
Во всяком случае, нужно, безусловно, признать, что ко времени воцарения Николая II русская держава лишь по наружности была спокойна и сильна. Бессмысленная война с Японией вызвала революцию. Заключить союз с Францией, много лет готовиться к войне на Западном фронте и неожиданно разбить себе лоб в дальневосточной авантюре — все это было, несомненно, безрассудно. Этим Николай II расстроил боеспособность русской армии, финансы государства и заставил «за здорово живешь» пролить бессмысленно море русской крови. Первый акт русской революции 1905–1906 гадов и вызван был этой преступной детской затеей. Это было первое и очень важное предупреждение провидения, что в государстве неблагополучно и что нужно принять серьезные радикальные меры. И что же было сделано? Да почти ничего. Обещанные реформы были смазаны и приняли весьма уродливый вид. Было объявлено, что, невзирая на данную конституцию, самодержавие продолжает существовать под флагом «держи и не пущай», и мы начали опять готовиться к войне на Западе, причем реформы военного ведомства свелись по преимуществу к новому обмундированию, более красивому и элегантному, в особенности в гвардии и в кавалерии, которые в японской войне вовсе не участвовали, и начали строить новый флот, так как предыдущий был погребен в Японском море.
А между тем было о чем подумать: революция, хотя временно и погашенная, указала ясно, что теперь крестьянство уже не то, что все слои общества крайне недовольны, интеллигенция почти вся революционна, и нетрудно было догадаться, что созданием так называемого «Союза русского народа», составленного притом из подонков, ограничиться никак нельзя.
Весьма характерно, что к этому же времени вылезли разные проходимцы, которые, пользуясь мистическим настроением психически больной царицы, стали играть серьезную роль в жизни царской четы и тем влиять на управление государством, что восстановило все серьезные круги общественных и государственных деятелей, окончательно изолировав самих царя и царицу, оставшихся в среде так называемой дворцовой камарильи. Тут выступает на сцену Распутин, начинающий играть серьезную роль в управлении Россией. Во многом это напоминает последние годы царствования Людовика XVI и Марии-Антуанетты во Франции. Это очень понятно, ибо одинаковые причины вызывают неминуемо такие же действия, а за ними и следствия.
В такой-то обстановке началась давно предвиденная, неизбежная всемирная война. Моральной подготовки к ней не было сделано никакой. Невзирая на это, подъем всех классов был велик, но правительство со своей стороны не приняло решительно никаких мер для поддержания этого крайне важного настроения и продолжало по-прежнему борьбу с Государственной думой, в общем настроенной весьма патриотично. Дело шло как будто бы лишь о борьбе только правительства с Германией и Австро-Венгрией, и были приняты все возможные меры к тому, чтобы не привлекать общественные круги к работе на пользу родины. Забыли, что в современных войнах, в которых привлекается весь народ на борьбу с врагом, такая война может быть успешной лишь при условии общих сверхъестественных усилий всех сословий и классов безраздельно. В сущности, к этой войне в большей или меньшей степени никто подготовлен не был, ибо никто не предвидел размера и хода войны. Но в странах, где весь народ был привлечен тем или иным способом к участию в этой борьбе на жизнь или смерть, естественно, военное ведомство справлялось с возложенной на него задачей лучше и легче, чем у нас.
Неудачи наши на фронте в 1915 году ясно показали, что правительство не может справиться всецело со взятой им на себя задачей — вести удачно войну самостоятельно, без помощи общественных сил, ибо оказалось, что патронов и снарядов у нас нет, винтовок не хватает, тяжелой артиллерии почти нет, авиация в младенческом состоянии и во всех областях техники у нас нехватка.
Начали мы также жаловаться на недостаток одежды, обуви и снаряжения, и, наконец, пища, к которой солдатская масса очень чувствительна, стала также страдать. Приходилось, вследствие нашей слабой подготовки во всех отношениях, возмещать в боях нашу техническую отсталость в орудиях борьбы излишней кровью, которой мы обильно поливали поля сражения. Такое положение дела, естественно, вызывало ропот неудовольствия и негодования в рядах войск и возмущение начальством, якобы не жалевшим солдата и его жизни. Стойкость армии стала понижаться, и массовые сдачи в плен стали обыденным явлением.
В добавление ко всем этим бедствиям Верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич был сменен, и сам царь взял бразды в руки, назначив себя Верховным главнокомандующим. В искусство и знание военного дела Николаем II никто (и армия, конечно) не верил, и было очевидно, что верховным вершителем станет его начальник штаба — вновь назначенный генерал Алексеев.
Войска знали Алексеева мало, а те, кто знали его, не особенно ему доверяли ввиду его слабохарактерности и нерешительности. Эта смена, или замена, была прямо фатальна и чревата дальнейшими последствиями. Всякий чувствовал, что наверху, у кормила правления, нет твердой руки, а взамен является шатанье мысли и руководства. В это-то тяжелое время, в марте 1916 года, я и был назначен главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта.
Не буду повторять тут моих воспоминаний о перипетиях, переживавшихся мною в этом году. Это изложено выше. Скажу лишь, что мои армии, выказавшие в 1916 году чудеса храбрости и беззаветной преданности России и своему долгу, увидели в результате своей боевой деятельности плачевный конец, который они приписывали нерешительности и неуменью Верховного командования. В толще армии, в особенности в солдатских умах, сложилось убеждение, что при подобном управлении, что ни делай, толку не будет и выиграть войну таким порядком нельзя. Прямым последствием такого убеждения являлся вопрос: за что же жертвовать своей жизнью и не лучше ли ее сохранить для будущего? Не нужно забывать, что лучший строевой элемент за время почти трехлетней войны выбыл убитыми, ранеными и искалеченными, армия имела слабый, милиционный состав, хуже дисциплинированный и обученный, и в умах бойцов непроизвольно начали развиваться недовольство положением дела и критика, зачастую вкривь и вкось.
Глухое брожение всех умов в тылу невольно отражалось на фронте, и можно сказать, что к февралю 1917 года вся армия — на одном фронте больше, на другом меньше — была подготовлена к революции. Офицерский корпус в это время также поколебался и в общем был крайне недоволен положением дел.
Лично я был в полном недоумении, что из всего этого выйдет. Было ясно, что так продолжаться не может, но во что выльется это общее недовольство — никак предугадать не мог.
Доходили до меня сведения, что задумывается дворцовый переворот, что предполагают провозгласить наследника Алексея Николаевича императором при регентстве великого князя Михаила Александровича, а по другой версии — Николая Николаевича. Но все это были темные слухи, не имевшие ничего достоверного. Я не верил этим слухам потому, что главная роль была предназначена Алексееву, который якобы согласился арестовать Николая II и Александру Федоровну; зная свойства характера Алексеева, я был убежден, что он это не выполнит.
Вот при этой-то обстановке на фронте разразилась Февральская революция в Петрограде. Я получал из Ставки подробные телеграммы, сообщавшие о ходе восстания, и наконец был вызван к прямому проводу Алексеевым, который сообщил мне, что образовавшееся Временное правительство ему объявило, что в случае отказа Николая II отречься от престола оно грозит прервать подвоз продовольствия и боевых припасов в армию (у нас же никаких запасов не было); поэтому Алексеев просил меня и всех главнокомандующих телеграфировать царю просьбу об отречении. Я ему ответил, что со своей стороны считаю эту меру необходимой и немедленно исполню. Родзянко тоже прислал мне срочную телеграмму такого же содержания, на которую я ответил также утвердительно. Не имея под рукой моих документов, не могу привести точно текст этих телеграмм и разговоров по прямому проводу и моих ответов, но могу лишь утвердительно сказать, что смысл их верен и мои ответы также. Помню лишь твердо, что я ответил Родзянко, что мой долг перед родиной и царем я выполняю до конца, и тогда же послал телеграмму царю, в которой просил его отказаться от престола.
В результате, как известно, царь подписал отречение от престола, но не только за себя, но и за своего сына, назначив своим преемником Михаила Александровича, также отрекшегося. Мы остались без царя.
Когда выяснились подробности этого дела и то важное обстоятельство, что Государственную думу и Временное правительство возглавил Совет рабочих и солдатских депутатов, в котором преобладающий голос в то время имели меньшевики и эсеры, мне стало ясно, что дело на этом остановиться не может и что наша революция обязательно должна закончиться тем, что у власти станут большевики. Я только никак не мог сообразить, как этого не понимают кадеты, а в частности Милюков, Родзянко, Львов. Кажется, было ясно, что вопрос о принципах и основах управления Россией находился в руках армии, то есть миллионов бойцов, бывших на фронте и подготовлявшихся в тылу, составлявших цвет всего населения и к тому же вооруженных.
Корпус офицеров, ничего не понимавший в политике, мысль о которой была ему строжайше запрещена, находился в руках солдатской массы, и офицеры не имели на эту массу никакого влияния; возглавляли же се разные эмиссары и агенты социалистических партий, которые были посланы Советом рабочих и солдатских депутатов для пропаганды мира «без аннексий и контрибуций». Солдат больше сражаться не желал и находил, что раз мир должен быть заключен без аннексий и контрибуций и раз выдвинут принцип права пародов на самоопределение, то дальнейшее кровопролитие бессмысленно и недопустимо. Это было, так сказать, официальное объяснение; тайное же состояло в том, что взял верх лозунг «Долой войну, немедленно мир во что бы то ни стало и немедленно отобрать землю у помещика» — на том основании, что барин столетиями копил себе богатство крестьянским горбом и нужно от него отобрать это незаконно нажитое имущество. Офицер сразу сделался врагом в умах солдатских, ибо он требовал продолжения войны и представлял собой в глазах солдата тип барина в военной форме.
Сначала большинство офицеров стало примыкать к партии кадетов, а солдатская масса вдруг вся стала эсеровской, но вскоре она разобрала, что эсеры, с Керенским во главе, проповедуют наступление, продолжение союза с Антантой и откладывают дележ земли до Учредительного собрания, которое должно разрешить этот вопрос, установив основные законы государства. Такие намерения совершенно не входили в расчеты солдатской массы и явно противоречили ее вожделениям. Вот тут-то проповедь большевиков и пришлась по вкусу и понятиям солдатам. Их совершенно не интересовал Интернационал, коммунизм и тому подобные вопросы, они только усвоили себе следующие начала будущей свободной жизни: немедленно мир во что бы то ни стало, отобрание у всего имущественного класса, к какому бы он сословию ни принадлежал, всего имущества, уничтожение помещика и вообще барина.
Теперь станет вполне понятно, как случилось, что весь командный состав сразу потерял всякое влияние на вверенные ему войска и почему солдат стал смотреть на офицера как на своего врага. Офицер не мог стать на вышеизложенную политическую платформу.
Офицер в это время представлял собой весьма жалкое зрелище, ибо он в этом водовороте всяких страстей очень плохо разбирался и не мог понять, что ему делать. Его па митингах забивал любой оратор, умевший языком болтать и прочитавший несколько брошюр социалистического содержания. При выступлениях на эти темы офицер был совершенно безоружен, ничего в них не понимал. Ни о какой контрпропаганде и речи не могло быть. Их никто и слушать не хотел. В некоторых частях дошли до того, что выгнали все начальство, выбрали себе свое — новое — и объявили; что идут домой, ибо воевать больше не желают. Просто и ясно. В других частях арестовывали начальников и сплавляли в Петроград, в Совет рабочих и солдатских депутатов; наконец, нашлись и такие части, по преимуществу на Северном фронте, где начальников убивали.
При такой-то обстановке пришлось мне оставаться главнокомандующим Юго-Западным фронтом, а потом стать Верховным главнокомандующим. Видя этот полный развал армии и не имея ни сил, ни средств переменить ход событий, я поставил себе целью хоть временно сохранить относительную боеспособность армии и спасти офицеров от истребления.
Если бы после первого акта революции 1905–1906 годов старое правительство взялось за ум, произвело нужные реформы и между прочими мерами дало офицерскому составу знание и умение пропагандировать свою политграмоту, подготовив умелых ораторов из офицерской среды, то развал не мог бы состояться в таком быстром темпе. Теперь же приходилось метаться из одной части в другую, с трудом удерживая ту или иную часть от самовольного ухода с фронта, иногда целую дивизию или корпус.
Беда была еще в том, что меньшевики и эсеры, считавшие необходимым поддержать мощь армии и не желавшие разрыва с союзниками, сами разрушили армию изданием известного приказа № 1.
При таком тяжелом положении фронта я счел нужным просить главковерха Алексеева собрать в Ставке всех главнокомандующих фронтами для обмена мнениями и согласования наших усилий сохранить армию. Вероятно, и другие командующие фронтами заявили то же самое. Как бы то ни было, но Алексеев созвал всех главнокомандующих фронтами, кроме Кавказского, на совещание в Ставку, насколько мне помнится — в апреле или в начале мая. Оказалось, как и следовало ожидать, что на всех фронтах с незначительной разницей положение вполне одинаковое. Выяснилось также, что усиленная революционная пропаганда в войсках ведется частью по приказанию, а частью попустительством Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, так как большинство пропагандистов было снабжено мандатами этого Совета. Выяснилось также то, что, опасаясь контрреволюции, о которой никто не помышлял, названный Совет в лице многих его членов продолжал разрушать дисциплину в армии. Подводя итог всему нашему совещанию, мы пришли к заключению, что мы сами ничего поделать не можем и что нам нужно объясниться с Временным правительством и Петросоветом. Мы просили Алексеева всем вместе ехать в Петроград, чтобы объяснить необходимость какого-либо решения, то есть или заключить сепаратный мир или прекратить мирную пропаганду в войсках и, напротив, пропагандировать послушание начальству, дисциплину и продолжение войны. В противном случае мы решили просить об увольнении нас с наших постов.