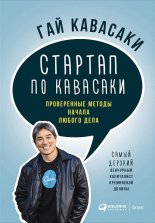Дзэн и искусство ухода за мотоциклом Пёрсиг Роберт

Больше недели я размышлял, наблюдал и в итоге сделал вывод: до моего пробуждения все было сном, а после – реальностью. Никаких различий меж ними нет, только громоздилось все больше новых событий, говоривших, казалось, против того пьяного происшествия. Всякие мелочи, например запертая дверь, а я, насколько помню, никогда не видел, что снаружи. И бумажка из наследственного суда, где утверждалось, что такой-то признан невменяемым. Это они про меня?
Наконец мне объяснили: «Теперь у вас новая личность». Но и это ничего не объясняло. Лишь сильнее озадачивало, поскольку никакой «старой» личности я за собой не помнил. Скажи они: «Вы теперь другая личность», – стало б гораздо понятнее. Все вернулось бы на свои места. Они ошиблись, полагая, будто личностью можно владеть, как костюмом. Но что в человеке вообще есть, кроме личности? Немного костей и мяса. Быть может, набор юридических данных, но это, конечно, не человек. Кости, мясо и юридические данные – одежды личности, не наоборот.
Но кем была та старая личность, которую они знали и чьим продолжением считали меня?
Таков был первый намек на то, что много лет назад был какой-то Федр. Шли дни, недели и годы, и я узнавал о нем больше.
Он умер. Его уничтожили по распоряжению суда – пропустили переменный ток высокого напряжения через доли его головного мозга. Сила тока около 800 миллиампер, продолжительность от 0,5 до 1,5 секунды – и так 28 раз, что составило процесс, технически известный как «электрошоковая терапия». Личность без остатка ликвидировали технически безупречным действием, и с тех пор начались наши с Федром отношения. Лично я его никогда не встречал. И никогда не встречу.
Но все же странные пряди его памяти вдруг накладываются на эту дорогу и совпадают с ней – и со скалами в пустыне, и с добела раскаленным песком вокруг; происходит некое чудное слияние, и я знаю, что он все это видел. Он здесь был, иначе я бы этого не знал. Точно был. Наблюдая внезапные сращения взгляда, вспоминая странные обрывки мыслей, невесть откуда взявшихся, я похож на ясновидца, на медиума, что принимает послания из мира иного. Вот как оно все. Смотрю и собственными глазами – и его. Когда-то мои глаза принадлежали ему.
Эти ГЛАЗА! Вот в чем весь ужас. Руки в перчатках, на которые я сейчас смотрю, – они ведут мотоцикл по дороге, – когда-то были его руками! Понимаешь это – поймешь и подлинный страх. Страшно знать, что бежать некуда.
Въезжаем в неглубокое ущелье. Немного спустя возникает придорожная стоянка – я ее ждал. Пара скамеек, домик, зеленые деревца со шлангами, подведенными к основаниям стволов. Джон – господи ты боже мой – уже у другого выхода, готов ехать дальше.
Не обращаю внимания и останавливаюсь у домика. Крис спрыгивает, ставим машину на подпорку. От двигателя такой жар, будто загорелся, и тепловые волны искажают все вокруг. Краем глаза вижу, что второй мотоцикл возвращается. Подъезжая, оба яростно смотрят на меня. Сильвия говорит:
– Мы просто… вне себя!
Пожимаю плечами и шагаю к питьевому фонтанчику.
– Ты же нам о стойкости пел? – спрашивает Джон.
Гляжу на него – и впрямь сердится.
– Я боялся, что ты заслушаешься, – отвечаю я и отворачиваюсь. Пью воду – она щелочная и отдает мылом, но все равно пью.
Джон заходит в домик намочить рубашку. Проверяю уровень масла. Колпачок масляного фильтра так раскалился, что жжет пальцы даже сквозь перчатки. Много масла двигатель не потерял. Протектор задней шины стерся чуть больше, но еще послужит. Цепь натянута, но подсохла, и я на всякий пожарный лишний раз ее смазываю. Все важные болты затянуты.
Подходит Джон – с него капает – и говорит:
– Теперь ты поезжай вперед, а мы за тобой.
– Я быстро не поеду, – отвечаю я.
– Хорошо, – говорит он. – Все равно доберемся.
И вот я еду впереди, не торопимся. Дорога по ущелью не бежит гладко по той же равнине, как я рассчитывал, а забирает в гору. Сюрприз.
Вот она то немного петляет, то вообще ведет не туда, куда надо, то опять возвращается на нужный курс. Вскоре немного поднимается, потом – еще немного. Зигзагами движемся по каким-то щелям, но выезжаем вверх, с каждым поворотом – все выше и выше.
Появляются кустарники. Деревца. Дорога ведет все выше, в травы, затем – в огороженные луга.
Над головой возникает тучка. Может, дождь? Может. Лугам нужен дождь. А на этих – цветы. Странно, как все изменилось. По карте не скажешь. Воспоминания тоже вроде исчезли. Должно быть, Федр здесь не ездил. Но другой дороги нет. Странно. Продолжаем подъем.
Солнце подается к туче, которая уже расползлась до самого горизонта: там деревья, сосны и холодный ветер несет аромат хвои. Цветы на лугах волнуются от ветра, мотоцикл чуть кренится – и вдруг становится прохладно.
Смотрю на Криса, а он улыбается. Я тоже улыбаюсь.
И тут на дорогу рушится дождь – обалдеть, как пыль пахнет землей, которая ждала этого дождя слишком долго, и первые капли пятнают обочины.
Все так ново. И он так нужен, этот новый дождь. Одежда намокает, очки забрызганы, знобит, восхитительно. Туча выходит из-под солнца, сосновый лес и луга снова сияют, поблескивая там, где капельки ловят свет.
Высыхаем еще до перевала, но теперь прохладно; останавливаемся и глядим на огромную долину и реку внизу.
– Кажется, приехали, – произносит Джон.
Сильвия с Крисом уже бродят по лугу среди цветов, под соснами, за которыми виднеется дальний край долины – вдали и внизу.
Теперь я первооткрыватель, а подо мной – земля обетованная.
Часть 2
8
Около десяти утра, и я сижу возле мотоцикла на прохладной кромке тротуара в тенечке за гостиницей, которую мы обнаружили в Майлз-Сити, Монтана. Сильвия с Крисом в прачечной-автомате стирают всем белье. Джон где-то ищет козырек себе на шлем. Ему показалось, что он заметил такой в витрине мотомагазина вчера, когда въезжали в город. А я собираюсь немного подработать двигатель.
Сейчас мне хорошо. Приехли днем и сразу нацелились выспаться. Молодцы, что остановились. Мы так одурели от измождения, что сами не понимали, насколько вымотались. Когда Джон пытался зарегистрироваться, даже не смог вспомнить, как меня зовут. Девушка за стойкой поинтересовалась, не наши ли это «клевые сказочные мотоциклы» за окном, и мы оба так заржали, что она испугалась, не ляпнула ли чего лишнего. Но то был тупой смех от усталости. Бросить бы их просто на стоянке да прогуляться пешком для разнообразия.
И вымыться. В прекрасной старой ванне из эмалированного чугуна, что присела на львиных лапах посреди мраморного пола, дожидаясь нас. Вода была такой мягкой, что, казалось, я никогда не смою с себя мыло. Потом мы гуляли взад-вперед по центральным улицам, прямо как семья…
* * *
Я так часто регулировал машину, что это уже ритуал. Не надо раздумывать как. Главное – искать необычное. У двигателя появился шум, похожий на стук разболтанного толкателя, но, может, это и что похуже, – настроим и поглядим, исчезнет или нет. Толкатели надо подгонять в остывшем двигателе, а это значит, что где бы вечером ни оставил машину, там и придется работать наутро. Вот почему я сейчас сижу в тени на тротуаре за гостиницей в Майлз-Сити, Монтана. Воздух в тени прохладен – не нагреется еще с час, пока солнце не выйдет из-за деревьев, – и это хорошо, когда работаешь с мотоциклами. Очень важно не регулировать их на солнце или под вечер, когда мозги уже засорены, потому что, даже если делал это сотни раз, нужно быть все время на стреме, чтобы ничего не пропустить.
Не все понимают, насколько это рациональный процесс – уход за мотоциклом. Считается, что это некая «сноровка» или «склонность к машинам». Это правда, но сноровка – почти в чистом виде рассудочный процесс, а большинство неприятностей – от, как называли его в старину радисты, «замыкания между наушниками», неумения включать голову. Мотоцикл функционирует в полном соответствии с законами разума, и исследование искусства ухода за мотоциклом – по сути, исследование искусства рациональности в миниатюре. Вчера я говорил, что Федр гонялся за призраком рациональности и тот довел его до помешательства, но чтобы понять это, нельзя отрываться от земли, от примеров самой рациональности, чтоб не улететь в обобщения, которых больше никто не поймет. Разговор о рациональности может сильно сбивать с толку, если не говорить о том, с чем рациональность имеет дело.
И вот мы стоим у барьера между классическим и романтическим; по одну сторону видим непосредственный мотоцикл снаружи – и это важно, так видеть, – а по другую уже различаем в нем внутреннюю форму, как механик, и это тоже важный способ смотреть. Вот, например, инструменты – гаечный ключ, – у них своя романтическая красота, но цель всегда чисто классическая. Они созданы, чтобы изменять внутреннюю форму.
Фарфор в первой свече сильно потемнел. И классически, и романтически это безобразно, поскольку означает, что в цилиндре слишком много топлива и недостаточно воздуха. Молекулам углерода в бензине не хватает кислорода для связи, и они просто сидят, засоряя свечу. Вчера при въезде в город холостой ход был неравномерным – это симптом.
На всякий случай проверяю второй цилиндр. То же самое. Достаю складной нож, беру из канавы какую-то палочку и обстругиваю кончик, чтобы вычистить свечи, пытаясь разгадать, из-за чего они так засорились. Дело не в шатунах и не в клапанах. И карбюратор редко так барахлит. Главные жиклеры слишком большие, поэтому при больших скоростях засоряются, но раньше свечи с теми же самыми жиклерами были намного чище. Загадка. Вечно вокруг загадки. Но если попробуешь решить их все сразу, машину никогда не починишь. Ответа сразу не бывает, поэтому я оставляю вопрос.
Первый толкатель в порядке, регулировки не надо, и я перехожу к следующему. У меня куча времени, пока солнце не выйдет из-за деревьев… Я всякий раз будто в церкви, когда занимаюсь этим… Щуп – икона, и я вершу святой обряд. Он входит в набор, называемый «инструменты для точного измерения», что в классическом смысле имеет очень глубокое значение.
В мотоцикле точность поддерживается не ради романтики или перфекционизма, а просто потому, что огромные силы тепла и взрывного давления в двигателе можно контролировать лишь точностью, которую предоставляют эти инструменты. Каждый взрыв гонит соединительный шатун на коленвал с поверхностным давлением во много тонн на квадратный дюйм. Если шатун соответствует валу точно, взрывная сила распределяется плавно, и металл ее выдерживает. Но если есть зазор хотя бы в несколько тысячных дюйма, сила ударит внезапным молотом, и шатун, подшипник и поверхность коленвала вскоре станут плющиться, создавая шум, который сначала будет похож на стук разболтанных толкателей. Вот почему я это сейчас и проверяю. Если и впрямь разболтался шатун и я попытаюсь доехать до гор без капитального ремонта, вскоре стук станет громче, а потом шатун вырвется, ударит во вращающийся коленвал и уничтожит двигатель. Иногда сломавшиеся шатуны пробивают картер, и все масло выливается на дорогу. После этого остается только идти пешком.
Но все это можно предотвратить подгонкой на несколько тысячных дюйма, с точностью, которую дают измерительные инструменты, и в этом их классическая красота: не то, что видишь, а то, что они означают, на что они способны в смысле контроля внутренней формы.
Второй толкатель в порядке. Перебираюсь на ту сторону, что ближе к улице, и принимаюсь за другой цилиндр.
Точные инструменты предназначены для достижения идеи – пространственной точности, а ее совершенство невозможно. Не бывает совершенно сделанной детали мотоцикла и никогда не будет, но если приблизишься к совершенству, насколько это позволят точные инструменты, произойдет нечто замечательное – ты полетишь по земле с силой, которую можно считать волшебством, но она абсолютно и всесторонне рациональна. Тут главное – понимать эту рациональную интеллектуальную идею. Джон смотрит на мотоцикл и видит разнообразно выгнутую сталь, у него к этим стальным формам неприятие, и он отключается полностью. А я смотрю на эти формы стали и вижу идеи. Он думает, что я работаю с деталями. Я же работаю с понятиями.
Я упоминал об этих концепциях вчера: мотоцикл делится по компонентам и по функциям. Сказав это, я вдруг создал набор квадратиков, размещенных так:
А когда я сказал, что далее компоненты подразделяются на силовой агрегат и ходовую часть, квадратиков вдруг стало больше:
Видишь, всякий раз, когда я подразделяю, появляется все больше квадратиков, пока из них не складывается пирамида. В итоге становится понятно, что, деля мотоцикл на все более мелкие части, я строил его структуру.
Эта структура понятий формально называется иерархией, и с древних времен на ней покоилось все западное знание. Королевства, империи, церкви, армии – все структурировано в иерархии. Современный бизнес структурируется так же. Оглавления справочного материала – тоже, механические агрегаты, компьютерные программы, все научное и техническое знание так структурировано; вплоть до того, что в некоторых областях знания, например, в биологии, иерархия «тип – порядок – класс – род – вид» стала почти каноном.
Квадратик «мотоцикл» содержит квадратики «компоненты» и «функции». «Компоненты» содержат «силовой агрегат» и «ходовую часть» – и так далее. Есть много других структур, произведенных другими операторами, например «служить причиной». Здесь образуется длинная цепь: «А служит причиной Б, которое служит причиной В» – и так далее. Эта структура берется для функционального описания мотоцикла. «Существует», «равняется» и «подразумевает» деятеля дают уже другие структуры. Они обычно взаимосвязаны такими сложными и разветвленными узорами и тропами, что никому не под силу за всю жизнь понять их целиком – разве что часть. Общее название для этих взаимодействующих структур, род, в котором иерархия содержания и структура причинности всего лишь виды, – система. Мотоцикл – система. Настоящая система.
Говорить о правительстве и общественных институтах как о «системе» – это верно, поскольку они основаны на тех же структурных понятийных отношениях, что и мотоцикл. Они поддерживаются структурными взаимоотношениями, даже когда потеряли иное предназначение и смысл. Люди приходят на завод и без вопросов с восьми до пяти выполняют абсолютно бессмысленное задание, поскольку этого требует структура. Нет никакого негодяя, никакого «мерзкого типа», требующего, чтобы они жили бессмысленной жизнью, – этого желает структура, система, и никому неохота взваливать на себя невыполнимую задачу – изменить структуру лишь потому, что она бессмысленна.
Но снести завод, взбунтоваться против правительства или отказаться чинить мотоцикл потому, что это система, значит нападать на следствия, а не на причины; когда же нападают на одни следствия, никакая перемена невозможна. Подлинная система, настоящая система – нынешнее строение нашей систематической мысли, самой рациональности, и если завод снесен до основания, а рациональность, породившая его, осталась, она просто создаст еще один завод. Если революция уничтожает системное правительство, а системные шаблоны мышления, создавшие правительство, остаются, эти шаблоны воспроизведут себя в последующем правительстве. О системе так много болтают. И так мало понимают ее.
Вот и весь мотоцикл – всего лишь система понятий, сработанных в стали. В нем нет ни единой детали, ни единой формы, не порожденных чьим-то умом… толкатель номер три тоже в порядке. Остался один. Только бы загвоздка была в нем… Я заметил, что люди, никогда не имевшие дела со сталью, не способны увидеть того, что превыше прочего мотоцикл – явление умственное. Для них металл – это данные раз и навсегда формы: трубы, стержни, балки, орудия, детали, закрепленные и незыблемые; для них это в первую очередь явление физическое. Но тот, кто занимается механикой, литьем, ковкой или сваркой, видит, что «сталь» вообще не имеет формы. Она может быть любой формы, какую захочешь, если у тебя достаточно навыков, и любой формы, кроме желаемой, если у тебя их нет. Формы – как вот этот толкатель, к примеру, – суть то, к чему приходишь, что придаешь стали сам. В стали не больше формы, чем вот в этом комке грязи на двигателе. Все эти формы – из чьего-то ума. Вот что важно увидеть. Сталь? Черт, даже сталь – из чьего-то ума. В природе нет стали. Спроси у людей бронзового века. В природе есть лишь потенциал стали. И ничего больше. Но что такое «потенциал»? Он ведь тоже сидит у кого-то в уме!.. Призраки.
Вот что имел в виду Федр, утверждая, что все – в уме. Звучит безумно, если просто подскакиваешь и ляпаешь такое без всякой конкретики – например, без двигателя. Но если привяжешь высказывание к частному и конкретному, безумие скорее всего уйдет, и поймешь: Федр, пожалуй, говорил что-то важное.
Четвертый толкатель действительно слишком разболтан, так я и думал. Регулирую. Проверяю опережение-запаздывание и вижу, что здесь пока все в порядке, контакты еще не изъедены коррозией, поэтому их не трогаю, прикручиваю крышки клапанов, ставлю на место свечи и завожу двигатель.
Стук исчез, но это еще ничего не значит: масло пока холодное. Пусть поработает вхолостую, а я сложу инструменты; затем сажусь и еду в мотомагазин, который нам вчера вечером показал мотоциклист на улице: может, отыщутся звено регулятора цепи и новая резина для подножки. Крису, должно быть, не сидится – его подножки стираются быстрее.
Проезжаю пару кварталов – стука нет. Неплохо звучит, надеюсь, шума больше не будет. Хотя наверняка можно будет сказать только миль через тридцать. А до тех пор – и прямо сейчас – солнце светит ярко, воздух прохладен, у меня ясная голова, впереди – целый день, мы уже почти в горах, в такой день хорошо жить. Разреженный воздух тому причиной. Всегда так, если забираешься повыше.
Высота! Вот почему двигатель работает так натужно. Конечно же, наверняка из-за этого. Мы уже на высоте 2500 футов. Лучше перейти на стандартные жиклеры, их можно поставить за пару минут. И немного подрегулировать холостой ход. Дальше будет только выше.
Под тенистыми деревьями нахожу «Мотомастерскую Билла» – а самого Билла нет. Прохожий сообщает, что тот, «может, рыбу где-то ловит», а магазин оставил открытым. Мы и впрямь на Западе. В Чикаго или Нью-Йорке лавку бы так никто не бросил.
Захожу и вижу, что Билл – механик школы «фотографического ума». Все валяется где ни попадя. Ключи, отвертки, старые детали, старые мотоциклы, новые детали, новые мотоциклы, рекламные брошюры, камеры навалены так густо, что не видно верстаков. Я бы не смог работать в таких условиях, но это потому, что я – не механик фотографического ума. Вероятно, Билл поворачивается и вытаскивает из этой мешанины любой инструмент, не задумываясь. Я видел таких механиков. Спятить легче, наблюдая за ними, но работают не хуже остальных – а иногда и быстрее. Однако стоит сдвинуть хоть один инструмент на три дюйма влево – и такой механик будет искать его несколько дней.
Появляется Билл, чему-то ухмыляется… Конечно, у него есть жиклеры для моей машины, и он точно знает, где они лежат. Хотя придется секундочку обождать. Ему на заднем дворе надо завершить сделку по деталям к «харлею». Я иду с ним в сарай и вижу, что он продает по деталям целый «харлей» – кроме рамы, которая у покупателя уже есть. Все за 125 долларов. Недурная цена.
По пути назад замечаю:
– Чтобы собрать это, он кое-что узнает про мотоциклы.
Билл смеется:
– А иначе ничему и не научишься.
У него есть жиклеры и резина для подножки, но нет звена регулятора цепи. Ставит резину и жиклеры, регулирует холостой ход, и я возвращаюсь в отель.
Когда подъезжаю, Сильвия, Джон и Крис только спускаются с вещами. Судя по лицам, у них тоже хорошее настроение. Идем по главной улице, находим ресторан и заказываем стейки.
– Клевый городок, – говорит Джон, – очень клевый. Не думал, что такие еще остались. Я утром все облазил. У них тут есть бары для скотоводов, высокие сапоги, пряжки из серебряных долларов, «ливайсы», «стетсоны» и прочее… и все настоящее. Не ширпотреб… Утром в баре через квартал отсюда со мной заговорили так, будто я всю жизнь тут живу.
Берем по пиву. Вывеска с подковой на стене подсказывает, что мы на территории пива «Олимпия», поэтому заказываю его.
– Наверняка подумали, что я с ранчо или типа этого, – продолжает Джон. – А один старикан все твердил, как он ничего не оставит этим проклятым мальчишкам, – очень по кайфу было слушать. Ранчо отойдет к девчонкам, потому что проклятые мальчишки спускают все до цента у Сюзи. – Джон захлебывается от смеха. – Жалеет теперь, что вообще их вырастил, ну и так далее. Я думал, такого нет уже лет тридцать, а оно все живет.
Приходит официантка со стейками, и мы кромсаем их ножами. От возни с мотоциклом разыгрался аппетит.
– И вот еще кое-что интересное, – произносит Джон. – В баре говорили о Бозмене, куда мы едем. Губернатор Монтаны составил список из пятидесяти радикальных преподавателей тамошнего колледжа, которых собрался увольнять. А потом погиб в авиакатастрофе[7].
– Это было давно, – отвечаю я. Стейки очень хороши.
– Я и не знал, что в этом штате столько радикалов.
– В этом штате всякие есть, – говорю я. – Но то была просто правая политика.
Джон тянется к солонке.
– Здесь проезжал журналист из вашингтонской газеты, и вчера вышла его колонка, где он это упомянул, поэтому сегодня столько разговоров. Президент колледжа подтвердил.
– А список напечатали?
– Не знаю. Ты кого-то знал?
– Если там пятьдесят имен, – говорю я, – мое наверняка тоже есть.
Оба смотрят на меня с некоторым удивлением. На самом деле я не знаю об этом почти ничего. То был, конечно, он, и потому с изрядной долей фальши я объясняю, что «радикал» в округе Гэллатин, штат Монтана, несколько отличается от радикала в других местах.
– В том колледже, – рассказываю я, – вообще-то запретили жену президента Соединенных Штатов – из-за того, что она «слишком своеобразна».
– Кого?
– Элеанор Рузвельт.
– Боже мой, – смеется Джон, – вот это дикость.
Они хотят, чтоб я еще что-нибудь рассказал, но мне трудно. Потом вспоминаю кое-что:
– В такой ситуации настоящий радикал прикрыт идеально. Он может делать что угодно, и все ему будет сходить с рук, поскольку оппозиция уже выставила себя ослами. На их фоне он по-любому будет хорошо смотреться, что бы ни говорил.
На выезде минуем городской парк: я заметил его вчера вечером – и пряди памяти сплелись. Просто видение – смотрю вверх, в кроны деревьев. Однажды он спал на скамейке в этом парке на пути в Бозмен. Вот почему я не узнал вчера этого леса. Он ехал ночью – ехал в бозменский колледж.
9
Мы пересекаем Монтану по Йеллоустоунской долине. Среднезападные кукурузные поля сменяют западную полынь и наоборот – все зависит от речного орошения. Иногда поднимаемся на кручи, куда вода не доходит, но обычно стараемся держаться у реки. Проезжаем знак, где написано что-то про Льюиса и Кларка[8]. Кто-то из них поднимался сюда при вылазке, отклонившись от Северо-Западного перехода.
Приятно звучит. Как раз для шатокуа. У нас сейчас тоже что-то вроде Северо-Западного перехода. Снова проезжаем поля и пустыню, а день клонится к вечеру.
Я хочу пойти дальше за призраком, которого преследовал Федр, – за самой рациональностью, за этим скучным, сложным, классическим призраком внутренней формы.
Утром я говорил об иерархиях мысли – о системе. Сейчас хочу поговорить о том, как искать пути через эти иерархии, – о логике.
Пользуются двумя видами логики: индуктивной и дедуктивной. Индуктивные умозаключения начинаются с наблюдений за машиной и ведут к общим выводам. Например, мотоцикл подскакивает на ухабе и двигатель дает сбой зажигания, потом мотоцикл подскакивает на другом ухабе, и двигатель дает сбой, потом опять подскакивает на ухабе, и опять сбой, потом мотоцикл едет по длинному гладкому отрезку пути, и сбоев нет, а потом снова подскакивает на ухабе, и двигатель пропускает зажигание снова. Тут можно логически заключить: причиной сбоев зажигания служат ухабы. Это индукция – рассуждение от конкретного опыта к общей истине.
Дедуктивные умозаключения – наоборот. Начинают с общих знаний и предсказывают частный случай. Например, если из чтения иерархии фактов о машине механик знает, что клаксон мотоцикла питается исключительно электричеством от аккумулятора, он может логически заключить, что, если аккумулятор сел, клаксон работать не будет. Это дедукция.
Проблемы, слишком сложные для здравого смысла, решаются длинными цепочками смешанных индуктивных и дедуктивных умозаключений: они вьются туда-обратно между наблюдаемой машиной и мысленной иерархией машины, которая есть в инструкциях. Верная программа этого плетения формализуется в виде научного метода.
Вообще-то в уходе за мотоциклом я никогда не встречал проблемы, которая требовала бы применять полноценный формальный научный метод. Ремонт не очень сложен. При мысли о формальном научном методе на ум иногда приходит образ гигантского джаггернаута, громадного бульдозера – медленного, нудного, неуклюжего, прилежного, но неуязвимого. Ему требуется вдвое, впятеро, может, даже вдесятеро больше времени, чем умениям неформального механика, но с ним знаешь, что в конце все-таки получишь результат. Ни одна проблема определения неисправности в уходе за мотоциклом против него не устоит. Натыкаешься на загвоздку, пробуешь все, ломаешь голову и ничего не получается – тогда понимаешь, что на сей раз Природа решила капризничать, и говоришь: «Ладно, Природа, не хочешь по-хорошему – будем по-плохому». И включаешь формальный научный метод.
Для этого заводишь лабораторный журнал. И туда все записываешь – формально, чтобы постоянно знать, где находишься, где был, куда идешь и куда хочешь попасть. В научной работе и электронике это необходимо, поскольку иначе проблемы так запутаются, что в них потеряешься, заплутаешь, забудешь, что знал и чего не знал, и придется все бросить. В уходе за мотоциклом все не так сложно, но когда начинается путаница, неплохо как-то ее придержать – формальность и точность помогают. Иногда простое действие – запись проблем – направляет мозги в нужную сторону, и понимаешь, в чем, собственно, проблема.
Логические утверждения, вносимые в журнал, делятся на шесть категорий: (1) постановка проблемы, (2) гипотезы о причине проблемы, (3) эксперименты для проверки каждой гипотезы, (4) предсказанные результаты экспериментов, (5) наблюдаемые результаты экспериментов и (6) выводы из этих результатов. Ничем не отличается от формальной организации лабораторных тетрадей в колледжах и старших классах, но цель здесь – не артель напрасный труд, а точное руководство мыслями. Оно не принесет успеха, если записи будут неточны.
Подлинная цель научного метода – удостовериться, что Природа не направила тебя по ложному пути, не внушила, будто ты знаешь то, чего на самом деле не знаешь. Не бывает таких механиков, ученых и вообще технарей, которые бы от этого не страдали, поэтому все инстинктивно оберегаются. Вот главным образом почему так часто научная и механическая информация скучна и опаслива. Допустишь небрежность, вздумаешь романтизировать научную информацию, добавляя там и сям завитушки, – и Природа вскоре выставит тебя круглым дураком. Она и без того так поступает нередко, даже если не даешь ей повода. В делах с Природой нужны крайняя осторожность и строгая логика: один логический промах – и рушится вся научная доктрина. Одно ложное дедуктивное заключение о машине – и зависаешь на неопределенное время.
В Части Первой формального научного метода, при постановке проблемы, главное умение – категорически утверждать не более того, в чем убежден. Гораздо лучше записать: «Решить Проблему: почему не работает мотоцикл?» – что звучит тупо, но является верным, – чем «Решить Проблему: что случилось с системой электропитания?» – хотя ты не уверен абсолютно, в электричестве ли дело. Нужно вписывать: «Решить Проблему: что случилось с мотоциклом?», а потом уже вносить первый пункт в Часть Два: «Гипотеза Номер Один: Неполадка в системе электропитания». Перечисляешь столько гипотез, сколько приходит в голову, затем разрабатываешь эксперименты, чтобы проверить их и понять, какие истинны, а какие ложны.
Такой осторожный подход к изначальным вопросам не дает свернуть радикально не туда, от чего на работу может уйти много лишних недель, а то и зависнешь вовсе. Именно поэтому научные вопросы с виду часто выглядят тупыми – их задают, чтобы в дальнейшем избежать тупых ошибок.
Часть Три – ту часть формального научного метода, которую называют экспериментированием, – романтики нередко принимают за саму науку, ибо только у нее большая визуальная поверхность. Романтики видят кучу пробирок, хитрое оборудование и людей, которые бегают вокруг и делают открытия. Эксперимент для романтиков не входит в более обширный интеллектуальный процесс, и они часто путают эксперименты с демонстрациями, очень похоже. Тот, кто проводит сенсационный научный показ на франкенштейновском оборудовании стоимостью полсотни тысяч долларов, не совершает ничего научного, если заранее знает результат. Напротив, мотомеханик, жмущий на клаксон проверить, работает ли аккумулятор, неформально проводит подлинный научный эксперимент. Он проверяет гипотезу, ставя Природе вопрос. Ученый из телепостановки, который печально бормочет: «Эксперимент не удался, мы не достигли того, на что надеялись», – в основном страдает от плохого сценариста. Эксперимент никогда не бывает неудачным лишь потому, что не достигает предсказанных результатов. Эксперимент неудачен, только если им не удается адекватно проверить гипотезу – если его данные ничего не доказывают.
Вот тут все мастерство – в том, чтобы эсперимент проверял лишь гипотезу под вопросом, не меньше и не больше. Если клаксон клаксонит и механик заключает, что вся электрическая система исправна, у механика большие неприятности. Он пришел к нелогичному выводу. Действующий клаксон говорит лишь о том, что работают только клаксон и аккумулятор. Чтобы разработать эксперимент как подобает, механику придется очень строго думать о том, что служит непосредственной причиной чего. Это нам уже известно из иерархии. Не клаксон приводит мотоцикл в движение. И не аккумулятор, разве что очень опосредованно. Но есть точка, где непосредственной причиной зажигания в двигателе служит электрическая система, – свечи зажигания, и если не проверить здесь, на выходе электрическую систему, никогда и не поймешь, электрическая у тебя неисправность или нет.
Чтобы проверить все как подобает, механик вынимает свечу и кладет ее у двигателя так, чтобы корпус свечи заземлился на двигатель, нажимает на рукоятку стартера и смотрит, появится ли в искровом пространстве свечи голубая искра. Если ее нет, он может сделать один из двух выводов: а) неполадка в электросистеме, б) эксперимент небрежен. Если механик опытен, он попробует еще несколько раз, проверит все контакты, пытаясь любым мыслимым способом зажечь свечу. Но если все-таки не удается, он наконец приходит к тому, что вывод «а» верен: в электросистеме неисправность, эксперимент окончен. Механик доказал, что его гипотеза верна.
В последней категории, в заключениях, главное – утверждать не более того, что доказал эксперимент. Он, к примеру, не доказал, что после ремонта электрической системы мотоцикл заведется. Неполадки могут быть и в другом. Но механик знает, что мотоцикл не поедет, пока не заработает электричество, поэтому ставит следующий формальный вопрос: «Решить Проблему: что случилось с системой электропитания?»
После чего формулирует и проверяет новые гипотезы. Задавая нужные вопросы, выбирая нужные тесты и делая правильные выводы, механик прокладывает себе путь сквозь эшелоны мотоциклетной иерархии, пока не находит точную конкретную причину или причины неполадки двигателя; затем он изменяет их так, чтобы они больше не приводили к неисправности.
Нетренированный наблюдатель видит лишь физический труд, и у него часто создается впечатление, что механик только им и занят. На самом деле физический труд – мельчайшая и легчайшая часть того, что делает механик. Гораздо большая часть его работы – тщательное наблюдение и точное мышление. Поэтому иногда механики так неразговорчивы и так глубоко уходят в себя при испытаниях. Им не нравится, если с ними разговаривают, потому что они сосредоточены на мысленных образах, иерархиях и вообще не смотрят ни на тебя, ни на физический мотоцикл. Для них эксперимент – часть программы расширения их собственной иерархии знания о неисправном мотоцикле и сравнения ее с правильной иерархией у них в уме. Они смотрят на внутреннюю форму.
Навстречу нам едет автомобиль с трейлером – и не успевает вернуться на свою полосу движения. Мигаю фарой, чтоб он нас точно заметил. Он-то заметил, но съехать не может. Обочина узкая и бугристая. Свалимся, если выедем на нее. Жму на тормоза, сигналю, мигаю. Боже всемогущий, он паникует и целит на нашу обочину! Я упорно держусь края дороги. ВОТ он! В последний миг отруливает и проходит в нескольких дюймах от нас.
Впереди по дороге катается картонная коробка, еще издали видно. Свалилась с чьего-то грузовика, очевидно.
Вот теперь нас пробивает. Ехали бы в машине – столкнулись бы лоб в лоб. Или свалились бы в канаву.
Въезжаем в городок – он как посреди какой-нибудь Айовы. Вокруг высокая кукуруза, в воздухе тяжелый дух удобрений. Ставим мотоциклы и заходим в огромное старое заведение с высокими потолками. На сей раз к пиву я заказываю все закуски, что у них только есть, и мы устраиваем запоздалый обед: арахис, попкорн, соленые крендельки, картофельные чипсы, сушеные анчоусы, какая-то копченая рыбка с кучей мелких косточек внутри, «тощие Джимы» и «длинные Джоны», пепперони, «фрито», «пивные орешки», колбасный паштет, шкварки и кунжутные крекеры с наполнителем, чей вкус я не могу определить.
Сильвия произносит:
– Меня до сих пор трясет.
Почему-то решила, что наш мотоцикл превратился в картонную коробку и мотыляется по всей трассе.
10
А в долине, куда выезжаем, небо видно только меж утесов по берегам реки, но теперь они ближе, чем утром, – и друг к другу, и к нам. Долина сужается, чем ближе мы к верховьям.
Помимо прочего, мы доехали до некой отправной точки. Вот здесь и можно наконец повести рассказ об отрыве Федра от основного течения рациональной мысли в погоне за призраком самой рациональности.
Он читал одну вещь – и повторял про себя столько раз, что текст сохранился в целости. Начинается так:
Храм науки – строение многосложное. Различны пребывающие в нем люди и приведшие их туда духовные силы.
Некоторые занимаются наукой с гордым чувством своего интеллектуального превосходства; для них наука является тем подходящим спортом, который должен им дать полноту жизни и удовлетворение честолюбия. Можно найти в храме и Других: плоды своих мыслей они приносят здесь в жертву только в утилитарных целях. Если бы посланный Богом ангел пришел в храм и изгнал из него тех, кто принадлежит к этим двум категориям, то храм катастрофически опустел бы. Все-таки кое-кто из людей как прошлого, так и нашего времени в нем бы остался… Если бы существовали только люди, подобные изгнанным, храм не поднялся бы, как не мог бы вырасти лес из одних лишь вьющихся растений… Но обратим вновь свой взгляд на тех, кто удостоился милости ангела. Большинство из них – люди странные, замкнутые, уединенные; несмотря на эти общие черты, они в действительности сильнее разнятся друг от друга, чем изгнанные.
Что привело их в храм? Нелегко на это ответить, и ответ, безусловно, не будет одинаковым для всех… Желание уйти от будничной жизни с ее мучительной жестокостью и безутешной пустотой, уйти от уз вечно меняющихся собственных прихотей. Эта причина толкает людей с тонкими душевными струнами от личных переживаний в мир объективного видения и понимания. Эту причину можно сравнить с тоской, неотразимо влекущей горожанина из шумной и мутной окружающей среды к тихим высокогорным ландшафтам, где взгляд далеко проникает сквозь неподвижный чистый воздух и наслаждается спокойными очертаниями, которые кажутся предназначенными для вечности.
Отрывок из речи, произнесенной в 1918 году молодым немецким ученым по имени Альберт Эйнштейн[9].
Федр окончил свой первый курс университетской науки в пятнадцать лет. Его областью уже тогда была биохимия, и он намеревался изучать взаимодействие органического и неорганического миров, известное теперь как молекулярная биология. Он не считал это карьерой, не думал о личном продвижении. Он был очень молод, и это стало для него некой благородной идеалистической целью.
Душевное состояние, способствующее такому труду, подобно религии или влюбленности: ежедневное старание проистекает не из какого-то намерения или программы, а из непосредственной потребности.
Вступи Федр в науку в угоду амбициям или пользы ради, ему, возможно, никогда бы не пришло в голову задавать вопросы о природе научной гипотезы как сущности в себе. Но он их задал, и ответы его не удовлетворили.
Возникновение гипотез – самая таинственная категория научного метода. Никто не знает, откуда они берутся. Человек сидит, занимается своим делом и вдруг – бац! – понимает то, чего не понимал раньше. Пока гипотеза не проверена, она не истинна. Ибо происходит она не из тестов. Ее источник – в чем-то другом.
Эйнштейн сказал:
Человек стремится каким-то адекватным способом создать в себе простую и ясную картину мира для того, чтобы оторваться от мира ощущений, чтобы в известной степени попытаться заменить этот мир созданной таким образом картиной На эту картину и ее оформление человек переносит центр тяжести своей духовной жизни, чтобы в ней обрести покой и уверенность, которые он не может найти в слишком тесном головокружительном круговороте собственной жизни… Высшим долгом… является поиск тех общих элементарных законов, из которых путем чистой дедукции можно получить картину мира. К этим законам ведет не логический путь, а только основанная на проникновении в суть опыта благожелательная интуиция…
Интуиция? Благожелательная? Странные слова для происхождения научного знания.
Ученый помельче Эйнштейна, возможно, сказал бы: «Но научное знание отталкивается от природы. Это природа снабжает нас гипотезами». Эйнштейн же понимал, что это не так. Природа снабжает нас только экспериментальными данными.
Меньший ум, вероятно, затем сказал бы: «Ну, тогда гипотезы дает человек». Но Эйнштейн и это отвергал. «Никто, – говорил он, – из тех, кто действительно углублялся в предмет, не станет отрицать, что теоретическая система практически однозначно определяется миром наблюдений, хотя никакой логический путь не ведет от наблюдений к основным принципам теории».
Федр пошел на прорыв, когда, накопив лабораторный опыт, заинтересовался гипотезами как сущностями в себе. Снова и снова замечал он в своей лабораторной работе: казалось бы, придумать гипотезу в науке сложнее всего, однако это неизменно легче всего. Гипотезы вроде как выдвигались в самом акте формальной записи, точной и ясной. Когда Федр проверял экспериментально гипотезу номер один, в уме возникал поток других гипотез; пока проверял их, в голову приходили еще, а когда начинал проверять эти, гипотез появлялось еще больше. Пока не становилось до боли очевидно, что, если и дальше проверять гипотезы, снимая или подтверждая их, число гипотез не уменьшится. По ходу дела их количество только растет.
Сначала его это забавляло. Он изобрел закон, который с юмором закона Паркинсона утверждал, что «количество рациональных гипотез, способных объяснить любое данное явление, бесконечно». Федру нравилось не испытывать недостатка в гипотезах. Даже когда все возможные методы экспериментальной работы вроде бы заводили в тупик, он знал, что, если просто сядет и повозится с работой еще сколько-то, новая гипотеза возникнет неизбежно. И она всегда возникала. Только через много месяцев у Федра зародились сомнения насчет юмора или полезности придуманного им закона.
Если закон этот истинен, то он – не просто незначительный просчет в научном мышлении. Он отрицает все. Он – катастрофическое логическое опровержение всей ценности научного метода!
Если цель научного метода – выбор из множества гипотез, а количество гипотез растет быстрее, чем с ними справляется экспериментальный метод, ясно, что всех гипотез никогда не проверить. Если всех гипотез никогда не проверить, результаты любого эксперимента недоказательны, а весь научный метод не достигает своей цели – установления доказанного знания.
Об этом Эйнштейн сказал: «История показала, что из всех мыслимых построений в данный момент только одно оказывается преобладающим», – и на этом все. Федр считал, что это неописуемо слабый ответ. Его просто потряс оборот «в данный момент». Эйнштейн, выходит, полагает, что истина – функция времени? Утверждать такое – уничтожать самое основное допущение всей науки!
Но вот же она – вся история науки, ясный сюжет вечно меняющегося и всякий раз нового объяснения старых фактов. Временные периоды постоянства совершенно произвольны, порядка в них Федр не видел. Одни научные истины держатся веками, другие – меньше года. Научная истина – не догма в аккурат для вечности, а временная количественная сущность, которую можно изучать как что угодно.
Он изучил научные истины и расстроился еще больше, заподозрив причину их недолговечности. Похоже, временные периоды научных истин обратно пропорциональны интенсивности научного усилия. Так научные истины ХХ века, судя по всему, живут меньше истин века прошлого, ибо научная деятельность теперь значительно активнее. Если в следующем веке научная активность возрастет в десять раз, срок жизни любой научной истины, возможно, еще в десять раз сократится. Жизнь существующей истины укорачивается объемом гипотез, призванных ее заменить; чем больше гипотез, тем короче срок жизни истины. А количество гипотез в последние десятилетия растет из-за самого научного метода. Чем больше смотришь, тем больше видишь. Не выбираешь одну истину из множества, а увеличиваешь множество. Логически это значит, что, пока стараешься двигаться к неизменной истине посредством научного метода, на самом деле ты вовсе к ней не движешься. Движешься от нее! И под воздействием твоего научного метода она меняется!
Федр своими глазами наблюдал явление, глубоко характерное для истории науки, но долгие годы его заметали под ковер. Прогнозируемые результаты научного исследования и его действительные результаты диаметрально противоположны, и на это, похоже, никто не обращает внимания. Цель научного метода – выбрать единственную истину из множества гипотетических. Вся наука главным образом к этому и сводится. Однако исторически наука занималась как раз обратным. Через умножение фактов, информации, теорий и гипотез она ведет человечество от единственных абсолютных истин ко множественным, неопределенным и относительным. Сама наука есть основной производитель общественного хаоса, неопределенности мысли и ценностей, которые должно упразднить рациональное знание. Федр видел это в тиши собственной лаборатории много лет назад, а теперь в мире современной техники оно повсюду. Научно произведенная антинаука – хаос.
Сейчас можно чуть вернуться и понять, почему эта личность важна в контексте разделения классической и романтической реальностей и их непримиримости. В отличие от множества романтиков, обеспокоенных хаотическими переменами, которые навязывают человеческому духу наука и техника, Федр со своим научно тренированным классическим умом мог не просто смятенно заламывать руки, убегать или облыжно бранить ситуацию, не предлагая никаких решений.
Если помнишь, в конце концов он предложил несколько решений, но проблема оказалась настолько глубока, внушительна и сложна, что никто не понял всей серьезности того, что он решал, а потому никто и не понял – ни правильно, ни даже неправильно – того, что он говорил.
Причина нынешнего общественного кризиса, сказал бы он, – генетический дефект в природе самого разума. И пока этот дефект не исправят, кризисы не прекратятся. Теперешние наши режимы мышления не продвигают общество к лучшему миру, а уводят все дальше от него. Эти режимы работают с Возрождения. И будут работать, пока доминирует нужда в пище, одежде и крове. Но теперь, когда для огромных масс людей нужды эти больше не затмевают всего остального, вся структура разума, доставшаяся нам в наследство от древности, уже неадекватна. Ее все больше ценят по номиналу – как эмоционально полую, эстетически бессмысленную и духовно пустую. Вот к чему она пришла сегодня и вот какой еще долго пребудет.
У меня перед глазами стоит непрерывно бушующий общественный кризис, чьей глубины никто по-настоящему не понимает – не говоря уж о том, что ни у кого нет решений. Я вижу людей типа Джона и Сильвии – потерянных и отчужденных от всей рациональной структуры цивилизованной жизни, они ищут решения за пределами этой структуры, но не находят ни единого по-настоящему удачного и долговечного. И потом у меня перед глазами встает одиночка Федр и его ни к чему не привязанные лабораторные абстракции: они – все о том же кризисе, но произрастают из другой точки и движутся в другую сторону. А я пытаюсь собрать их воедино. Непосильная задача, поэтому иногда кажется, что я сбиваюсь с темы.
С кем бы Федр ни разговаривал, явление, что его так озадачивало, не беспокоило больше никого. Собеседники будто бы говорили: «Мы знаем, что научный метод действен, – так зачем ставить его под сомнение?»
Федр не понимал такого отношения, не знал, что с ним делать, и – поскольку науку он постигал не в личных или утилитарных целях, – эт вырубило его полностью. Точно созерцаешь этот безмятежный горный пейзаж Эйнштейна, как вдруг горы раскалывает трещина, провал в чистое ничто. И медленно, мучительно, чтобы объяснить эту расщелину, Федр вынужден был признать, что горы, вроде бы выстроенные на века, может, и не горы вовсе… а просто глюки его собственного воображения. Вот это его и вырубило.
И вот так Федр, в пятнадцать лет окончивший первый курс, в семнадцать вылетел из университета за провал на экзаменах. Официальными причинами назвали незрелость и недостаточное прилежание.
Что уж тут поделаешь – ни предотвратить, ни поправить. Университет не стал бы держать его ценой полного отказа от своих норм.
Ошеломленный Федр пустился в долгий боковой дрейф, который и привел его на дальнюю орбиту разума, но постепенно вернул к дверям самого университета тем маршрутом, которым мы сейчас едем. Завтра попробую двинуться по этому пути.
В Лореле, где наконец видно горы, останавливаемся на ночлег. Вечерний ветерок прохладен. Спускается от снегов. Хотя солнце исчезло за горами где-то с час назад, небо хорошо освещается из-за хребта.
Сильвия, Джон, Крис и я идем по длинной главной улице в сгущающихся сумерках и присутствие гор ощущаем, даже говоря совсем о другом. Я счастлив, что мы здесь – и все же как-то грустно. Иногда лучше ехать, чем приезжать.
11
Просыпаюсь в недоумении: мы у гор, но я об этом знаю, потому что помню – или потому что здесь что-то неуловимое? Мы – в прекрасном старом номере, облицованном деревом. Солнце освещает темную полировку сквозь жалюзи, но даже с закрытыми окнами чувствую, что горы – рядом. В этой комнате горный воздух, он прохладен, влажен и почти благоухает. Один глубокий вдох уже готовит меня к следующему, потом еще к одному, и с каждым глубоким вдохом я готов все больше, пока не спрыгиваю с кровати, не поднимаю штору и не впускаю внутрь солнце – блистательное, прохладное, яркое, резкое и ясное.
Растет желание подойти и растолкать Криса, растрясти его, чтоб он все это увидел, но из доброты – а то и уважения – ему дозволяется поспать еще немного. Поэтому с мылом и бритвой в руке иду в общую умывальню на другом конце длинного коридора из того же темного дерева, и на всем пути под ногами скрипят половицы. В умывальне кипяток парит и булькает в трубах: сначала бриться слишком горячо, а потом мешаю его с холодной водой – и просто прекрасно.
За окном, что над зеркалом, вижу открытую веранду на заднем дворе и, закончив, выхожу постоять там. Веранда на одном уровне с верхушками деревьев вокруг гостиницы, и на них этот утренний воздух, похоже, действует так же, как на меня. Ветви и листва колышутся от каждого легкого дуновения, словно все время его ждали.
Крис вскоре тоже встает, а Сильвия выходит из номера и говорит, что они с Джоном уже позавтракали, он где-то гуляет, а она проводит нас с Крисом в ресторан.
Сегодня мы во все влюблены, и на солнечной улице по дороге болтаем о чем-то хорошем. Яйца, горячие кексы и кофе – божественны. Сильвия и Крис вполголоса беседуют о его школе и друзьях, о чем-то личном, а я их слушаю, глазею из огромного ресторанного окна на витрину магазина через дорогу. Как не похоже на тот одинокий вечер в Южной Дакоте. За домами – горы и снежные равнины.
Сильвия говорит, что Джон узнавал у кого-то в городе про другую дорогу в Бозмен – южнее, через Йеллоустоунский парк.
– Южнее? – переспрашиваю я. – Через Ред-Лодж?
– Наверное.
Возвращается память о равнинах, заснеженных в июне.
– Эта дорога идет намного выше границы лесов.
– Это плохо? – спрашивает Сильвия.
– Будет холодно. – Перед глазами возникают мотоциклы посреди снежных равнин – это мы сами на них едем. – Но просто великолепно.
Встречаемся с Джоном и все решаем. Вскоре после короткого тоннеля под железной дорогой уже едем по извилистому асфальту по полям к горам. Здесь постоянно ездил Федр, и проблески его воспоминаний вспыхивают у меня в голове, куда ни гляну. Впереди вырастает высокий, темный хребет Абсарока.
Едем вдоль реки к ее истоку. Вода в ней, вероятно, еще час назад была снегом. Поток и дорога пересекают зеленеющие и каменистые поля, каждое чуть выше предыдущего. Под таким солнцем все очень насыщенно: темные тени, яркий свет. Густо-синее небо. Солнце яркое и жаркое, когда выезжаем из тени, но стоит снова заехать под придорожные деревья, становится холодно.
По пути играем в салки с маленьким синим «поршем»: то мы его, бибикнув, обгоняем, то он нас, и так раз за разом, через поля с темными осинами и яркой зеленью трав и горных кустарников. Все это помнится.
Он ездил этой дорогой на высокогорья, чтобы потом с рюкзаком уйти прочь от дороги на три, четыре или пять дней, затем опять вернуться за провизией и опять уйти; эти горы были ему нужны почти физиологически. Цепь его абстракций стала такой длинной и запутанной, что ему требовались здешние тишина и пространство, чтобы ее не терять. Будто строишь что-то много часов подряд, а стоит чуть отвлечься – и вся постройка разлетится вдребезги. Даже до безумия это не походило на размышления других людей. Он мыслил на том уровне, где все смещается и изменяется, установленные ценности и истины исчезают и ничто тебя не поддерживает – только сила духа. Самая первая неудача полностью освободила его: он больше не обязан был думать по правилам, и мысли его уже обрели независимость, с какой мало кто знаком. Федр понимал, что институты – школы, церкви, правительства и политические организации всех видов – стремились направить мысль на цели, отличные от истины: на увековечение собственных функций и контроль над теми, кто эти функции обслуживает. Свою начальную неудачу он счел счастливым отрывом, случайным побегом из расставленной ловушки; все оставшееся время он чутко вынюхивал такие ловушки установленных истин. Сначала, однако, он этого не видел и так не думал – это началось потом. Что-то я сбился с курса. Все это пришло гораздо позже.
Сначала истины, за которыми погнался Федр, были боковыми: не фронтальные истины науки, не те, на которые указывает дисциплина, а те, что видишь боковым зрением, краем глаза. В лаборатории, когда вся процедура сметана на живую нитку, когда все идет не так, или неопределенно, или так испорчено неожиданными результатами, что ты не в силах разобраться, – начинаешь смотреть вбок. Так Федр потом описывал рост знания – оно не движется вперед, как стрела в полете, а расширяется в стороны, будто стрела в полете увеличивается. Или же стрелок соображает, что хоть он и попал в яблочко и получил свой приз, но голова его лежит на подушке, а в окно струится утренний свет. Боковое знание является с совершенно неожиданной стороны – ты вообще не осознаешь, что это направление, пока оттуда в тебя не вторгается знание. Боковые истины указывают на фальшь аксиом и постулатов, на которых покоится чья-то уже существующая система поисков истины.
Казалось бы, он просто плыл по течению. Он и вправду просто плыл по течению. Воле течения отдаются, когда смотрят на боковые истины. В поисках причины Федр не мог следовать ни одной известной методике, потому что сами методики поисков были испорчены. Вот он и плыл по течению. Только это и оставалось.
Течение привело его в армию, армия отправила в Корею. Остался обрывок его воспоминания: стена через туманную гавань – ее видно с бака корабля, она ярко сверкает, подобно вратам небесным. Должно быть, Федр очень дорожил этим обрывком и часто о нем думал: картинка очень яркая, ослепительно яркая, хотя ни к чему больше не привязана; я и сам много раз к ней возвращался. Похоже, она символизирует что-то очень важное, какой-то поворотный пункт.
Его письма из Кореи сильно отличаются от всего написанного раньше – и это знак того же поворота. Они просто взрываются эмоциями. Страницу за страницей он заполняет крохотными деталями увиденного: рынки, лавки с раздвижными дверями, шиферные крыши, дороги, хижины, крытые соломой, все. Когда в диком энтузиазме, когда подавленный, когда рассерженный, а когда и с юмором, он всегда напоминает некое существо, нашешее выход из клетки, которой оно раньше даже не замечало, и теперь этот зверь в восторге блуждает по окрестностям и зрительно поглощает все, что попадется на глаза.
Впоследствии он подружился с корейскими рабочими, которые говорили немного по-английски, но хотели выучить больше, чтобы их наняли переводчиками. После службы он проводил время с ними, а взамен они на выходных брали его с собой в долгие походы по холмам, показывали ему свои дома и друзей, переводили образ жизни и мысли другой культуры.
Вот он сидит у тропы на прекрасном, продуваемом ветрами склоне холма, обращенном к Желтому морю. На террасе под тропою рис уже вырос и побурел. Вместе с Федром друзья смотрят на море и видят острова вдалеке. Обедают по-походному и беседуют друг с другом и с ним, а тема разговора – идеографы и их отношение к миру. Федр отмечает, как удивительно, что все во Вселенной можно описать двадцатью шестью их письменными знаками. Друзья кивают, улыбаются, едят что-то из консервных банок и любезно говорят «нет».
Он смущен кивком – «да» – и ответом – «нет» – и повторяет опять. И снова – кивок, означающий «да», и ответ – «нет». На этом отрывок кончается, но, как и о стене, он часто об этом думает.
Последний яркий отрывок воспоминаний об этой части света – отсек военного транспорта. Федр возвращается домой. Здесь пусто и необжито. Федр один, на полотняной койке, привязанной к железной раме и похожей на батут. Таких в ряду пять, и они ряд за рядом заполняют весь пустой воинский отсек.
Это передний отсек корабля, и натянутое полотно на соседних рамах вздымается и опускается, а желудок при этом екает, будто едешь в лифте. Федр созерцает такую картину и, слушая гулкий грохот по стальным пластинам обшивки, осознает: лишь картина эта и говорит ему, что весь отсек массивно возносится в воздух, а потом обрушивается вниз, снова и снова. Может, потому и трудно сосредоточиться на книге. Нет, просто книга трудная. Текст по восточной философии, труднее он ничего не читал. Он рад одиночеству и скуке в пустом отсеке для перевозки войск – иначе он бы ее никогда не осилил.
В книге утверждается, что есть некий теоретический компонент человеческого существования – в основном западный (и это соответствует лабораторному прошлому Федра), – и некий эстетический компонент, который легче увидеть на Востоке (и это соответствует его корейскому прошлому). Компоненты эти, судя по всему, никогда не смыкаются. Эти понятия – «теоретический» и «эстетический» – более или менее совпадают с тем, что Федр позднее назвал классическим и романтическим способами существования реальности и, видимо, повлияли на его терминологию больше, чем Федр сознавал. Разница в том, что классическая реальность в первую очередь теоретична, но обладает и своей эстетикой. Романтическая реальность в первую очередь эстетична, но и у нее есть своя теория. Разрыв теоретического и эстетического есть разрыв между компонентами одного мира. Разрыв классического и романтического – разрыв между мирами. Книга по философии, которая называется «Встреча Востока и Запада» Ф. С. К. Нортропа[10], предлагает лучше познавать «неопределенный эстетический континуум», из которого уже возникает теоретический.
Федр этого не понял, но, приплыв в Сиэтл и демобилизовавшись, целых две недели просидел в гостиничном номере, поедая огромные вашингтонские яблоки и размышляя; потом еще поел яблок и еще подумал, а потом, после всех этих обрывков воспоминаний и раздумий, вернулся в университет изучать философию. Боковой дрейф закончился. Началась погоня.
* * *
Встречный порыв ветра вдруг лупит хвойным запахом, потом еще и еще, и на подъездах к Ред-Лодж меня уже знобит.
В Ред-Лодж дорога идет почти вплотную к подножью горы. Темная грозная масса нависает над самыми крышами главной улицы. Ставим мотоциклы и достаем из багажа теплое. Мимо лыжных магазинов идем в ресторан, где по стенам висят огромные фотографии пути, который еще предстоит. Выше и выше, по одной из высочайших мощеных дорог в мире. Я несколько волнуюсь, но тревожиться неразумно, и я пытаюсь прогнать беспокойство, рассказывая о дороге остальным. Оттуда невозможно свалиться. Мотоцикл проедет надежно. Но смутное воспоминание: где-то можно бросить камень, и тот пролетит тысячи футов, пока куда-нибудь не упадет, – какая-то связь этого камня с мотоциклом и ездоком.
Допив кофе, потеплее одеваемся, снова все пакуем и вскоре доезжаем до первого поворота серпантина, что петляет по склону.
Дорожное покрытие намного шире и безопаснее, чем помнится. На мотоцикле ехать просторно. Джон и Сильвия закладывают чрезвычайно острый вираж впереди и с улыбками едут навстречу у нас над головой. Вскоре и мы сворачиваем и опять видим их спины. Затем у них еще поворот, и мы с хохотом встречаемся вновь. Трудно, если прикидывать заранее, – и легко, когда просто делаешь.
Я говорил о боковом дрейфе Федра, который привел его в дисциплину философии. Федр рассматривал философию как высочайший эшелон всей иерархии знания. Среди философов это убеждение так распространено, что стало почти банальностью, а для него было откровением. Федр обнаружил, что наука, которую он некогда считал целым миром знания, – всего лишь ветвь философии, а та – гораздо шире и общее. Его вопросы про бесконечные гипотезы науке неинтересны, ибо ненаучны. Наука не может изучать научный метод, не влезая в замкнутую на саму себя проблему, которая уничтожает ценность ответов на себя. Его вопросы были выше уровня науки. Так Федр обнаружил в философии естественное продолжение вопроса, который и привел его к науке в свое время: что все это значит? Какова цель?
На развороте останавливаемся, фотографируемся – доказательство, что были здесь, – а потом идем по короткой тропинке на край утеса. Мотоцикл на дороге под нами не виден отсюда. Укутываемся потеплее и продолжаем подъем.
Лиственные деревья исчезли вовсе. Остались только сосенки. Многие перекручены, чахлые на вид.
Скоро и сосенки пропадают, мы на альпийских лугах. Ни единого дерева, везде одна трава, густо усыпанная очень яркими пятнышками розового, голубого и белого. Цветы – повсюду! Жить здесь могут только они, травы, мхи и лишайники. Мы достигли высокогорий – тех, что выше границы лесов.
Я оглядываюсь через плечо – в последний раз увидеть ущелье. Будто смотришь на дно океана. Люди проводят всю жизнь в низинах, не сознавая, что существует эта высокая страна.
Дорога сворачивает вглубь, прочь от ущелья, в снежные поля.
Двигатель яростно чихает от недостатка кислорода и грозит заглохнуть. Но до этого не доходит. Вскоре оказываемся между старыми снежными сугробами – как после оттепели ранней весной. Повсюду ручейки сбегают в мшистую грязь, а подо мхом – в недельную травку, в дикие цветочки – крошечные розовые, голубые, желтые и белые, они будто выскакивают, солнечно-яркие, из темных теней. Так – везде. Крохотные точки красочного света выстреливают навстречу с мрачного темно-зеленого и черного фона. Темное небо сейчас – и холодное. Кроме тех мест, куда попадает солнце. На солнечной стороне моей руке, ноге и боку под курткой жарко, а темная сторона – уже в глубокой тени – очень замерзла.
Снежные поля здесь массивнее и расступаются обрывистыми берегами там, где прошли снежные плуги. Сугробы – четырех, потом шести, потом двенадцати футов в вышину. Движемся меж двух одинаковых стен, почти в снеговом тоннеле. Затем тоннель вновь раскрывается навстречу темному небу, и, вынырнув из него, мы видим, что уже на вершине.
А дальше – совсем другая страна. Внизу – горные озера, сосны и снежные поля. Над ними и за ними, насколько хватает глаз – заснеженные горные хребты. Высокая страна.
Мы останавливаемся на повороте, где уже фотографируются, озирают окрестности и друг друга туристы. Из седельной сумки на багажной раме Джон достает фотокамеру. Я из своей машины достаю набор инструментов, раскладываю его на сиденье, беру отвертку, завожу двигатель и отверткой регулирую карбюратор, пока звук холостой работы не меняется от очень плохих сбоев до плоховатых. Удивительное дело: на всем пути вверх он осекался, фыркал, дергался и всеми способами давал понять, что вот-вот заглохнет, но так и не заглох. Раньше я не регулировал его просто из любопытства – посмотреть, что с ним сделают одиннадцать тысяч футов высоты. Теперь я ничего не чищу и оставляю плоховатый звук, потому что скоро немного спустимся к Йеллоустоунскому парку, и если он не будет грязным, позднее пересохнет, а это опасно, поскольку грозит двигателю перегревом.
На пути вниз двигатель чихает еще порядочно – машина тащится на второй передаче, – но потом, когда мы спускаемся ниже, шум стихает. Возвращаются леса. Мы теперь едем среди скал, озер и деревьев, вписываясь в прекрасные повороты и изгибы дороги.
* * *
Теперь я хочу поговорить о другой высокой стране, стране в мире мысли, и она – мне по крайней мере – кажется несколько параллельной этой стране или вызывает сходные чувства. Назовем ее высокой страной ума.
Если все человеческое знание, все известное считается гигантской иерархической структурой, высокая страна ума располагается в высочайших пределах этой структуры – в самых общих, самых абстрактных соображениях.
Немногие здесь путешествуют. От скитаний по этим краям нет никакой реальной выгоды, и все же, подобно высокогорью реального мира, что вокруг нас сейчас, она обладает своей суровой красотой, которая, видимо, компенсирует некоторым тяготы путешествия.
В высокой стране ума необходимо привыкнуть к разреженному воздуху неопределенности, к невообразимой огромности задаваемых вопросов и к ответам, что на эти вопросы предлагаются. Простор заводит все дальше и дальше – разум таких далей уже не охватывает, и сомневаешься, стоит ли даже приближаться. Вдруг затеряешься в этом просторе и никогда не выберешься?
Что есть истина и как узнать, она ли у тебя в руках?.. Как мы вообще что-либо узнаем? Есть ли какое-то «я», «душа», которая знает, или же эта душа – просто клетки, координирующие чувства?.. Изменяется ли реальность по своей сути – или она фиксирована и постоянна?.. Когда говорят: «Это значит то-то», – что это значит?