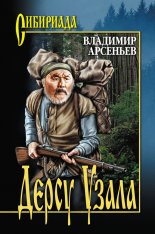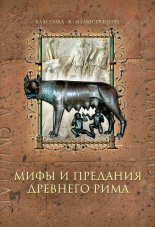Доктор Мозг. Записки бредпринимателя. Избранные рецепты осмысленной жизни. Леви Владимир
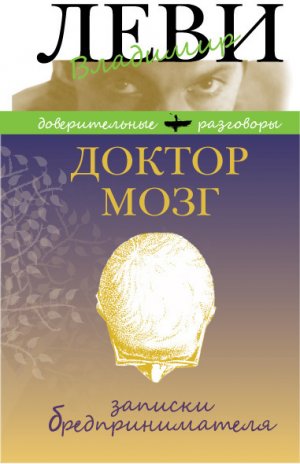
– А как относился к животным?
– Очень любил. Заботился о них, был необычайно чуток к их нуждам. Собак у него была целая куча, они спали с ним в комнате, часто даже и на его кровати. Не считал за труд подняться в три или в четыре утра, чтобы выгулять пса. Ко всем животным проявлял всю полноту любви и привязанности, даже к лошадям и коровам. Баловал их, часто перекармливал, а при малейших признаках болезни спешил вызывать ветеринара. Наверное, животных любил больше, чем людей.
– Можно ли сказать, что он был индивидуалистом?
– Пожалуй. Предпочитал работать один, а не в группах или каких-то ассоциациях. Оригиналом не был, большинство социальных условностей принимал, лишь в некоторых отношениях был человеком на особицу, но даже и этого оказалось достаточно, чтобы сделать его пионером в науке и осложнить жизнь. В поздний период пришел к некоторому отшельничеству, но никогда не изолировался по шизоидному.
– А как проявлялась его застенчивость?
– Хотя всегда был общителен, дружелюбен и обаятелен на всяких сборищах, избегал их, как только мог. Предпочитал встречи с глазу на глаз. Не любил говорить по телефону. Не стремился путешествовать, хотя много ездил в молодые годы. Возможно, и напивался, чтобы уйти от чувства дискомфорта при всяких социальных активностях. Пил-то ведь в основном на людях, а в одиночку редко.
Не авторитарный педант?
– Как ваш отец относился к властным институтам, к начальству?
– Я не вникал в отношение папы к власть предержащим, но знаю, что в молодые годы, в университете Фурмана, он выказал себя бунтовщиком. Когда служил одно время в военном ведомстве, тоже были какие-то трения с начальством. Часто неодобрительно высказывался о федеральном правительстве, считал, что оно превышает свои полномочия, подавляет права человека. В своей профессии был известным иконоборцем, но в плане личностном скорей конформистом, с некоторыми исключениями. Относились эти исключения как раз к нашей домашней жизни, которую он строил по собственным убеждениям.
– Был ли категоричен, властен, авторитарен?
– Нет, скорей был контролирующим педантом: уперто верил в необходимость норм, которые каждый в доме должен был соблюдать, и зорко за этим следил.
– И за собой следил, себя контролировал?
– Очень. И проявления чувств, и манеры, как в обществе, так и дома, и внешность, и физическое состояние, и дела, и общение – все было у него под четким контролем. (А сексуальное поведение? – ВЛ)На все зоны его самоконтроля так или иначе распространялись положения его бихевиористской доктрины – он был живым учебником собственного учения.
– Был дисциплинированным?
– Не таким уж дисциплинированным – просто придерживался своих немногих жизненных правил, и в основном они мне теперь кажутся довольно разумными. Жил ритмично, по расписанию. Вставал рано, в одно и то же время. Завтрак, обед, ужин – всегда вовремя. Был пунктуальным, ответственным, держал слово, того же требовал и от нас. Никаких внезапных решений или неожиданных перемен – человек постоянный и предсказуемый.
– А как насчет порядка и аккуратности?
– Был аккуратным почти до бзика. Когда ехал в город на работу, был образцом джентльмена, одетого в строго традиционном стиле.
Инструменты свои держал в идеальном порядке. Требовал, чтобы дома всегда было чисто.
Если в каких-то углах было не прибрано, что-то где-то валялось, немедленно подбирал, клал на место и выражал недовольство. Благо, в мою комнатку заходил редко: я все разбрасывал, был неряхой, Билл тоже, убирали за нами домработницы…
Никогда не начинал работать импульсивно, с бухты-барахты – всегда продуманно и обстоятельно. И нас постоянно побуждал быть аккуратными и методичными. Был так же точен и аккуратен в речи, в подборе слов, как и в ручной работе.
– Что можно сказать о его отношении к деньгам, к собственности?
– В этом был двойствен. Щедро раздавал свою личную собственность, время, деньги, скуп не был, а в то же время стремился к экономному, упрощенному существованию. Возмущался высокими налогами. Мечтал жить в маленьком домике, топить камин, освещать дом керосиновой лампой и выращивать овощи. Для города и рабочих встреч покупал одежду в самых дорогих магазинах, рубашки и обувь только ручной работы, а приходя домой, с облегчением надевал старый драный джинсовый костюм и пару поношенных болотных сапог. Отдыхал только в грубой простой одежде.
Расточительницей у нас была мама: закатывала большие обеды, обожала шумные вечеринки, носила дорогую одежду, любила путешествовать по Европе. Папа относился к этому спокойно и понимающе.
– А как относился к бездельникам?
– Придерживался протестантской рабочей этики, и терпеть не мог тех, кто не трудился усердно. Вставая, сразу же принимался за работу и нас к этому приучал. Правда, пока мы были маленькие, у него это не особенно получалось. Я не был бездельником, но соответствовать его эталону образцового трудяги мне было нелегко. С раннего детства я жил в тревоге, что не соответствую его ожиданиям. И в школе, и на ферме – постоянное напряжение. Он приучил меня составлять планы на каждый день и твердо их придерживаться. Платил мне по десять центов за каждый трудовой час. Гораздо меньше поощрял брата. Билл не прочь был посачковать, увильнуть от обязанностей, особенно по отношению к животным, и папа его строго за это отчитывал.
– Как относился к искусству, к людям искусства?
– Не проявлял интереса – ни к театру, ни к живописи, ни к музыке. Мама старалась вытаскивать папу то на выставку, то в театр, то на балет, но он ходил туда с неохотой.
У него было много приятелей из среды искусства – актеры и актрисы, танцовщики, киношники, писатели – связи и отношения с ними он ценил, но к талантам и творчеству относился индифферентно.
В рекламе, где подвизался, его занимала не творческая, а практическая сторона.
Ничто из того, что он делал дома, не дышало искусством, кроме одного: его строительных работ. Тут он проявлял недюжинный дар пространственного расположения и дизайна, получалось и практично, и красиво.
Возможно, папа не возражал бы, если бы Билл и я обучались какому-нибудь искусству, но главной целью нашего воспитания он считал подготовку к жизненным испытаниям. Хотел, чтобы мы стали успешными врачами или учеными, часто говорил нам об этом, но мы не оправдали его надежд.
Страхи, депрессии, сопротивление
– Рассказывал ли вам отец когда-нибудь о своем нервном срыве в Чикаго?
– Нет, ни о каком нервном срыве никогда не рассказывал. Я узнал об этом от других только после его смерти. Не знаю, насколько серьезен был этот срыв и лечил ли его кто-нибудь. Думаю, вряд ли бы он кому-то доверился…
– Пожалуйста, опишите его чувствительность, как она проявлялась?
– Папа был человеком ранимым и скрытным.
Старался не задевать и чувства других, никогда не пытался кого-нибудь оскорбить или задеть. Не любил споры, трения, столкновения, уходил от этого. Собственные чувства маскировал внешним равнодушием. Старался быть вежливым, но был в этой вежливости несколько поверхностен.
В молодости, кажется, был чем-то противоположным, но с годами развил способность дистанцироваться. Никаких разговоров о чувствах не выносил – если к тому шло, просто уходил – или гулять, или в ванну, или на ферму собирать овощи, или собаку выводил на прогулку – все что угодно, лишь бы не касаться чувств.
– Какие предметы, события или люди вызывали у него страх?
– Когда мы подросли, папа, объясняя нам, что такое условные рефлексы, рассказал, что всю жизнь боится темноты, потому что страх этот закрепила в нем в раннем детстве его нянька.
Боялся и водить автомобили, никогда не садился за руль, не имел водительских прав. Зато ничуть не боялся водить моторную лодку, ездил легко и смело. Никогда не боялся болезней, бедности или каких-то житейских катастроф. На самолете летать не любил – наверное, побаивался, но иногда летал. Ну и, догадываюсь, боялся полового ослабления, импотенции …
– Выдавало ли что-нибудь в нем скрытые чувства вины и стыда?
– Не припоминаю. Если бы даже испытывал такие чувства, не выдал бы этого. Нет, не думаю, чтобы папа сильно грузился чувствами вины или стыда.
– Проявлял ли какие-то признаки депрессии или мрачности?
– Внешне его настроение бывало обычно ровным, и трудно было понять, что у него за душой, на подъеме он или на спаде.
В сильной, явной депрессии, на самом дне отчаяния он был только после смерти мамы. Эта депрессия продолжалась несколько лет и проявлялась в пьянстве. Наверное, у него и в другие времена бывали депрессии, не такие тяжелые. Они могли быть связаны с какими-то нелегкими решениями в его бизнесе или с какими-то скрываемыми личными переживаниями, побуждавшими его уединяться, отстраняться от повседневной суеты.
Интересно: в последние два года жизни, когда долго болел и валялся в больницах, никакой депрессии он не выказывал. Наоборот, проявлял восхитительное чувство юмора. В больнице редко на что-либо жаловался, с врачами и персоналом был в добрых отношениях. Когда мы его навещали, держался молодцом, был оживлен, старался поддерживать свой внешний вид. Самым большим огорчением этого времени для него было то, что болезнь не позволяла ему выглядеть так хорошо, как ему бы хотелось.
– Искал признания? Считал ли, что недостаточно признан, что его игнорируют?
(ВЛ: – Этот вопрос связан с тем, что после скандалов на эротической почве Уотсон был вычеркнут из академического мира, и бихевиоризм продолжал развиваться без своего папаши.)
– В молодости, наверное, жаждал славы, но при нас уже нет – никакого тщеславия не проявлял и ничего не делал ради публичного признания своих заслуг, наград и так далее. Не хвастался, пожалуй, даже преуменьшал значение того, чего достиг раньше, избегал и упоминаний. Не знаю – может, из-за обиды на то, как его честили после всех этих скандалов.
С удовольствием принимал похвалы по поводу своих строительных работ, фермы, овощей и других зримых и ощутимых достижений. Но сильной зависимости от чьего бы то ни было одобрения у него не замечалось.
– Было ли у него желание побеждать, первенствовать хоть в чем-то?
– Старался делать все наилучшим образом, но не думаю, что им руководило желание первенствовать. Соревнование, конкуренция – нет, это не было для него главным стимулом. И для нас с Билли это тоже никогда не было ведущим мотивом. Теннис, стрельба, верховая езда – мы просто радовались, когда у нас это хорошо получалось, как и работа.
– А что, по вашему впечатлению, пробуждало в вашем отце чувство неполноценности?
– Пожалуй, только одно: отсутствие медицинского образования. Без него, полагал он, психолог не может считаться полноценным профессионалом. Часто об этом говорил с сожалением. Переживал, что я не пошел выше бакалавра, и был очень доволен тем, что Билл получил степень доктора медицины. Если бы не психиатрия и психоанализ… Думаю, угнетало его и то, что он оказался выброшенным из мира профессиональных психологов, но об этом он не говорил никогда.
– Ваш отец был противником религии, в Бога не верил, и, насколько известно, воспитывал своих детей в отрицании религии. Как это сказывалось на вас?
– В нашем доме не было ничего, что могло хоть как-то напомнить о церкви, религии, Боге, и никаких разговоров об этом с нами, детьми, не велось. Мы никогда не молились, и папа не позволял, чтобы гувернеры и служанки как-либо влияли на наши религиозные убеждения.
В беседах с гостями отзывался о религии пренебрежительно – как о детских сказках и предрассудках, как о препятствии развитию. Посмеивался над рассуждениями о мистике и сверхъестественном.
В его представлении религия была завязана на страданиях, страхе и условных рефлексах, но ни в коей мере не на любви. В научных и популярных публикациях его атеистические взгляды были растиражированы, и по тому, насколько он был в этом категоричен, можно сказать, что атеизм и был его религией.
Билла и себя атеистами я бы не назвал, мы скорее агностики: не знаем, есть Бог или нет, но уважаем верования других. Благожелательная нейтральность… Наверное, в периоды наших кризисов нам было бы лучше иметь твердую религиозную веру.
– Был ли ваш отец оптимистом или пессимистом?
– Скорей, оптимистом, а ко многому относился нейтрально. В состоянии пессимизма я его никогда не видел. Наверное, оставаться оптимистом ему помогал достаточно упрощенный взгляд на мир. Его бихевиоризм тоже был упрощением мира – психологического.
– Ваш отец утверждал, что внутренняя жизнь, внутреннее развитие – все то, что скрыто от глаз, все таинственное, спонтанное – все это вредные измышления. Как вы думаете, почему он был в этом так убежден?
– Не знаю, но возможно, это было для него чем-то вроде самопсихотерапии: в какие-то свои кризисные времена раз навсегда решил, что лучше считать все эти непонятные внутренние стихии попросту несуществующими. Не можешь увидеть, не можешь измерить – значит, этого нет, вот и все. До поры до времени удобное упрощение.
У папы был фетиш объективности, и он желал невозможного: чтобы объективными были не только взрослые, но и дети, и мы, его дети, в первую очередь. Для нас это было сперва непонятно, а потом – непосильно.
Воспитание минус душа:
бихевиоризм из первых рук
В следовании своей доктрине папа был очень уперт и в точности следовал всему, что предписывал в своей книге «Психологическая забота о ребенке». Был непререкаемо убежден, что любое выражение нежности и любви пойдет нам во вред. Нас никогда не целовали и не обращались с нами, как с детьми. Никогда не выказывали никакой эмоциональной близости. Ни я, ни брат Билли даже и не пытались получить какие-то ощутимые знаки близости с родителями – мы знали: это табу.
У нас не было игрушек в ванной, а в детской – ни одной мягкой игрушки, которую можно было бы ласково обнять и прижать к себе. Вечером перед сном мы обязаны были по-взрослому пожимать руки родителям и гостям в доме. Ночью в спальне никогда не зажигался свет, независимо от того, гремела ли снаружи гроза, или уличный разносчик газет в темные зимние утра выкрикивал сенсационные новости о похитителях детей… Это было очень страшно для шестилетки, каким я был тогда. Сам-то папа из-за страха темноты всегда спал при свете.
(ВЛ: Из штриха этого ясно, что через посредство своих детей Уотсон неосознанно пытался превозмочь собственные детские комплексы, как это делают очень многие родители – например, те папаши, которые требуют от своих детей непременно давать жесткий агрессивный отпор при обидах и нападениях, обязательно давать сдачи, обязательно драться. Требования такие исходят из Внутреннего Ребенка отца – того ребенка, который когда-то сдачи недодал.)
– Ваша мама была полностью заодно с отцом в воспитательской политике?
– Вряд ли мама полностью соглашалась с его доктриной, но, несомненно, была под большим ее влиянием; да и не было в нашей домашней жизни ни одной мелочи, за которой папа не уследил бы.
Хотя мама и писала, что кое в чем нарушала положения бихевиоризма и проявляла иногда свою любовь к детям открыто, я такого не припоминаю. Она была прилежной папиной ученицей – искренне и по-детски гордилась системой, которую он создал, и изо всех сил старалась сдерживать свои материнские инстинкты.
– Ваш отец настаивал, что человек должен быть независимым от каких-либо семейных привязок. Выказывал ли он сам какие-либо признаки зависимости? И как реагировал, если вы показывали какие-либо признаки зависимости от него?
– Да, центральным пунктом папиной личной философии была независимость, и особенно в семейных отношениях. Он со всею возможной ясностью излагал это брату и мне, и показывал, как только мог, что никакой взаимозависимости в нашем доме нет и быть не должно.
– Ну, а питание, быт, финансы?
– Пока были малы, пока учились и не зарабатывали – все это он нам предоставлял, разумеется, но лишь как капиталовложение в предстоящую – и чем скорее, тем лучше – самостоятельность и независимость. Здоровая психика, говорил он, должна основываться на непривязанности. У него были сотрудники по бизнесу, друзья и любовницы, но не могу назвать ни одного человека, от которого он был бы хоть как-то зависим. Не думаю, что он был очень уж зависим даже от мамы, и уж точно не был зависим от нас, своих детей.
– Такой упор на независимость, непривязанность – как возник в нем, откуда и почему?
– Мне трудно судить, но, несомненно, у него был какой-то иррациональный страх перед душевной близостью. Может быть, так сработали забытые или не забытые детские разочарования. Он выстроил много и внешних, и внутренних защит, чтобы всяческие теплые и нежные чувства держать под жестким контролем. Отсюда же выросла и его психологическая доктрина. Не знаю ни одного человека, у которого душевная теплота совместилась бы с папиными теориями.
О себе и о брате Билле
Когда мама умерла, мне только-только исполнилось 12. (Джон Уотсон остался без отца тоже в 12 лет – ВЛ.)
Дня ее рождения я не знаю…
Смертью мамы папа был потрясен и первое время был растерян, не знал, как жить дальше и как быть с нами, детьми. Билл, старший мой брат, к этому времени уже учился в интернате; после смерти мамы меня тоже отправили туда. Было трудно: я чувствовал себя сиротски одиноким и тосковал. За плохое поведение меня вскоре выгнали. На некоторое время меня приютила семья директора школы, в которой я раньше учился. Они поняли мое бедственное положение и очень помогли в это трудное время. Сопроводили в другой интернат, где я продержался около двух лет. Там тоже чувствовал и вел себя скверно, относились ко мне соответственно и, наконец, тоже выгнали.
Папа отдал меня в третий интернат, с грехом пополам я в нем доучился. Последние три школьных года проводил летние каникулы с папой в Коннектикуте, иногда приезжал к нему и в Нью-Йорк.
В 1942 г. я поступил в Колумбийский университет, но почти сразу был призван в армию, в военно-воздушные силы. Закончил службу в конце войны, в 1945-м. Начал учиться на авиационного инженера; вскоре перешел на индустриальную психологию, а после учебы погрузился в мир бизнеса. В продуктовой компании работаю уже более 25 лет…
С Биллом мы были очень дружны и близки. Он был ярче меня, гораздо способней. Я ради своих скромных отметок тяжко трудился, да к тому же много душевной энергии уходило в невротические тревоги. А Билл, не стараясь, легко получал хорошие оценки, когда хотел. В школе у него были проблемы не из-за слабых знаний, а из-за поведения. Часто прогуливал занятия и получал за это втыки от папы.
После нескольких фальстартов поступил на первую научную степень в Гарвард – тут поведение его было примерным. Потом окончил медицинское училище при колледже врачей и хирургов в Колумбийском Университете.
Студентом был блестящим; но как раз в это время у него и пошли жуткие депрессии, а вскоре началось долгое, трудное и безуспешное лечение психоанализом… Нет, я не прав, не безуспешное – все-таки двадцать лет продержался. Не будь психоаналитической терапии, наверное, и этого срока не протянул бы.
После недолгой службы в армии работал врачом-педиатром. Позднее заинтересовался психиатрией и получил степень магистра в этой области. Некоторое время практиковал как детский психиатр, потом пришел к выводу, что детские проблемы исходят от родителей, и занялся психиатрией взрослых. Папе это очень не нравилось: его отношение к интроспективному терапевтическому процессу и психиатрии было сугубо отрицательным. Билл же по понятным причинам испытывал негативные чувства к бихевиоризму. Как только отец узнал, что Билл занимается психиатрией, между ними возникло многолетнее отчуждение. Они снова сблизились лишь незадолго до папиной смерти.
– Как ваш отец относился к депрессиям Билла?
– Для поверхностного взгляда эти депрессии заметны не были. Билл был очень подвижен, активен, много смеялся, казался веселым, иногда даже чрезмерно. Замаскированные депрессии – я-то о них знал, а папа вряд ли догадывался. Билл никогда не делился с ним своими переживаниями, не рассказывал, что лечится психоанализом, папу это не обрадовало бы. Папа избегал разговоров о каких-либо психологических или психиатрических проблемах. Слабых личностей сдержанно презирал.
(ВЛ: – Душевнобольной психиатр, пациент и доктор в одном лице – случай не единичный и с точки зрения суицидальной опасности неблагоприятный. Сравнимая история – у великого русского психиатра Кандинского.)
…Все, о чем я сейчас рассказываю, в течение долгих лет оставалось за гранью моего понимания. Лишь через несколько лет после смерти папы я все это осознал, разобравшись в своих чувствах с помощью шестилетнего курса психоанализа. К психоаналитику пришлось обратиться из-за сильнейшей депрессии. Я был на волоске от самоубийства, как-то раз попытался даже его совершить…
(Однажды, напомню, Джеймс Уотсон спас своего брата, совершившего первую суицидальную попытку. За второй уследить не удалось… В своих вопросах Ханнуш деликатно обошел эту самую болезненную часть истории братьев; сам Джеймс Уотсон рассказал о самоубийстве Билла лишь в немногих словах. – ВЛ).
Два года психоанализа принесли мне значительное облегчение; но тут внезапно Билл, работавший в это время психиатром в Нью-Йорке, покончил с собой. (Это произошло через четыре года после ухода из жизни его отца, Джона Уотсона. – ВЛ.)Чтобы устоять в горе и не отправиться вслед за братом, мне еще четыре года подряд пришлось ходить к психоаналитику.
Знаю: тяжелые депрессии с самоубийствами случаются и у многих людей, не воспитывавшихся бихевиористски, и мои рассуждения могут рассматриваться как одностороннее толкование того, что случилось с братом и со мной.
Тем не менее, я уверен, что следование канонам бихевиоризма, особенно такое жесткое, какое представлено в ранних книгах папы, наносит тяжелый изъян развитию «Я» ребенка, лишает его душевной силы и вызывает много проблем в последующей жизни.
Наша с Биллом жизнь стала трагическим опровержением того, что папа ожидал от практического применения своей доктрины. Мы оба оказались неспособными управляться со своими чувствами – принимать их, выражать и осмысливать. Лишенные возможности делиться с родителями своими переживаниями, весь свой негатив, все вопросы, недоумения и обиды мы вытесняли в подсознание, и наконец, негатив этот обратился на нас самих. Возникшая в результате ущербность самооценки привела меня к тяжелому кризису, а Билла увела на тот свет.
В дополнение к психоанализу
Запись о Билли, сделанная Розали 23 июля 1922
(Билли было 7 месяцев)
…Пока купались в ванночке, малыш тянул ручку через голову к тазику, который стоял на стуле. Я несколько раз этому воспрепятствовала, он начал плакать и шарить ручонками всюду, куда мог дотянуться. Наконец, обеими ручками схватил свою пипку и крепко ее зажал. Я убрала ручки, а он обратно. Я второй раз отняла ручки, он с криком опять за свое. И опять, и опять… Подошел Джон и крепко сжал его пальчики. Малыш заорал очень громко и убрал ручки сам, а я побыстрее заменила ему то, что он хватал, резиновой игрушкой.
Сексуальная паранойя?
Папа был очень неравнодушен к женскому полу. Не посмею сказать, что бабником, но уж точно был дамским угодником. В него влюблялись многие женщины. После того, как не стало мамы, он больше не женился, но любовницы были. Папа был противником грудного вскармливания и категорически возражал против того, чтобы оно продолжалось после того, как ребенок научится сам держать чашку или бутылочку. Мне думается, это его убеждение происходило из-за повышенного внимания, которое он по-мужски уделял данной части женской анатомии. В базовых потребностях растущего человека он, видимо, был не особо сведущ.
Вот и с половым просвещением получился вывих. Папа был убежденным сторонником как можно более раннего сексуального просвещения. Полагал, что секс должен поощряться открыто, и что подрастающим детям нужно не только рассказывать о сексе, но и демонстрировать его. Слова типа fuck в его лексиконе были обычны.
Инструктировать нас с братом насчет секса папа и мама начали с того времени, когда мы, по их мнению, достаточно подросли, чтобы понимать, о чем речь. Нам пришлось довольно рано узнать, что секс – штука естественная, и его не надо скрывать и стыдиться. Но секс в это время еще не представлял для нас особого интереса, и звучало все это как какие-то скучные обязательные уроки. Нам рассказывали о беременности, о способах предохранения, о венерических болезнях, о требованиях к правильному исполнению половых сношений, а мы терялись, не знали, как к этому относиться. Все, что мы потом узнавали о сексе в школе и дальше, для нас было уже не ново и не удивительно, и мы смутно чувствовали, что эти ранние половые познания произвели какое-то опустошающее воздействие.
– Раннее половое воспитание сейчас становится социальной нормой. Может быть, дело в том, что ваши родители слишком опередили свое время в этой области, и это вызвало у вас психологический диссонанс?
– Может быть… Опасно, мне кажется, не сексуальное просвещение само по себе, а чрезмерная акцентировка, слишком раннее повышенное внимание к этой стороне жизни, слишком настойчивое. Мне было около семи лет, и я отчетливо помню: папа не раз говорил мне и брату, при маме и при гостях, что если бы только это дозволялось законами общества, он бы нашел для нас обоих любовниц. Это могло бы быть неплохой идеей для восемнадцатилетних ребят, но для семилетнего и девятилетнего, согласитесь, немножко не то.
– Как ваш отец относился к мастурбации, говорил ли с вами на эту тему?
– Да, и не раз. Говорил, что онанизм естествен для подростков и даже детей. Не поощрял нас в этом занятии, но и не вел себя так, чтобы у нас возникло связанное с онанизмом чувство вины. Говорил лишь, что непозволительно мастурбировать взрослым. Помню, с презрением рассказывал об одном мужике, занимавшемся онанизмом, пока жена его была беременна. В его глазах это было низко. Он всегда подчеркивал важность взаимности в сексуальном удовлетворении.
– Ваш отец частично разделял взгляды Фрейда на сексуальность?
– Да, и в немалой мере, хотя и старался этого не показывать, ведь он объявлял себя противником психоанализа, этого «вудуизма», как он выразился однажды.
Секс он понимал, как сугубую физиологию, вне связи с любовью, с каким-то человеческим единением или семейными узами. Чисто биологическая функция, ничего больше. Зная папу, этого и можно было ожидать.
– Ваш отец в согласии с Фрейдом считал, что отношения матери и сына потенциально сексуальны, и что этому следует препятствовать. Как это убеждение проявлялось?
– Хотя мама была по натуре теплой, заботливой, чуткой и нежно любила нас, материнской ласки мы с братом не изведали, это было запрещено. Об отношениях с его собственной матерью папа не говорил никогда и вообще почти не рассказывал о своем детстве. Похоже, повышенное внимание и бравада по поводу секса шли у него от каких-то ранних переживаний и страхов, связанных с этой сферой. И куча проблем, которые он высматривал в отношениях матери и сына и вообще матери и ребенка, коренилась в его собственных прежних нерешенных проблемах. (ВЛ: – Да, можно предположить, что у Джона Уотсона сохранились какие-то воспоминания о запретном влечении, пробужденном в нем его матерью Эммой. После того, как Пикенс Уотсон покинул семью, мать стала с Джоном особенно ласковой.
Джон в это время был в предподростковом возрасте, когда половое влечение начинает переходить из детской фазы во взрослую и особенно легко связывается «со всем, что движется». Преходящие гомосексуальные влечения тоже возникают в это время довольно часто и могут фиксироваться. Исходившая от самой же Эммы баптистская нетерпимость к проявлениям сексуальности с большой вероятностью могла вызвать у двенадцати – тринадцатилетнего сына внутренний конфликт, «сшибку»: неуправляемое влечение – и страх перед ним, чувство вины. И вот взрослый Уотсон, как это часто бывает с психологами, спроецировал и вмонтировал свой подростковый комплекс в свою концепцию. Отсюда и двойственное отношение к психоанализу: и повышенный интерес, даже с элементами плагиата, и отталкивание, в основе которого – страх перед правдой собственных переживаний.)
– Как ваш отец относился к гомосексуализму?
– С неприязнью и подозрительностью.
Не употреблял таких слов, как «педик», «голубой» или «гей», но в слово «гомосексуалист» или «гомо» вкладывал негатив. Если бы папа слышал сегодняшние выступления против дискриминации людей с нестандартной ориентацией, он бы наверное, за голову схватился. Я замечал, что он склонен называть «гомо» мужчин, с его точки зрения, недостаточно мужественных. В эту его категорию могли попасть и гетеросексуалы с какими-то женственными чертами – неспортивные, неловкие, робкие или чересчур чувствительные и сентиментальные.
Женщины тоже были под подозрением: папа считал, что большинство из них из них явно или скрыто склонно к лесбиянству из-за того, что «вся социальная фабрика у нас женская», – он имел в виду и матерей, и нянь, и учительниц, и женщин-врачей.
Любопытно, однако, что к некоторым завзятым гомосексуалистам папа относился вполне терпимо. Одним из таких был психиатр из Балтимора, друг нашей семьи, особенно мамы. Он был морским офицером, флотским врачом. Однажды, помню, он заехал к нам погостить денька на три вместе с молодым подчиненным. Этот подчиненный был его любовником, и устроились они не где-нибудь, а в папиной спальне. Для меня это было ошеломительно – я ведь знал отношение папы к гомосексуализму, и вдруг такой радушный прием этой сладкой парочки.
– Говорили, что ваш отец женоненавистник, что он советовал мужчинам жениться на женщинах помоложе, а в то же время предостерегал женатых мужчин от соблазнения молодыми женщинами.
– Да, он советовал мужчинам жениться на женщинах моложе себя, потому что считал, и не без оснований, что здоровый мужчина в поздние годы жизни остается более сексуально активным, чем женщина. Но я никогда не слышал от него сентенций насчет соблазнов женатых людей. Не могу сказать, что папа был женофобом, но способен ли он был испытывать любовь в полном смысле этого слова – вопрос. Сексуальность – да, а любовь – не знаю… Дважды женился, но к институту брака относился как к пережитку. Был убежден, что эпоха моногамии кончилась, что общество больше не может и не должно ограничивать сексуальную свободу, которая фактически уже царствует, пиршествует и резвится. Допускал, что люди могут при желании долгие годы жить вместе и иметь сексуальные отношения, но супружеский союз считал бессмысленным бременем.
– Как он относился к вашей маме и как говорил о ней после ее ухода из жизни?
– Отношения родителей были ровными, конфликтов и споров не было, по крайней мере, в присутствии детей. Могу точно сказать, что папа уважал маму и, наверное, был по-своему счастлив с ней. В плане сексуальном у них было все в порядке, можно не сомневаться. Но папа был откровенным мужским шовинистом и скептически относился к женской натуре и женскому уму. Ценил женщину как сексуальную партнершу, как мать и домохозяйку, но нисколько не более.
После того, как мама умерла, он о ней вслух ни разу не вспоминал, как будто ее никогда и не было. Может, с другими о ней говорил, но со мной и Биллом – ни слова. И мы тоже не решались обратиться к нему с вопросами – мы уважали его скорбь, мы верили, что он все-таки горевал по ней, но скрывал… Ни разу я не посмел попросить его поговорить со мною о маме, оживить память о ее светлом характере и милых привычках; никогда не рассказывал ему о своей тоске по ней, о том, как мечтал, чтобы она воскресла…
И все-таки многовато душевных калек на одного дедушку
ОК – Достойный человек, умница этот Джеймс Уотсон.
ВЛ – Да, быть отцом хотя бы одного сына с таким интеллектом, таким уровнем душевного понимания и ответственности, такой способностью любить и прощать – большая удача, верней, милость Божья. Уже не зря жизнь прожита.
– И таким Джимми стал, невзирая на все уродства полусиротского бихевиористского воспитания, муки и кризисы….
– Да, тут уж, действительно, несмотря на лечение, больной выздоровел. Сам Джеймс приписывает свое исцеление и прозрение психоанализу, но, как мне видится, это как раз случай, когда nature взяла верх над nurture – природа победила воспитание. Наследственность Розали, возможно, сказалась.
– Сам-то Джон Уотсон тоже победил свое воспитание. Если вспомнить его родителей…
– Отрицание – еще не победа: перевертыши слишком легко переворачиваются обратно. Да и не было полного отрицания: Джон Уотсон многими чертами скалькировал своего отца Пикенса и подсознательно отождествлялся более всего с ним.
По другой семейной линии кровопролитная война с воспитанием велась тоже.
«…Валяюсь на диване, читаю книгу под названием «Прикосновение». Только что покормила мою крошку, дочку Жюстину, поиграла с ней, потискала, повозилась. Чувствую себя спокойно, свободно, наполненно и освеженно.
Всей душой соглашаюсь с автором: он пишет о важности телесного общения с ребенком, о драгоценности прикосновений…
Дошла до страниц, где рассказывается о воспитательских доктринах недавнего прошлого. Одну из них, особо влиятельную на протяжении не одного поколения, автор именует теорией психологической стерильности. Теория эта налагала запреты на проявления родительской любви и телесный контакт ребенка с родителями, утверждая, что это делает детей слишком зависимыми. Детей рассматривала как объекты, управляемые извне, а родителей – как инженеров и техников, могущих сделать из ребенка все, что угодно.
Потребности, желания, чувства детей для последователей этой доктрины не существовали. И вот результат: миллионы бывших детей, превратившихся в неуравновешенных, депрессивных, психопатичных, ущербных взрослых. Огромный душевный урон.
Механистический подход к воспитанию внедрился в массовое сознание и поныне вершит свою душеразрушающую работу: его модели-образчики воспроизводятся и передают эстафету отчуждения от поколения поколению. А главный ответчик, тот, кого мы должны за это «благодарить» – профессор Джон Броадус Уотсон…
Роняю книгу и холодею. Джон Броадус Уотсон – папа моей мамы, большой Джон, мой дедушка. Мой родной дедушка…»
Это отрывки из книги внучки Уотсона Мэриетт Хартли «Прерывая молчание», 1991. (Перевод мой).
Талантливая красавица Мэриетт снялась в главных ролях в нескольких голливудских картинах, но кинозвездой первой величины не стала. Карьера ее перешла в другое измерение.
«…Так вот откуда это пошло – из нашего рода, и все так близко. Вот почему мне все упорнее не хотелось жить, пропасть была все ближе…
Полли – моя мама, дочка Большого Джона от бабушки Мэри Икес, – воспитывалась сугубо интеллектуально. Уже в двухлетнем возрасте она могла читать газеты, но до первого романа с мужчиной ее ни разу никто не приласкал и не обнял.
Ее младший брат, сын Мэри Икес и Джона Большого, мой родной дядя, Джон Маленький, рос болезненным беспокойным ребенком, а когда вырос, оказался ни к чему не способным бездельником. Жил на деньги, которые посылал ему Джон Большой. Всю жизнь мучился головными болями и коликами в животе. Умер, не дожив до 50, от язвенного кровотечения.
После того, как Большой Джон расстался с бабушкой Мэри и женился на Розали, а бабушка вышла замуж во второй раз, мама, еще до того бросившая школу, целый год провела дома в каком-то ступоре. Потом наоборот – начала из дома сбегать, пропадать. Часто посещала деда, подружилась с общительной и приветливой Розали, играла с ней в теннис, секретничала. Но и там, у Большого Джона и его милой жены, никто ее не приголубил, не обнял за плечи, не погладил по спине, не сказал, какая она красивая и хорошая.
Мама не разрешала мне говорить о чувствах, о привязанностях, о нежности. О сексе – пожалуйста, но и в этом куча двусмысленностей. Идем по людному бульвару Лос-Анджелеса. Беру маму за руку, а она отталкивает меня: «Не надо – подумают, что мы лесбиянки».
О том, что можно открыто, искренне выражать свой гнев, я узнала только в 26 лет, до этого обращала всю энергию отрицания лишь на себя. Делала все возможное, чтобы не показывать свое недовольство и возмущение, и со всей логичностью вышла замуж за человека, которому нравилось меня избивать…»
Полли жестоко пила и, по словам Мэриетт, всю жизнь была переполнена сдерживаемой яростью. Совершила несколько попыток самоубийства. Прошла длительную психотерапию, выжила, но не выдержал натерпевшийся ее психопатства супруг, отец Мэриетт, Джон Хартли, рекламный работник. Однажды, когда Полли и Мэриетт, к тому времени уже успешная актриса, завтракали на веранде, из спальни послышался выстрел…
После этого запила Мэриетт, актерская карьера ее быстро пошла носом вниз. На волоске от самоубийства успел подхватить некий друг. С его помощью Мэриетт сумела пройти через кризис, освободиться от алкогольной зависимости и воссоздать себя. Основала Сообщество по предупреждению самоубийств, организовала большие финансовые поступления для этой организации, написала книгу.
«…Думаю, дедушка и не подозревал, что его наставления могут принести вред в таком широком масштабе. Особенно пострадали дети молодых родителей, занятых собой и своей работой. Все, что папа советовал, казалось им таким практичным, удобным: дети должны жить своей жизнью, родители – своей.
Дедушкины теории изуродовали жизнь мамы, мою жизнь и жизни миллионов. Как же прервать эту цепочку дурной воспитательской наследственности, как избавить от нее следующие поколения?..»
Сценические выступления с сольными исповедными монологами – рассказами о собственной жизни снискали Мэриетт огромную популярность. Желая того или нет, внучка и обвинительным приговором деду упрочила о нем память.
* * *
После потери Розали 58-летний Джон Уотсон прожил еще 22 года. Изрядно пил, особенно первые несколько лет вдовства, и, как ни стоек был к спиртному, разрушил пьянством свою печень. После 70 по врачебным показаниям старался пить меньше, но причина смерти – цирроз печени – все же была связана с алкоголем.
В послевоенные годы психологи почти позабыли Уотсона; многие полагали, что он давно умер, хотя бихевиоризм еще цвел пышным цветом, и его новоявленный лидер, радикальный бихевиорист Скиннер считался самым популярным в мире американским психологом.
В год ухода в обществе собак
Но вот в 1956 году в журнале Psychological Review появляется статья известного австрийско-американского философа, психолога и математика Густава Бергмана (развивал теорию логического позитивизма, одно время работал в сотрудничестве с Альбертом Эйнштейном) – с осанной Уотсону:
«…Я убежден, что Джон Уотсон – самая значительная после Фрейда фигура в истории психологической мысли первой половины нашего столетия…
Понимаемый или не понимаемый, цитируемый или перевираемый – он стал символом, вокруг которого долго бурлили дебаты, и здравая основа его вклада в науку широко признана, а заблуждения и ошибки забыты.
…У меня нет ни малейшего сомнения, что при всех своих светлых и темных пятнах это человек выдающийся. Психология обязана ему многим, и его место в истории нашей цивилизации прочно и значительно. Люди такого масштаба – большая редкость, и мы должны с пониманием и признательностью принимать их такими как есть».
В 1957 г. Уотсон, уже больной и слабеющий, получает от Американской психологической ассоциации приглашение в Нью-Йорк на торжественное заседание – для вручения именной золотой медали за выдающийся вклад в психологию. Джон приехал, но в зал не вошел: в последний момент почувствовал себя плохо, испугался, что может прилюдно упасть, и остался в отеле.
Получить награду попросил сопровождавшего его старшего сына Уильяма, он же Билли.
Смахивавший на эпитафию приветственный адрес к медали гласил:
Доктору Джону Б. Уотсону,
творцу одного из краеугольных камней
современной психологии,
революционеру психологической мысли,
чьи труды стали отправной точкой
для продолжающихся
плодотворных исследований.
Через год восьмидесятилетний Джон Броадус Уотсон ушел в мир иной. А еще через четыре года получатель его награды, успешный и состоятельный психиатр-психоаналитик Уильям Уотсон покинул жизнь добровольно.
Заслуга и ошибкаэпитафия Джону Броадусу Уотсону, основателю бихевиоризма
Красивый мальчик Джонни Уотсон
здесь отдыхает и смеется
над тем, каким он стал большим:
в мозгу – режим, в душе – зажим.
В сраженьи с жизнью напряженном
он стал ученым дядей Джоном.
Науки ради дядя Джон
калечил крыс, детей и жен,
а за бабло кропал рекламу,
забыв про папу и про маму,
про Бога тоже позабыв
и скрыв в душе своей нарыв.
Взахлеб смеется мальчик Джонни
над тем, как дядя Джон, пижоня,
менял свои воротнички
и впечатлений слал пучки;
как с полусъехавшею крышей
оставил собственных детишек,
как от любви их ограждал,
а сам инстинктам угождал.
Твоя заслуга, мальчик Уотсон, –
призыв за истину бороться.
Твоя ошибка, Джон Большой, –