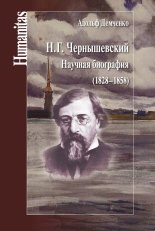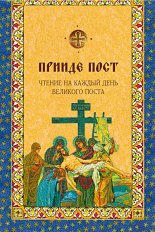Великие завоевания варваров. Падение Рима и рождение Европы Хизер Питер

Copyright © Peter Heather, 2009
© Перевод и издание на русском языке, «Центрполиграф», 2016
© Художественное оформление, «Центрполиграф», 2016
Посвящается отцу Алану Фредерику Хизеру (28.02.1923–4.01.2008) и тестю Ричарду Майлзу Сойеру (30.07.1917–3.09.2007)
Предисловие
На создание этой книги у меня ушло очень много времени. Я подписал договор на ее публикацию, когда мой сын Уильям еще не появился на свет. А когда моя работа увидит свет, он будет сдавать экзамены на получение аттестата об общем среднем образовании (для тех из вас, кто незнаком с британской системой образования: это означает, что ему шестнадцать…). Отчасти работа оказалась столь продолжительной из-за того, что я был занят и другими делами, однако этот проект сам по себе потребовал четыре академических отпуска – ни над одной из своих книг я не работал так долго, и это, разумеется, говорит о сложности поставленной задачи. Временные рамки, которые охватывает эта книга, чрезвычайно велики, как велики и географические регионы, поэтому потребовалось привлечь обширную специальную литературу. Отдельные области мне не удалось охватить целиком, к примеру историю славянских народов или археологию, и я должен выразить признательность специалистам за укоренившуюся у них привычку опубликовывать свои основные теории и их положения на западноевропейских языках. В этих, как и во многих других интеллектуальных областях данного труда, я нередко забредал так глубоко, что зачастую сомневался, смогу ли найти дорогу обратно. Разумеется, это стало второй причиной того, что реализация проекта заняла так много времени.
Однако скрупулезное сравнение и сопоставление самых разных взглядов и подходов является основополагающим базисом этой книги. Мой изначальный замысел предусматривал описание трансформации варварской Европы в 1-м тысячелетии с двух точек зрения. Во-первых, мне представлялось, что схожие модели развития можно обнаружить в германских обществах на границах Римской империи в первой половине 1-го тысячелетия и в славянских обществах на границах Франкского королевства и Византийской империи – во второй. Сходство между ними не могло быть случайным. Во-вторых, я счел, что на некоторые современные подходы к изучению феномена переселения варварских народов в этот период повлияла излишняя абсолютизация его важности в предшествовавших исследованиях. Отсюда проистекает намеренное преуменьшение роли этого явления в современной историографии. Для того чтобы помочь себе переосмыслить переселение народов в 1-м тысячелетии, я счел, что будет интересно ознакомиться с более современными и хорошо документированными аналогиями. Поэтому в конечном счете моя книга и приобрела нынешние очертания. Постепенно при изучении современных компаративных исследований, затрагивающих проблемы миграции, я стал осознавать, что, во-первых, ее основные черты и формы обычно неразрывно связаны с превалирующими моделями социального и экономического развития общества и, во-вторых, она неотделима от политического контекста (или контекстов), который определяет ее и служит для нее фоном. Другими словами, хоть у меня и ушло много времени на то, чтобы это осознать, я понял, что два независимых аспекта моего подхода к изучению варварской Европы в 1-м тысячелетии были далеко не независимыми, а неразрывно связанными, взаимодополняющими чертами единого глобального процесса трансформации. Характерные особенности миграции в 1-м тысячелетии были обусловлены и неразрывно связаны с более масштабными социально-экономическими и политическими преобразованиями варварского общества в этот период. На миграционные процессы также влияло и взаимодействие отдельных сообществ с современными им имперскими силами. Эта основополагающая идея данной книги появилась исключительно благодаря широкому применению компаративного подхода, ставшего определяющим для всего проекта. Разумеется, только читатель сможет решить, принесло ли применение вышеупомянутого подхода свои плоды и стоили ли они известного пренебрежения деталями, которое стало его неизбежным следствием.
Тем не менее мне бы хотелось с огромным удовольствием и благодарностью упомянуть и о той помощи, которую я получил за долгие годы работы над проектом. Я в неоплатном долгу перед некоторыми институтами и организациями. Кафедры классических наук и истории Йельского университета предоставили мне убежище с 1999 по 2000 год, за этот период я сумел в значительной степени обогатить свои познания, в том числе о характерных особенностях миграции. Исследовательский совет по искусству и гуманитарным наукам осенью 2004 года выделил мне еще один семестр академического отпуска – у меня было порядка восьми месяцев, за которые мне удалось набросать завершающие главы этой книги. Часть этого времени я провел в изумительно приятном месте – Думбартон-Оке в Вашингтоне, округ Колумбия. Там, в окружении огромного количества книг и при контакте с вдохновляющим обществом, было невероятно легко работать. С большим удовольствием я хочу поблагодарить директора и членов совета за премию в знак признания достижений в осенний семестр 2004 года. Небольшой грант в рамках проекта «Миграции и диаспоры» Исследовательского совета по искусству и гуманитарным наукам позволил мне весной и летом 2005 года провести несколько семинаров на тему «Миграция и 1-е тысячелетие н. э.», которые оказались весьма плодотворными как для меня, так и, надеюсь, для других участников.
Академические долги, накопившиеся у меня за эти шестнадцать лет, неподъемны, и я не могу поблагодарить лично каждого. В первые годы, когда я только обдумывал эту тему, мне повезло стать членом подгруппы проекта «Трансформация римского мира», которую финансировал Европейский научный фонд. Этот опыт оказал на меня большое влияние, и я не могу передать, скольким я ему обязан – благодаря обмену идеями и информацией, который имел место тогда и не прервался после. Я в особенности признателен Пшемыславу Урбаньчику за то, что он пригласил меня в Польшу и дал возможность глубже изучить славян раннего Средневековья, о которых у меня в ту пору имелись крайне поверхностные представления. Далее я хотел бы поблагодарить всех людей, способствовавших тому, что семинары по миграции, спонсированные Исследовательским советом по искусству и гуманитарным наукам, оказались таким приятным и полезным опытом. Я хотел бы поблагодарить многих ученых, помогавших мне в процессе работы, щедро делясь своими мыслями и публикациями, и в особенности Пола Барфорда, Анджея Буко, Джеймса Кемпбелла, Дэвида Дамвилла, Гая Халсалла, Вольфганга Хаубрихса, Лотте Хедеагер, Агнара Хельгасона, Кристиана Любке, Вальтера Пола, Марка Щукина, Марка Томаса, Брайана Уорда Перкинса, Майка Уитби, Марка Уиттоу, Криса Уикхема, Иэна Вуда и Алекса Вульфа. Перед вами далеко не полный список, но эти имена могут, по крайней мере, стать символом моего интеллектуального долга остальным, который слишком велик.
За непосредственную работу над книгой я бы хотел выразить признательность моему редактору Джорджине Морли, редакторам-корректорам Сью Филпотт и Нику де Сомогию вместе с главным редактором Таней Адамс. Я знаю, что изрядно усложнил им жизнь, но они внесли огромный вклад в проект, и я бесконечно благодарен за каждую подмеченную и исправленную неточность или ошибку. Оставшиеся погрешности, разумеется, полностью на моей совести. Большое спасибо Нилу Маклинну и другим моим друзьям и коллегам, которые прочли столько страниц этой книги в черновиках. Я глубоко благодарен им за терпение, поддержку и исправления. И как обычно, я в неоплатном долгу перед близкими за то, что они выносили меня эти долгие месяцы. Бонго и Туки выдержали проверку терпением, хотя обычно им не отличаются, а Уильям и Натаниель великодушно прощали мою вечную занятость и дурной нрав. Но прежде всего я хочу поблагодарить Гейл, которая не только оказывала мне логистическую и эмоциональную поддержку, но и долго и упорно трудилась на последних этапах создания этой книги. Может, мои долги и впрямь неизмеримы, но, по крайней мере, такова и моя ответная любовь и благодарность.
Введение
Летом 882 года близ Альфёльда, где между Альпами и Карпатами течет Дунай, Святополк, князь Моравский, и его люди захватили в плен Веринара, «среднего сына из троих сыновей Энгельшалька, и их родственника графа Веццелина, и отрезали им правые ладони, языки и – ужасная жестокость! – гениталии, так что ни следа их [гениталий] не осталось». Два аспекта в этом инциденте выделяются на фоне европейской истории 1-го тысячелетия.
Во-первых, моравы были славянами. Великая Моравия располагалась к северу от Дуная, приблизительно на территории нынешней Словакии, и с современной точки зрения тот факт, что славяне господствовали в этой части Центральной Европы, удивления не вызывает. Они живут там и сейчас. Но в начале 1-го тысячелетия и на протяжении следующих пятисот лет Словакия да и остальные земли вокруг нее находились под контролем германцев. Откуда же появились славяноязычные моравы?
Во-вторых, случай примечателен сам по себе. Несмотря на то что мы узнали о нем от франкского, а не моравского историка, и несмотря на описываемые ужасающие увечья, автор источника склонен сочувствовать славянам. Моравы пошли на это, утверждает он, чтобы отомстить и упредить новый удар. Они мстили за то, как отец Веринара Энгельшальк и его дядя Вильгельм обращались с ними, когда вдвоем отвечали за сохранность границы с франкской стороны. В-третьих, то была превентивная мера – они пытались помешать сыновьям Энгельшалька продолжить дело своего отца, заняв его место. При всей своей свирепости моравы не проявляли ее без причины, и даже франкский летописец видел четкую цель за их жестокостью. Они хотели, чтобы та часть границы управлялась приемлемым для них образом. Археологические свидетельства помогают рассмотреть это требование в исторической перспективе. Моравия была первым более или менее крупным славянским государством, появившимся в конце 1-го тысячелетия, и ее археологические остатки производят сильное впечатление. В Микульчице, моравской столице, исследователи обнаружили ряд массивных каменных перекрытий и руины великолепного собора площадью 400 квадратных метров – построек таких размеров не было в то время нигде, даже в теоретически более развитых регионах Европы[1]. Опять же, это весьма интересно на фоне общей картины 1-го тысячелетия. На рубеже двух эр в Моравии господствовали германцы, которые жили маленькими группками под управлением вождя – и не строили ничего серьезнее, чем чуть более крупные (в противовес чуть более мелким) деревянные хижины.
Описанное выше приграничное столкновение в конце IX века, таким образом, превосходно иллюстрирует проблему, лежащую в основе этой книги, – фундаментальную трансформацию варварской Европы в 1-м тысячелетии. Термин «варварская» используется на протяжении всей книги в довольно специфическом смысле, который включает в себя лишь часть того значения изначального греческого barbaros. Для греков, а затем и римлян слово «варварский» содержало коннотацию «низший» – во всем, от моральных устоев до поведения за столом. Оно значило «противоположный», «другой», было зеркальным отражением цивилизованного имперского Средиземноморья, которое объединила под своей властью Римская империя. Я же использую это понятие в более узком смысле, лишив его оценочной коннотации. Варварская Европа в данном исследовании означает не римский, не имперский мир востока и севера. При всех достижениях Средиземноморья, во всем, от философии до инженерии, оно оставалось миром, где считалось нормой скармливать людей диким животным ради развлечения, поэтому я даже не знаю, как можно сравнивать имперскую и варварскую Европу в моральном плане.
Эта история начинается с рождением Христа, когда европейские просторы были царством контраста. Круг Средиземноморья, недавно объединенной под властью Римской империи, был родиной цивилизации со сложным политическим аппаратом, передовой экономикой и развитой культурой. У этого мира была философия, банковская система, профессиональные армии, литература, потрясающая архитектура и система сбора мусора. В остальной Европе, помимо редких участков к западу от Рейна и к югу от Дуная, которые уже начинали маршировать под музыку Средиземноморья, проживали слаборазвитые земледельцы, собиравшиеся в маленькие политические образования. Большая ее часть находилась под господством германцев, которые умели изготавливать железные орудия труда и оружие, но работали по большей части с деревом, были практически безграмотны и не строили из камня. Чем дальше к востоку, тем проще все становилось – меньше железных орудий, менее продуктивные методы земледелия и низкая плотность населения. Таким был древний мировой порядок на западе Евразии: доминирующее Средиземноморье властвовало над отсталыми северными рубежами.
Перенесемся на тысячу лет вперед – мир изменился совершенно. Не только славяне сменили германцев в роли доминирующей силы в большей части Европы варварской, а часть германцев, в свою очередь, – римлян и кельтов в цивилизованной, но, что еще более важно, господству Средиземноморья пришел конец. В политическом ключе это было вызвано появлением более крупных и крепких государственных образований на старых северных рубежах, вроде уже упоминавшихся моравов, но политикой дело не исчерпывается. К 1000 году многие культурные модели Средиземноморья – не в последнюю очередь христианство, грамотность и каменные постройки – распространились на север и восток. И разумеется, модели организации человеческой жизни смещались к большей однородности во всей Европе. Именно эти новые государственные и культурные структуры навсегда разрушили древний мировой порядок, при котором над миром доминировало Средиземноморье. Варварская Европа перестала быть варварской. Древний мировой порядок уступил место культурным и политическим моделям, от которых и произошли таковые в современной Европе.
Общее значение этого передела влияния проявляется в том, что история многих европейских стран, хоть и с натяжкой, уходит корнями в новое политическое сообщество, образовавшееся приблизительно в середине и конце 1-го тысячелетия.
Но тем не менее большинство наций Европы никогда не смогут проследить свою историю дальше, хотя бы до рождения Христа, не то что во времена до н. э. В глубинном смысле политические и культурные трансформации 1-го тысячелетия стали свидетелями процесса рождения современной Европы. Ведь Европа – не столько географический, сколько культурный, экономический и политический феномен. С точки зрения географии это всего лишь западная часть огромного евразийского массива. Но подлинную историческую идентичность Европе дает появление сообществ, столь тесно взаимодействовавших друг с другом в политическом, экономическом и культурном плане, что у них появились важные общие черты, и впервые это сходство возникло в результате трансформации варварской Европы в 1-м тысячелетии.
Поскольку этот период стал ключевым для возникновения наций и разделения Европы на регионы, он давно привлек внимание ученых и широкой общественности. Варианты гипотез, в которых древние национальные сообщества возникали в тех или иных условиях, преподавались в школах, и с введением системы всеобщего образования осталось очень мало современных европейцев, которые незнакомы по крайней мере с приблизительной историей своих стран. Однако именно на этом этапе история становится весьма приблизительной.
Вплоть до недавнего времени научные и общественные представления об изучаемом периоде отдавали главную роль в истории иммигрантам всех видов и сортов, которые появлялись в разных местах в разные моменты тысячелетия. В середине германоязычные иммигранты уничтожили Римскую империю и создали первые государства, ставшие далекими предками современных. За ними пришли другие германцы, а следом и славяне, чьи действия поставили на место немало кусочков в европейской мозаике. Новые иммигранты из Скандинавии и степей ближе к концу тысячелетия завершили ее. Споры о деталях были весьма жаркими, но общая картина ни у кого не вызывала сомнений – массовая миграция мужчин и женщин, молодых и стариков, сыграла решающую роль в этой саге о создании Европы.
За последнее поколение, однако, согласие среди ученых по данным вопросам было нарушено, поскольку вдруг выяснилось, что проблемы эти были слишком просты. Не появилось никаких новых подходов, пересмотров, однако результатом большого числа более поздних работ на эту тему стало принижение роли миграции, по крайней мере, некоторых из дальних предков современных европейских наций. К примеру, теперь нередко утверждают, что лишь очень малые объединения (если таковые вообще были) продвигались путями, по которым, как предполагалось, шла массовая миграция. Раньше считалось, что большие социальные группы регулярно передвигались по просторам Европы 1-го тысячелетия, а в последнее время стали доказывать, что переселялись очень немногие и к ним уже в процессе присоединялись другие, приобретавшие тем самым новую групповую идентичность. И куда более важную роль, чем миграция любого масштаба, в преображении варварской Европы за тысячу лет с рождения Христа, как показывает эта работа, сыграли внутренние экономические, социальные и политические трансформации.
Основная цель данной книги – предоставить подробный обзор становления Европы, который покажет полную картину, принимая в расчет все позитивные аспекты ревизионистского подхода, избегая при этом его ловушек. Как напоминает случай с моравами, формирование государства в ранее недоразвитой, варварской Европе, появление и рост все более крупных и цельных политических образований – это, по крайней мере, такая же, если не более важная часть истории 1-го тысячелетия, как миграция. Именно возникновение (к концу изучаемого периода) государств вроде Моравии на североевропейском политическом ландшафте не позволяло средиземноморским государствам вновь утвердить свое повсеместное господство, как то делала тысячу лет назад Римская империя. Тем не менее очень важно не перейти из одной крайности в другую и не начать утверждать, будто мигрантов было очень мало и все они с легкостью меняли групповую идентичность. Верный подход, как покажет эта работа, заключается в том, чтобы не отвергать миграцию, в том числе и перемещения больших групп, но проанализировать ее различные модели в контексте преобразований, происходивших тогда в варварской Европе.
В целом эта книга ставит перед собой еще более дерзкую задачу, нежели вернуть массовую миграцию в список важных феноменов 1-го тысячелетия, бесстрастно уместив ее в череде других трансформаций. Она покажет, что можно подвести единую теорию под трансформацию варварской Европы. При ближайшем рассмотрении процессы, повлиявшие как на форжирование государств, так на конкретные формы миграции, правильнее всего понимать не как два разных вида трансформации, но как альтернативную реакцию на одни и те же стимулы. И те и другие необходимо рассматривать как реакцию на колоссальное неравенство между более и менее развитыми регионами Европы, которое имелось в начале н. э. И те и другие, на мой взгляд, сыграли свою роль в устранении этого неравенства. Миграция и формирование государств – тесно связанные феномены, которые уничтожили древний мировой порядок средиземноморского господства и заложили фундамент для возникновения современной Европы.
Глава 1
Переселенцы и варвары
В апреле 1994 года около 250 тысяч человек покинули восточноафриканскую Руанду и направились в соседнюю Танзанию. В июле того же года невероятное количество людей – миллион – последовало их примеру и направилось в Заир. Они бежали от волны чудовищного насилия, которая была спровоцирована заказным убийством, имевшим на редкость печальные последствия. 6 апреля того года президент Руанды Жювеналь Хабиаримана и президент Бурунди Сиприен Нтарьямира погибли, когда их самолет потерпел крушение при попытке приземлиться в столице Руанды, – от двух ведущих либеральных политиков региона избавились одним ударом. Других либерально настроенных политиков в законодательных, исполнительных и судебных органах власти заставили замолчать схожим образом, и начались убийства – не только в городах, но и по всей стране. По подсчетам ООН, только в апреле погибло около 100 тысяч человек, а всего за время конфликта число жертв составило около миллиона. Единственным спасением оставалось бегство, и в апреле и июле мужчины, женщины и дети массово покидали страну, чтобы сохранить жизнь. Большинство беженцев оставляли все свое имущество, а также лишались качественной воды и пищи. Результаты были предсказуемы. За первый же месяц после июльского бегства в Заир погибли 50 тысяч человек, а за все время около 100 тысяч – одна десятая общего числа беженцев – умерло от холеры и дизентерии.
Руанда – один из самых трагических примеров миграции в современном мире, вызванной политическим кризисом. Чуть позже 750 тысяч косовских албанцев бежали в соседние государства, точно так же пытаясь спастись от вспыхнувшего в стране конфликта. Однако массовый отток беженцев, вызванный опасной ситуацией в стране, – лишь одна из причин миграции. Куда чаще люди пытаются переехать в страну «побогаче» для того, чтобы улучшить качество своей жизни. Этот феномен встречается по всему миру. 200 тысяч из 3,5 миллиона человек уехали из Ирландской республики в 80-х годах – преимущественно в более богатые регионы Европы, хотя многие из них впоследствии после расцвета ирландской экономики вернулись, и уже сама Ирландия стала привлекать мигрантов, ищущих работу. Из различных народностей субсахарской Африки 15 миллионов человек проживают на Ближнем Востоке, 15 – в Южной и Юго-Восточной Азии, еще 15 – в Северной Америке и 13 – в Западной Европе. Причины столь масштабной миграции – ведь эти цифры очень велики, почти невообразимы – заключаются в огромной разнице в благосостоянии населения. Средний доход в Бангладеш, к примеру, составляет лишь одну сотую такового в Японии. Это означает, что житель Бангладеш, работающий в Японии всего лишь за половину средней заработной платы, за две недели получит столько же денег, сколько получил бы на родине за два года. Политическое насилие в сочетании с экономическим неравенством порождает миграцию – в самых разных формах, – которая является одной из важных черт современного мира.
В прошлом ситуация ненамного отличалась от нынешней. «История человечества – это история миграции»[2]. Это прописная истина, которая, как и большинство других, в широком смысле верна. В ней заключена основа всех имеющихся на сегодняшний день доказательств человеческой эволюции – ведь, эволюционировав в благоприятных условиях Африканского континента, различные виды гоминидов с помощью умения приспосабливаться, дарованного им более развитым мозгом, расселились практически по всем природным регионам планеты. Весь мир, в сущности, населен потомками переселенцев, ищущих себе прибежище.
Документированная история прошлого тысячелетия также содержит многочисленные примеры миграции, некоторые из них – особенно берущие начало в Европе – описаны на удивление подробно. Современные Соединенные Штаты Америки – феномен, созданный иммигрантами. До 60 миллионов европейцев переехали с 1820 по 1940 год в самые разные точки земного шара, из них 38 миллионов – в Северную Америку. Не стихающие волны испаноязычных иммигрантов означают лишь одно: американская история еще далека от завершения. Точно так же четверть миллиона человек эмигрировали из Испании в Новый Свет в XVI веке, еще 200 тысяч – в первой половине XVII. В те же самые века соответственно 80 тысяч и полмиллиона британцев переплыли северную часть Атлантического океана. Но чем глубже мы погружаемся в века, тем менее подробными и полными становятся записи. Ясно одно: миграция всегда была важным явлением. В расцвет Средневековья около 200 тысяч германоговорящих крестьян лишь за XII век переселились на территории к востоку от Эльбы, чтобы занять земли в Гольштейне, западном Бранденбурге и саксонских степях[3].
Население Европы
Однако в этой книге рассматривается еще более отдаленное прошлое – Европа в 1-м тысячелетии н. э. Это мир, балансирующий на грани между историей и доисторической эпохой. Некоторые его регионы более-менее изучены благодаря письменным историческим источникам, другие – благодаря вещественным свидетельствам, археологическим остаткам. Их разнообразие и сочетания представляют собой известные сложности для ученых, однако нет никаких сомнений в том, что самые разные мигранты бороздили просторы Европы в 1-м тысячелетии после рождения Христа. Учитывая роль, которую переселение как феномен сыграло в истории человечества, было бы странно, если бы они этого не делали. В течение первых двух веков н. э. римляне двинулись за границы Италии, чтобы принести блага городской жизни и центральное отопление в другие крупные регионы Западной Европы. Однако именно переселение так называемых варваров за границы имперской Европы давно считается главной чертой 1-го тысячелетия.
Кем были эти варвары, где и как они жили незадолго до того, как в Вифлееме родился Христос?
Варварская Европа
В начале 1-го тысячелетия имперская Европа, границы которой определялись лишь мощью и количеством легионов Рима, протянулась от Средиземноморского бассейна на север практически до самого Дуная и на восток до Рейна. Дальше жили европейские варвары, занимавшие отдельные горные области в Центральной Европе и большую часть Великой Европейской равнины, самый крупный из четырех основных географических регионов Европы (см. карту 1). Однако целостность этой обширной территории, имеющаяся в ее геологической структуре, не наблюдается в социально-экономической сфере. Тяжелая глиняная порода доминирует на ее бескрайних просторах, однако имеющиеся различия в климате и, соответственно, растительности породили существенную неравномерность и в плодородности земель, что очень важно для сельского хозяйства – оно зависит как от продолжительности посевного периода, так и от богатства самой почвы. Западные регионы, и в особенности Южная Британия, Северная Франция и страны Бенилюкса, подвержены влиянию атлантических погодных явлений, в них умеренные, влажные зимы и прохладные летние месяцы с обильными осадками. Почему именно британцы изобрели крикет, единственную игру, в которую нельзя играть под дождем, – одна из величайших загадок истории. В центральных и восточных регионах Европейской равнины климат больше похож на континентальный, зима там холоднее, а лето – жарче и суше. Средняя зимняя температура понижается дальше к востоку, и в юго-восточном направлении также уменьшается количество осадков, выпадающих летом. Исторически это явление оказывало значительное влияние на земледелие, особенно до эпохи Нового времени, когда технологии земледелия не отличались разнообразием. На юго-востоке, даже в знаменитых своим плодородием черноземных районах Украины, урожайность была ограничена малым количеством осадков летом и поселения появлялись преимущественно в речных долинах. На севере и востоке серьезные ограничения на земледелие накладывали суровые зимы. Из-за холодов лиственные, хвойные и смешанные леса, составляющие основные виды растительности в тех регионах, постепенно сдают позиции – сначала хвойным таежным лесам, затем арктической тундре. В широком смысле северная граница смешанной лесной зоны отмечает тот регион Европейской равнины, где почва еще достаточно богата гумусом, чтобы даже в далеком прошлом можно было получать приемлемый урожай и заниматься земледелием – либо традиционными методами, либо подстраиваясь под более суровые условия.
В начале 1-го тысячелетия н. э. большая часть этой равнины была покрыта густыми лесами, а Северная Европа еще не успела в полной мере реализовать свой земледельческий потенциал. Причиной тому были не только деревья, но и почва. Сам по себе довольно плодородный слой почвы севера Европейской равнины состоит в основном из глинистых пород, для возделывания которых были необходимы тяжелые плуги, которыми можно было бы не только взрезать дерн, но и перемешивать землю, чтобы сорняки и отходы от урожая могли перегнивать, насыщая почву к следующему сезону. В период Высокого Средневековья эта проблема была решена изобретением карруки, четырехколесного железного плуга, который тянули восемь быков, но в начале тысячелетия большинство европейских варваров в буквальном смысле слова не могли прорваться через верхний слой почвы. Поэтому обитатели Европейской равнины мало занимались земледелием, ровно в той степени, чтобы урожая хватило для выживания, и население распределялось между изолированными островками возделываемой земли посреди моря зелени.
Средиземноморских историков всегда куда больше интересовали соотечественники, нежели варварские «чужаки» за границей, но даже они понимали, что островков возделываемой земли быстро становилось все больше – и население быстро росло, особенно ближе к западу. В конце концов они поделили варварских жителей Великой Европейской равнины на германцев и скифов. Вообще-то там еще жили кельты, но большая часть Кельтского региона – Западной и Центрально-Южной Европы – была уже поглощена армиями Римской империи. И в начале 1-го тысячелетия жители этих земель не желали иметь с варварами ничего общего; там царствовал латинский язык, имелись города и свалки для мусора. Археологические находки указывают на то, что граница имперской Европы не случайно была проведена именно здесь. Кельтская культура доримского периода знаменита своим узнаваемым стилем, часто находившим выражение в работах по металлу. Кельтские поселения того периода также обладали развитой культурой во многих аспектах материального благополучия – помимо всего прочего, там процветало гончарное дело (производство велось с помощью гончарных кругов), встречались поселения, обнесенные стенами (так называемые оппидумы), применение железных орудий труда позволило создать довольно развитую систему земледелия[4].
Материальные свидетельства, оставленные германцами того же периода, по сравнению с кельтскими менее сложны и многочисленны. Типичные находки в германской Европе включают в себя захоронения праха в урнах с немногочисленными дарами для загробной жизни, глиняную посуду, сделанную вручную, а не на гончарном круге; у них не было развитого кузнечного дела, никаких оппидумов. Общий уровень земледельческих работ в районах, заселенных германцами, был не таким высоким. Причина заключалась в том, что экономика германской Европы меньше опиралась на земледелие, чем в соседних с ними регионах кельтов, и, разумеется, там было куда меньше возможностей для развития ремесел – кузнечного дела или искусства, которые необходимы для изготовления сложных предметов из металла. Римляне не собирались ограничиться лишь завоеванием Кельтского региона Европы, однако сохранившиеся записи показывают, что римские военачальники в конечном счете поняли, что менее развитая экономика германской Европы не стоит того, чтобы захватывать эти новые территории. Традиционно считается, что римлянам просто не удалось покорить германцев (Germani, как нередко называют германоязычные племена, населявшие Европу); вспоминают, что три легиона Квинтилия Вара были уничтожены в битве в Тевтобургском лесу в 7 году н. э. Реальность же была куда более прозаична. За это поражение римляне в дальнейшем жестоко отомстили, но факт остается фактом: дань, которую можно было брать с покоренной германской Европы, не окупила бы затрат ни на завоевание, ни на последующее размещение на той территории римских гарнизонов.
В результате вскоре после Рождества Христова различные германоязычные племена получили в свое распоряжение обширные просторы Европы между Рейном и Вислой (см. карту 1). Соответственно, основные социальные и политические объединения германцев были небольшими. Тацит в I веке и Птолемей во П-м предоставили список племен, вызывающий недоумение, – их можно разместить на карте лишь приблизительно. Однако совершенно ясно одно: этих политических объединений («племен», если вам так угодно, хотя у этого слова наличествуют не вполне приемлемые коннотации) было так много, что каждое отдельно взятое «племя» было, по всей вероятности, невелико.
Но не весь этот регион оказался под властью германцев – или, по крайней мере, не всегда был их собственностью. Греко-римские источники утверждают, что германская Европа периодически увеличивалась в размерах, хотя в них не содержится сколько-нибудь подробных сведений об указанном процессе. К примеру, германоязычные бастарны двинулись к юго-востоку от Карпат в конце III века до н. э., чтобы стать главной силой на территориях к северо-востоку от Черного моря. На рубеже тысячелетий германоязычные маркоманы изгнали кельтских бойев с горных склонов Богемии. Таким образом, говоря о германской Европе, мы имеем в виду Европу, в которой германцы лишь преобладают, и нет причин полагать, будто все народы этой огромной территории – часть которой в недавнем прошлом была завоевана – обладали однородной культурой (с точки зрения религиозных верований или социального уклада) или хотя бы говорили на одном языке[5].
Термин «Скифия» быстро вошел в обиход греко-римских географов для обозначения обитателей восточных регионов Восточно-Европейской равнины, протянувшихся от реки Вислы и предгорий Карпат до Волги и Кавказа (см. карту 1). В греческой географии и этнографии эти земли нередко изображались как дикие края, архетипичное «другое», зеркальное отражение греческой цивилизации. А обитателям этого мира приписывались обычаи, свойственные самым нецивилизованным народам, – ослепление, снятие скальпов, порка, нанесение татуировок и даже питье вина, не разбавленного водой. На деле же территорию, обозначаемую этим понятием, населяли самые разные народности. В долинах великих рек, плавно несущих свои воды с восточных окраин Великой Европейской равнины к югу, имелись плодородные земли, пригодные для возделывания, по крайней мере в пределах температурных зон, свойственных лесостепи. К югу лежали куда более засушливые степи, где на поросших травой просторах паслись стада, принадлежащие кочевникам. Дальше к северу и востоку земледелие постепенно сдавало позиции, уступая место собирательству и охоте, процветавшим до самого Полярного круга[6].
Из разнообразных народностей только кочевники в дальнейшем сыграют важную роль в нашем рассказе о преображении варварской Европы в 1-м тысячелетии, но и то косвенную, а следовательно, нет необходимости подробно описывать их уклад. Довольно будет сказать, что к началу этого периода племена кочевников уже давно скитались по землям к юго-востоку от Карпатских гор и к северу от Черного моря. Географически этот район опять-таки является частью Великой Европейской равнины, однако скудость летних осадков делает земледелие здесь по меньшей мере сложным, если не невозможным. К востоку от Дона дожди столь редки, что без ирригации заниматься сельским хозяйством попросту невозможно, а поскольку эта технология не была принесена в эти земли в античную эпоху, там сохранялась лишь традиционная степная растительность – трава. К западу от Дона влаги для культивации достаточно, однако эти долины находятся слишком близко к засушливой зоне, недалеко от побережья Черного моря, где опять же начинаются степи. Поэтому не следует удивляться тому, что господство над этой территорией во времена Античности получали то кочевые народы, то оседлые племена земледельцев. По рождению Христа германоязычные бастарны и певкины, пришедшие в эти земли в III веке до н. э., по-прежнему оставались их полноправными хозяевами, однако вскоре их разбили кочевые племена сарматов, пронесшиеся по этим степям в I веке н. э.[7]
К северу от лесостепи восточные регионы Восточно-Европейской равнины покрыты лесами, ближе к северу – преимущественно хвойными. Здесь средняя зимняя температура ниже, в почве меньше гумуса и условия для земледелия куда менее благоприятные. Этот мир был почти незнаком жителям Средиземноморского региона в начале 1-го тысячелетия. В своем труде «Германия» Тацит помещает охотников и собирателей феннов на дальнем севере, а еще одно племя, венедов, между ними и германцами – певкинами, в предгорья Карпатских гор: «Венеды переняли многое из их [сарматов] нравов, ибо ради грабежа рыщут по лесам и горам, какие только ни существуют между певкинами и феннами. Однако их скорее можно причислить к германцам, потому что они сооружают себе дома, носят щиты и передвигаются пешими, и притом с большой быстротой». Живший раньше Плиний также слышал о венедах, как он их называет, но не сообщил о них абсолютно никаких подробностей, и даже географ II века Птолемей знал о них очень немногое – только названия некоторых племен. Эта земля была менее таинственной, чем та, что лежала за ней, где люди имели «человеческие лица, но тела зверей», но лишь совсем ненамного.
Археологические свидетельства рисуют довольно простую картину жизни обитателей лесных зон Восточной Европы на рубеже двух эр. Как можно предположить по сведениям Тацита о наличии постоянных поселений, это был мир земледельцев, но земледельцев, обладавших крайне простой культурой, менее развитой даже, чем у племен, живущих дальше к западу в германской Европе. Остатки глиняной посуды, орудий и поселений настолько незамысловаты, что невозможно даже установить особенности стиля или хотя бы отнести находки к определенной эпохе, поскольку развитие в первой половине 1-го тысячелетия н. э. происходило слишком медленно. Археологические свидетельства позволяют предположить, что здесь преобладали немногочисленные, изолированные друг от друга поселения земледельцев, средств к существованию у них было еще меньше, чем у германцев, почти не оставалось излишков продовольствия, не было торговых связей с более богатым миром Средиземноморского региона к югу от них. Этническая и лингвистическая принадлежность этих живущих в лесах венедов стала предметом жарких споров, особенно в вопросе родства с другими племенами, говорящими на славянских диалектах, которые стали играть важную роль в Европе с начала второй половины 1-го тысячелетия. Мы вернемся к этому вопросу в главе 8, однако, на мой взгляд, место, где на рубеже тысячелетий с наибольшей вероятностью могли обитать славяне или их предки, – земли между этими простыми фермерскими поселениями и восточными окраинами Великой Европейской равнины[8].
Таким образом, с незначительными упрощениями варварская Европа в начале 1-го тысячелетия может быть разделена на три основные зоны. Дальше всего к западу и ближе к Средиземному морю жили наиболее цивилизованные народы, с высоким уровнем сельскохозяйственного производства и материальной культурой, о чем свидетельствуют хорошо развитые ремесла – гончарное и кузнечное дело, продукты которых разнообразны и изысканны. В этом регионе уже давно прочно обосновались кельтские племена, и многие из них попали под владычество Рима. Дальше к востоку лежала Европа, в которой господствовали германцы, сельское хозяйство там было менее развитым, как и, соответственно, материальная культура. Однако даже у германцев земледелие процветало по сравнению с обитателями лесов Восточной Европы, почти не оставившими следов собственной материальной культуры. В этом кратком обзоре нет почти никаких противоречивых фактов – разве что место жительства первых славян остается спорным. Однако еще более спорной является роль, которую сыграло переселение народов в удивительной трансформации варварской Европы, произошедшей в течение следующего тысячелетия.
Переселение варваров и 1-е тысячелетие
Тот факт, что переселение народов так или иначе имело место в варварской Европе в 1-м тысячелетии, признается всеми. Однако общая картина остается противоречивой. До Второй мировой войны миграция рассматривалась как явление чрезвычайной важности, сыгравшее ключевую роль в преображении варварской Европы – этакий хребет, сформировавший облик тысячелетия. Масштабная миграция германцев в IV и V веке и. э. разрушила Западную Римскую империю и принесла лингвистические и культурные новообразования на север. В эту эпоху готы, жившие на северном побережье Черного моря, прошли больше 2 тысяч километров к юго-западу современной Франции – тремя скачками на протяжении тридцати пяти лет (ок. 376–411 и. э.). Вандалы из Центральной Европы преодолели в два раза более длинный путь и пересекли все Средиземноморье, оказавшись в итоге (опять-таки за три перехода) в центральных провинциях Северной Африки, входившей в Римскую империю. На это у них ушло тридцать три года (ок. 406–439 н. э.), в этот период вошла и довольно продолжительная остановка в Испании (411–430). Тогда же произошел крутой поворот в истории Британских островов – с приходом туда англосаксонских иммигрантов из Дании и Северной Германии.
Однако еще более важную роль (хотя с этим можно поспорить) сыграла миграция славян. Их происхождение всегда было предметом горячих споров, однако, откуда бы они ни взялись, не приходится сомневаться в одном: сравнительно малочисленные прежде, в VI веке, племена, говорящие на славянских диалектах, расселились по обширным регионам Центральной и Восточной Европы. Значительную часть этих земель до того занимали германские народы, поэтому приход славян ознаменовал собой серьезные перемены в культуре и политике. Так появилась третья обширная лингвистическая зона современной Европы (вместе с романскими и германскими языками), и границы между ними мало менялись с самого своего появления. Переселение скандинавов в IX и X веках завершило тысячелетие массовой миграции. В Атлантике впервые были колонизированы совершенно новые территории – Исландия и Фарерские острова, в то время как мигранты-викинги в Западной Европе основали Данелаг в Англии и герцогство Нормандия на континенте. Дальше к востоку другие скандинавские переселенцы сыграли важную роль в создании первого Русского государства, Киевской Руси, появление которого установило основные границы в Европе вплоть до наших дней[9].
Ни один из подходов к этим переселениям и оценке их значимости не получил всеобщего признания. Многие детали, как станет ясно в последующих главах, всегда были и останутся весьма противоречивыми. Однако твердая уверенность в том, что миграция варваров сыграла крайне важную роль в формировании Европы в 1-м тысячелетии, была характерной чертой всех европейских научных подходов вплоть до 1945 года. Самые именитые ученые провозглашали это утверждение несомненным. Считалось, что мигранты 1-го тысячелетия установили основные лингвистические зоны современной Европы – границы между регионами, в которых жили носители романских, германских и славянских языков. Однако переселению народов отводилась ключевая роль и в глубинных проблемах. Считалось, что отдельно взятые группы переселенцев заложили основы таких крупных и долго существующих политических единиц, как Англия, Франция, Польша и Россия, не говоря уже о прочих славянских государствах, которые завоевали независимость от многонациональных империй Европы в XIX и XX веках. В период между двумя мировыми войнами количество современных европейских государств, которые могли проследить свою историю вплоть до появления в 1-м тысячелетии первых переселенцев, поражало. Это общее видение прошлого в дальнейшем получило название «великий нарратив». Споры из-за отдельных деталей так до конца и не утихли, но это не имело особого значения. Важно одно: многие нации, населяющие современную Европу, считали, что корни их самобытности уходят в далекое прошлое, к тому или иному моменту в переселении народов 1-го тысячелетия[10].
Неотъемлемой частью этого нарратива было своеобразное видение природы народностей, которые переселялись из одного региона в другой. Многие из этих переходов не получили подробного освещения в исторических источниках, некоторые – никакого вовсе. Однако сохранившиеся исторические источники нередко сообщают о больших группах мужчин, женщин и детей, которые весьма целеустремленно двигались от одного региона к другому. Эти сведения нашли у ученых живейший отклик. Поскольку группы мигрантов рассматривались как прародители чего-то большего – народов, которых ждала долгая история и которые в конечном счете дали жизнь нациям современной Европы, – казалось вполне естественным применить эту точку зрения ко всем переселенцам. Таким образом, все группы мигрантов 1-го тысячелетия – встречались они в исторических источниках или нет – стали рассматриваться как крупные народности, обладающие самобытной культурой, самовоспроизводящиеся, этнически однородные группы, которые передвигались из пункта А в пункт Б, не встречая никаких преград и не испытывая стороннего влияния. Хорошей иллюстрацией, наглядно объясняющей суть процесса миграции, может стать обитый зеленым сукном стол, по которому катаются бильярдные шары. Что-то может заставить их двинуться из одной части стола в другую (обычно основной причиной миграции считали перенаселение), но все шары, проходя свой путь, остаются неизменными до конца перемещения. Именно так рассматривали в первую очередь переселение германских племен с IV по VI век, в меньшей степени – скандинавов и славян. Современные славянские нации – сербы, хорваты и словенцы, к примеру, могут проследить свою историю вплоть до соответствующих народностей, переселившихся в эти земли в 1-м тысячелетии[11].
Однако нарратив о 1-м тысячелетии и сам был лишь частью еще более грандиозного нарратива, который касается заселения Европы в доисторические времена. Рождение Христа стало поворотным моментом, когда письменные исторические источники стали более или менее многочисленными и в них содержались сведения об обширных регионах Европы к северу от Альп. Реконструкция более отдаленного прошлого базировалась полностью на археологических находках, и оно представлялось – до 1945 года – как последовательное замещение более «развитыми» народностями друг друга в качестве доминирующей силы в Европейском регионе. Первые фермеры позднего каменного века пришли с востока, вытеснив охотников и собирателей, жители медного века потом сделали то же самое с ними, затем любители бронзы сместили своих предшественников, и так до тех пор, пока мы не доходим до железного века и 1-го тысячелетия н. э. Подробности этой цепочки нас не касаются, однако необходимо осознать, что модель миграции, почерпнутая из текстов 1-го тысячелетия, в которой сплоченные группы мужчин, женщин и детей целенаправленно преодолевают немалые расстояния, чтобы захватить новые земли, применялась и для объяснения событий более отдаленного прошлого, для расшифровки археологических находок, относящихся к доисторической Европе. Ученые считали фактом то, что в 1-м тысячелетии при миграции пришлые вытесняли местных, и тот же принцип применяли к древним временам: по аналогии так же когда-то первые земледельцы, по их мнению, вытеснялись теми, кто освоил медь, затем бронзу и железо, другими словами, все новые группы рассматривались как пришлые чужаки, стремившиеся утвердить свое господство в Европе[12]. И в рамках этого самого грандиозного нарратива о заселении Европы избранный нами период, таким образом, знаменовал конец и начало. Это время последних из многочисленных масштабных миграций, формировавших облик континента с последнего ледникового периода, и появления европейских народов как сообществ с долгой историей (то есть групп, практически не затронутых дальнейшей миграцией), сохранившихся до наших дней. Тогда же появилась модель миграции, по которой была представлена вся история Европы. Повсеместная распространенность этой модели и является ключом к пониманию того, насколько сильным было ее влияние в последующих интеллектуальных построениях.
Великий спор о переселении
С 1945 года так много ключевых элементов в нарративе о миграционном прошлом Европы было поставлено под сомнение, что старые, казавшиеся незыблемыми положения этой теории лишились основ. В некоторых регионах Европы привычное, старое построение еще удерживает позиции, однако (и особенно в англоговорящих академических кругах) переселение народов было низложено до очередной вехи в исторической драме, которая теперь касается преимущественно трансформации Европы, вызванной внутренними причинами. Эта интеллектуальная революция оказалась столь значительной, а ее воздействие на более поздние трактовки миграционных процессов 1-го тысячелетия было таким сильным, что наши дальнейшие изыскания будут лишены смысла без понимания ее основных положений. Ключ к ним – порожденное послевоенной эпохой новое понимание того, каким образом люди объединяются, создавая более крупные социальные единицы.
Кризис идентичности
Может показаться странным, что, говоря о миграции, в первую очередь я заостряю внимание на вопросе национальной идентичности, однако старый «великий нарратив» европейской истории неразрывно связал феномен переселения народов и самоопределение племен, по крайней мере в 1-м тысячелетии. Тому есть две основные причины. Во-первых, миграционная модель «бильярдного стола», легшая в основу старого нарратива, предполагает, что люди всегда приходили в новые земли организованными группами из мужчин, женщин и детей, которые не контактировали с чужаками и поддерживали свою численность с помощью эндогамии (то есть браков, заключаемых исключительно между представителями одной и той же социальной группы). Во-вторых, при прежнем подходе национальная идентичность играла важную роль, поскольку предполагалось наличие непременной и очевидной связи между переселявшимися народами 1-го тысячелетия и нациями современной Европы с похожими названиями. Так, поляки были прямыми потомками славянских полян, англичане – англосаксов и т. д. Наличие национальной идентичности у этих народов было общепринятым, неизменным «фактом», наделявшим современные нации древним наследием, которое перевешивало притязания других политических образований. Там, где сами нации не могли восторжествовать на законных основаниях, играя роль главенствующей политической силы, появились новые формы власти (вроде многонациональных империй Центральной и Восточной Европы), которые навязали свою волю силой, и такое правительство необходимо свергнуть. Оба этих положения в итоге оказались неверными.
Зверства нацистов сыграли ключевую роль, заставив историков наконец пересмотреть смелое предположение, возникшее на пике европейского национализма в конце XIX – начале XX века, о том, что нации существовали всегда и были единственно верным способом организации крупных сообществ. В руках нацистов эти идеи вылились в притязания на Lebensraum («жизненное пространство» – немецкая концепция захвата и освоения земель к востоку от Германии, распространенная в 1890–1940 гг., особый интерес приобрела, когда у власти находилась НСДАП. – Пер.), основанные на том, сколько европейских земель в свое время контролировали древние германцы. К этому добавилась уверенность в превосходстве германской расы – а в результате появились концентрационные лагеря. Возможно, этот вопрос и без того рано или поздно вновь привлек бы внимание историков, однако радикальные проявления зашедшего слишком далеко национализма послужили мощным стимулом для переосмысления собственного прошлого. При более вдумчивом рассмотрении предположение о том, что древние и современные носители соответствующих языков каким-то образом обладают общей и непрерывно развивавшейся национальной идентичностью, оказалось лишенным всяческой основы. Нации, выдвинувшиеся на политическую арену в XIX веке в Европе, возможно, действительно появились в далекие времена, однако они не были возвращением к корням, к фундаментальному сообществу, некогда якобы существовавшему, но давно забытому. Без средств массовой коммуникации, ставших доступными в XVIII веке, было бы попросту невозможно связать огромные по численности и географически удаленные друг от друга разрозненные народности в национальные сообщества. Племенная идентичность не могла образоваться в ранние эпохи без помощи каналов связи, газет, железной дороги, без всего этого не мог сложиться мир, в котором слово «земля» имело бы одинаковое значение, скажем, для всех жителей Британии. Появление современного национализма потребовало совместных и сознательных усилий ученых, создававших национальные словари, описывавших национальные костюмы, собиравших танцы и народные сказки, с помощью которых впоследствии можно было «замерить» этничность (мне всегда представлялось, что эти люди чем-то похожи на профессора Турнесоль из «Приключений Тинтина»). Те же индивидуумы затем создали образовательные программы, скрепившие с трудом найденные элементы национальной культуры в самовоспроизводящийся культурный комплекс, которому можно обучать в школе и таким образом донести его до еще большего числа людей – во времена, когда всеобщее начальное образование быстро становилось (впервые в истории Европы) нормой. Появление национализма – само по себе великий миф, справедливо привлекший к себе внимание последнего поколения ученых. Однако вывод, к которому мы приходим, прост и ясен. В 1-м тысячелетии Европа вовсе не была заселена большими объединениями народов, сознающих свою принадлежность к определенной нации и национальные особенности, которые определяли их жизнь и занятия. Таковые особенности, вполне сформировавшиеся в XIX и начале XX века, нельзя проецировать на далекое прошлое[13].
Результатом переосмысления националистского феномена были не менее революционные выводы, к которым пришли социологи, изучающие вопросы о том, как – и в какой степени – индивидуумы чувствуют свою принадлежность той или иной групповой идентичности. В 50-х годах мир перевернулся, когда антрополог Эдмунд Лич, исследовавший феномен идентичности в холмах Северной Мьянмы, сумел показать, что групповая идентичность индивидуума не всегда включает в себя культурные черты, которые можно отследить, будь то материальные аспекты (типы домов или глиняной посуды) или нематериальные (общие социальные ценности, устои веры и т. д.). Люди, обладающие схожими культурными чертами (включая и язык – один из главных символов групповой идентичности в националистскую эру), могут считать себя принадлежащими к разным социальным группам, а люди с разными культурами – к одной. Таким образом, идентичность, в сущности, связана с восприятием, а не со списком определенных показателей: восприятие идентичности индивидуумом кроется в его собственном сознании и в том, как его самого воспринимают окружающие. Культурные черты могут выражать идентичность, но не определять ее. Шотландец может носить килт, но и без него он останется шотландцем.
В дальнейшем это положение было подтверждено многочисленными исследованиями, и появился совершенно иной взгляд на связи, определяющие идентичность группы людей – по сравнению с тем, который имел место до Второй мировой войны. Вплоть до 1945 года идентичность рассматривалась как данность, нечто неотъемлемое, определяющее жизнь любого индивидуума. Однако исследования ученых, вдохновленных работой Лича, показали, что групповая идентичность индивидуума может меняться и меняется и отдельный индивидуум может обладать не одной групповой идентичностью, а иногда даже выбирать одну из нескольких в зависимости от того, какая сейчас выгоднее. В нашем постнационалистском мире это вызывает куда меньше удивления, чем шестьдесят лет назад. У моих сыновей будут и американские, и британские паспорта, хотя до 1991 года в восемнадцать лет им пришлось бы выбирать между первым и вторым (тогда двойное гражданство в Соединенных Штатах существовало только с Израилем и Ирландией – интересное сочетание); граждане ЕС обладают идентичностью своей родной страны – и Европейского союза. И вместо того чтобы считаться, как раньше, доминирующим фактором, определяющим ход всей жизни человека, групповая идентичность теперь играет куда более скромную роль. Особое значение в изучении истории 1-го тысячелетия имеет сборник статей норвежского антрополога Фредрика Барта, выпущенный в 1969 году. В общем и целом в его работах идентичность показана лишь как общая стратегия личностного развития. По мере того как меняются обстоятельства, делая одну групповую идентичность более выгодной, чем другая, индивидуум меняет и свою приверженность ей. Знаменитое описание этого феномена Бартом, предложенное во введении к упомянутому сборнику, гласит, что групповую идентичность необходимо понимать как «эфемерное ситуационное построение, а не прочный, долговечный факт»[14].
Эта работа уводит нас бесконечно далеко от представления о том, что у человека должна иметься одна стабильная национальная идентичность, которая определяет, кто он такой, всю его жизнь, – от представления, которое не только не подвергалось сомнению в эпоху национализма, но и легло в основу тогдашней модели миграции, в свою очередь послужившей базисом «великого нарратива» о развитии Европы в 1-м тысячелетии (да и в более отдаленном прошлом). «Бильярдная» модель миграции категорически утверждала, что переселенцы перемещались полноценными социальными группами, закрытыми для чужаков, поддерживавшими свою численность посредством эндогамии, обладавшими собственной культурой и заметно отличавшимися от любой из других групп, которые они могли встретить на своем пути. Это представление отчасти основывалось на отдельных исторических источниках, как мы уже видели, однако по большей части – на популярных теориях о том, как организовывались человеческие сообщества, поскольку упомянутые письменные источники немногочисленны и разрозненны. Как только националистские положения о групповой идентичности были подорваны, открылся сезон охоты на «великий нарратив», который так уверенно опирался на них.
Новое тысячелетие?
Затем эстафету переосмысления далекого прошлого Европы с постнационалистской точки зрения перехватили археологи. Традиционные подходы к европейской археологии заключались в нанесении на карту основных сходств и различий в археологических находках, датированных приблизительно одним периодом, в определенном регионе, где в дальнейшем выделяли субрегионы или собственно «культуры». Изначально подобные построения базировались практически исключительно на видах глиняной посуды, поскольку ее фрагменты сами по себе неразрушимы и легко находимы, однако любое сходство (в похоронных обычаях, типах домов, металлических изделиях ит. д.) можно было трактовать в соответствии с имеющимся подходом, что в дальнейшем и делалось. Тот факт, что границы порой можно провести между регионами, в которых археологические находки разнятся, быстро стал очевиден в XIX веке, когда археология как научная дисциплина стала быстро развиваться. В том интеллектуальном и политическом контексте – и вновь мы возвращаемся к пику европейского национализма – невозможно было не приравнять культуры, отображенные на картах, к древним «народам», которые якобы обладали каждый своей собственной материальной (и не материальной) культурой. При изрядном везении и работе над сравнительно поздним периодом вы могли порой даже дать имя носителям культуры, следы которой обнаружили в земле, на основании данных, полученных из исторического трактата вроде «Германии» Тацита.
Развитие этого подхода, сейчас нередко называемого «методом археологии поселений», особенно тесно связано с немецким ученым Густафом Коссинной, который занимался им с конца XIX по начало XX века. Его подход был более тонким, чем считают некоторые. Он вовсе не утверждал, что все области, в которых найдены схожие археологические остатки, следует приравнивать к независимым древним народам. Это верно лишь в тех случаях, писал он, когда можно провести четкую границу между различными археологическими регионами и где сходства в отдельно взятом регионе отчетливы и ярко выражены. Однако такие термины, как «четкий», «отчетливый» и «ярко выраженный», всегда можно было трактовать по-своему, и основной принцип археологических изысканий того периода заключался в том, что археологические остатки можно аккуратненько разделить между соответствующими «ярко выраженными» «культурами» и заявить, что эти культуры – следы проживания здесь «народов».
Для нас же ключевым моментом является тот факт, что «метод археологии поселений» Коссинны в известной степени подвел фундамент под «великий нарратив». Представления об археологических культурах как о «народах» принесли с собой тенденцию объяснять резкие археологические изменения переселением народов. Раз явно выраженные, отчетливые скопления материальных остатков – археологические «культуры» – приравнивались к одному из древних «народов», было вполне естественным считать, что любое изменение в существующем ряде остатков говорит о влиянии нового «народа». Считая, что каждый народ обладал своей «культурой», вы вдруг находите новую «культуру» поверх предыдущей и вполне логично полагаете, что один «народ» сменил другой. Миграция, особенно в форме массовой замены одного сообщества другим, стала характерным объяснением наблюдаемых в археологических остатках изменений. В современной терминологии, хотя термин пока еще не прижился, старый взгляд на заселение Европы (которое представлялось непрерывным процессом, движущей силой коего были регулярные, следующие друг за другом этнические чистки) получил выразительное название «гипотеза вторжения»[15].
Новые веяния и взгляды на групповую идентичность оказали большое влияние на старые интеллектуальные построения. Как только было опровергнуто утверждение о том, что материальные остатки можно разложить по полочкам и отнести к полноценным «культурам», оставленным древними «народами», стало ясно, что на деле все гораздо сложнее. По мере того как обнаруживались новые остатки, а уже существующие фонды подвергались более пристальному изучению, многие границы между предположительно «ярко выраженными» различными культурами начали стираться. Идентификация важных местных вариантов находок нередко ставила под сомнение однородность предполагаемых культур, подрывая основы старого тезиса. Несмотря на то что сходства между археологическими остатками порой действительно имеются и в этом случае играют важную роль, стало ясно, что ни одно простое правило (типа «культуры = народы») не может применяться во всех случаях без исключения. Значимость обнаруженных сходств и различий зависит от того, что именно в находках совпадает, а что – нет. Наблюдаемая археологическая «культура» может представлять собой физические остатки предметов, принадлежащих к разным сферам, будь то социальное либо экономическое взаимодействие культур, или общие религиозные верования (к примеру, сходство похоронных обрядов), или даже, в некоторых случаях, политический союз (как указывал еще Коссинна). Чтобы ярче показать разницу между новым подходом и старым, я бы отметил, что Коссинна считал археологические культуры остатками сообществ – «народов», однако современные археологи рассматривают их как остатки систем взаимодействия, и их природа вовсе не обязана в каждом случае быть одинаковой[16].
Таким образом, переосмысление природы культур позволило археологам продемонстрировать, что даже серьезные изменения в материальной культуре можно объяснить другими причинами помимо вторжения извне. Поскольку наблюдаемое археологическое сходство культур могло появиться по целому ряду причин – торговля, социальное взаимодействие, общие религиозные воззрения или любая другая, которая может прийти вам в голову, – изменения в одной или нескольких сферах жизни людей могут послужить причиной культурного сдвига. Перемены не всегда обозначают появление новой социальной группы, они могут быть вызваны изменениями в системе уже существующей культуры. Именно глубокая неудовлетворенность интеллектуальными ограничениями, налагаемыми гипотезой вторжения, повсеместно используемой в качестве монолитной модели преобразования общества, вкупе с воздействием новых взглядов на групповую идентичность, в 60-х годах XX века заставили целое поколение археологов сбросить ее оковы – сначала в англоязычном мире, а затем и во многих других странах.
Следовательно, в 60-х годах у археологов появились весомые причины все реже обращаться к гипотезе вторжения и все чаще искать альтернативные объяснения. Эти новые подходы оказались весьма плодотворными и в процессе развития еще больше подорвали пошатнувшийся фундамент «великого нарратива». Вплоть до 60-х годов доисторическая Европа рассматривалась как совокупность земель, на которых одни группы населения все время вытесняли другие с помощью новых навыков и умений (в земледелии или металлургии), чтобы установить свое господство над определенной территорией, прогнав с нее предшественников. Сегодня большинство ступеней развития общества Центральной и Западной Европы между бронзовым веком и римским железным веком (примерно два последних тысячелетия до н. э.) можно вполне убедительно описать без обращения к миграции и этническим чисткам. Вместо того чтобы рассказывать, как одни захватчики сменяются другими, отбрасывая друг друга прочь со спорных земель, на территории Европы теперь видят сообщества, способные учиться новым навыкам и со временем развивать новые экономические, социальные и политические структуры[17].
Есть еще один элемент в этой интеллектуальной революции, который оказал существенное влияние на сравнительно новые подходы к вопросу, рассматриваемому в данной книге. В процессе освобождения от несомненной тирании «метода археологии поселений» и гипотезы вторжения, отдельные (в особенности британские и североамериканские) представители профессии археолога со временем начали умалять важность миграции, не желая рассматривать ее в качестве источника значительных перемен в обществе. Все вздохнули с облегчением, вырвавшись из тисков концепции Коссинны, но отдельные ученые, похоже, приняли решение вообще никогда больше не возвращаться к вопросу о переселении народов. Для этих археологов миграция ассоциируется с прежней, менее передовой эпохой развития их научной дисциплины, когда, по их мнению, археология была подотчетна истории. «Бильярдная» модель миграции, однако, как мы видели, находила свое подтверждение в отдельных исторических источниках, и, когда культуры были равноценны «народам», было возможно писать о доисторической археологической трансформации как о квазиисторическом нарративе, в котором народ X вытеснил народ Y и т. д.
В результате в сознании отдельных археологов появилось убеждение, что любая модель прошлого, включающая в себя миграцию населения, говорит о склонности к упрощению. Как было сказано в недавнем обзоре кладбищ раннего Средневековья, избегать темы миграции в объяснении археологического сдвига необходимо «просто для того, чтобы избавиться от чрезмерно упрощенных и, как правило, безосновательных предположений и заменить их более тонкой интерпретацией данного периода». Обратите внимание на формулировку, в особенности на контраст между «простой», «безосновательной» моделью мира (в которой доминирует миграция) и «более тонкой» (то есть любой другой интерпретацией). Суть этого высказывания ясна. Ученый, столкнувшийся с географически неверным положением отдельных видов археологических остатков либо с изменениями в их применении и желающий предложить модель прошлого, которая будет «тонкой» и «сложной», должен любой ценой избегать упоминания о миграции. Ситуация изменилась на противоположную. С позиции повсеместного преобладания в период до 60-х годов переселение народов превратилось в исчадие зла, в исследовательский архаизм[18].
Такой резкий переворот в сознании не мог не отразиться на подходах историков к событиям 1-го тысячелетия (а в данной области археологические свидетельства всегда обладали первостепенной важностью), к тому же исследователи уже успели задуматься о том, что для них может означать великий спор о национальной идентичности. Поворот в историческом мышлении, с которого и начались попытки найти новые подходы к феномену идентичности и, соответственно, переселению народов в 1-м тысячелетии, произошел в 1961 году, когда была выпущена работа немецкого ученого Рейнхарда Венскуса под заглавием Stammesbildung und Verfassung («Происхождение и связи племен»). В ней доказывалось, что вовсе не обязательно вчитываться в труды Тацита, древнеримского историка I века, чтобы понять, что германские племена были полностью истреблены, а на их месте возникли другие, совершенно новые и неизвестные. И когда дело доходит до Великого переселения народов, происходившего с IV по VI век, становится только больше доказательств того, что история этих племен была прервана. Как мы подробнее рассмотрим далее, все германские племена, основавшие в эту эпоху свои государства на бывших территориях Римской империи – готов, франков, вандалов и др., – можно представить как новые политические образования, созданные на ходу и принимавшие добровольцев из самых разных народностей, некоторые из которых даже не были германоязычными. Политические союзы, созданные германцами в 1-м тысячелетии, таким образом, отнюдь не являлись закрытыми группами с довольно продолжительной историей, но могли появляться и разрушаться и, по мере развития, увеличиваться или уменьшаться в размерах в зависимости от исторических условий. С тех пор было немало споров о том, как групповая идентичность могла влиять на германцев 1-го тысячелетия, о ее вероятной силе воздействия, и в должный момент мы вернемся к этому вопросу. Пока важно другое: во всех последующих построениях отправной точкой была гипотеза Венскуса[19].
Эти наблюдения оказали соответствующее воздействие на понимание миграции германцев как исторического феномена. При старых представлениях о закрытых, неизменяющихся племенах со стабильной групповой идентичностью, если народ X внезапно оказывался в регионе Б вместо региона А, было вполне естественным заключить, что туда переместилось все «племя» или группа. Если же мы принимаем тот факт, что групповая идентичность – явление более податливое и гибкое, тогда даже нескольких (возможно, весьма немногочисленных) представителей народа X будет вполне достаточно, чтобы образовалось новое ядро, вокруг которого в дальнейшем может сформироваться новая народность благодаря притоку людей самого разного происхождения. «Бильярдная» модель миграции, таким образом, сменяется моделью «снежного кома». Вместо больших, организованных групп мужчин, женщин и детей, целенаправленно перемещающихся по Европейской равнине, ученые теперь представляют иную картину, мыслят категориями демографического «снежного кома» – изначально малые группы, возможно состоящие преимущественно из воинов, благодаря успехам на поле битвы, привлекают многочисленных рекрутов по мере своего продвижения.
В таком постнационалистском толковании археологических остатков варварской Европы в 1-м тысячелетии прослеживается известное сходство с новой эрой, которая в тот же период началась в археологии, хотя два этих обстоятельства не были взаимосвязаны. Однако новое умонастроение археологов теперь еще активнее подталкивало специалистов к очевидному выходу из положения – нужно переписать историю варварской миграции, основываясь на исторических источниках. Отдельные историки столь свято уверовали в невозможность существования в прошлом больших миграционных единиц (или групп), что начали заявлять: немногочисленные исторические источники, утверждавшие обратное, которые были основанием для гипотезы вторжения и соответствующей старой модели переселения, сообщают неверные, искаженные сведения. Появилось предположение о том, что греко-римские источники построены на миграционном топосе, своеобразном культурном рефлексе, стереотипе, что более цивилизованные средиземноморские авторы, не вдаваясь в подробности, автоматически называли всех переселяющихся варваров «народом», какой бы ни была подлинная этническая природа этих групп. Европейская история, ранее состоявшая из массовых переселений на большие расстояния, заменяется историей небольших мобильных объединений, собирающих последователей по мере продвижения. Миграция – хотя теперь это слово практически не используется – остается частью новой концепции, это очевидно, однако уменьшается ее масштаб – вместе с количеством людей, пускавшихся в путь. Ключевой исторический процесс теперь не передвижение само по себе, но включение в группы новых членов[20].
В этом есть своя красота и симметрия. Старый «великий нарратив» подстраивал археологию под нужды истории: археологические культуры приравнивались к «народам», а модель миграции, выведенная из исторических источников 1-го тысячелетия, укладывала прогресс этих культур в исторический нарратив, пестривший эпизодами массового переселения и этнических чисток. Теперь же надежность самих исторических источников была поставлена под сомнение реакцией на развенчанный миф о переселении народов, начавшейся с отказа археологов от метода «археологии поселений» и гипотезы вторжения, бывшей его естественным продолжением. Раньше история вела археологию, теперь археология ведет историю. В процессе изменения парадигм видение ранней европейской истории, развивающейся под влиянием миграции, уступило другой модели, характеризующейся относительно малым количеством иммигрантов и большим количеством местных жителей, приспосабливавшихся к переменам, принесенным немногочисленными переселенцами; другими словами, истории преимущественно внутреннего развития. Этот подход по-своему хорош. Мы теперь достигли этапа, на котором новая модель стала зеркальным отражением старой, господствовавшей пятьдесят лет назад. С точки зрения интеллектуального развития эта модель обладает приятной симметрией, однако достаточно ли она убедительна с точки зрения истории? Действительно ли переселение народов можно приравнять к незначительному, проходному эпизоду в истории варварской Европы 1-го тысячелетия н. э.?
Миграция и вторжение
Гипотеза вторжения похоронена и забыта. Теперь нам и в голову не придет засорять доисторические времена и 1-е тысячелетие европейской истории чередой древних «народов», создававших для себя место под солнцем с помощью взрывной смеси долгих массовых переходов и этнических чисток. Пожалуй, было бы лучше, если бы этот коктейль вовсе не существовал. К тому же этническая чистка как элемент старого «великого нарратива» практически не находит подтверждения в исторических источниках – по крайней мере, я его не обнаружил. Однако крах гипотезы вторжения вовсе не означает, что миграция полностью исчезла из истории. Она не могла исчезнуть. Даже если согласиться с тем, что у средневековых авторов имелись общие стереотипы относительно миграции варваров, их предвзятое мнение о культуре переселенцев все равно должно было сформироваться под влиянием тех или иных пришлых групп. К тому же имеются археологические свидетельства, которые делают вполне вероятным предположение, что довольно большие группы людей действительно периодически меняли места обитания. В связи с этим появились две альтернативные версии модели массовой миграции – в противовес гипотезе вторжения.
Первая модель – «волна продвижения». Она применяется к небольшим мигрирующим группам и предоставляет альтернативный взгляд на то, как именно группа чужаков может захватить контроль над тем или иным регионом. В частности, именно с ее помощью объясняется, как по Европе расселялись первые оседлые земледельцы в эпоху неолита. Она показывает, как земледельцы, пусть даже отдельные их группы не ставили перед собой такой цели, стали доминировать во всех подходящих для возделывания земли регионах. В соответствии с этой моделью неолитические фермеры вовсе не пришли огромной толпой и не выселили силой охотников-собирателей. Просто способность производить продукты питания в куда больших количествах привела к быстрому увеличению численности изначально небольших групп, и со временем они просто поглотили охотников-собирателей. Возделываемые участки разрастались, заполняя один регион за другим, по мере того как появлялись новые фермеры и отправлялись на поиски новых наделов. Это модель миграции малых масштабов, когда переселялись роды или семьи, ненамеренного захвата новых территорий, которая, благодаря этим особенностям, допускает, что отдельные охотники-собиратели могли обучиться земледелию по мере его распространения. Что может быть приятнее для ученых, пытающихся вырваться из мира массовых передвижений и завоеваний?[21]
Еще более популярной среди археологов – из-за большей потенциальной применимости – является модель «переселение элит». Здесь группа, вторгающаяся в чужие земли, не так велика, однако агрессивно завоевывает новые территории. Затем смещается уже существующая элита целевого общества, и чужаки занимают в нем центральные позиции, в то время как большая часть социальных и экономических структур, создавших старую, ныне изгнанную или истребленную элиту, остается нетронутой. Классическим примером такого феномена в средневековой истории является завоевание Англии норманнами. Благодаря обилию информации, сохранившейся в Книге Судного дня, мы знаем, что несколько тысяч нормандских семей, получивших в свое владение земли, сменили своих чуть более многочисленных англосаксонских предшественников на вершине социального устройства Англии XI века. Представление о миграции, даваемое этой моделью, куда менее драматично, нежели то, которое предлагает гипотеза вторжения. Она оставляет такие черты последней, как намеренный захват и насилие, однако, поскольку речь идет лишь о замене правящей верхушки, при которой более широкие социальные структуры остаются нетронутыми, этот процесс куда менее жесток, чем этническая чистка, бывшая основой старой модели. И поскольку суть новой гипотезы заключается в замене одной элиты на другую, результаты гораздо менее драматичны и в некотором смысле менее значимы, поскольку все основные существующие социальные и экономические структуры остаются на месте, как это произошло в Англии при Нормандском завоевании[22].
Интеллектуальная реакция на чрезмерную простоту гипотезы вторжения, таким образом, вылилась в появление двух новых моделей, которые, каждая по-своему, снизили значение миграции – либо сократив количество возможных переселенцев, степень насилия и значение последствий миграции, либо уменьшив ее масштаб, доказывая, что реального намерения куда-то переселяться либо захватывать новые земли не было вовсе. Очевидно, что эти модели были для ученых более приемлемыми, чем гипотеза вторжения, поскольку основывались на подходах к групповой идентичности, отрицающих возможность намеренного перемещения больших, организованных групп из одного региона в другой. Однако, хоть эти модели куда более сложные и продуманные и, соответственно, являются шагом в нужном направлении, они пока не способны предложить удовлетворительное объяснение феномена миграции в Европе в 1-м тысячелетии. Если попытаться заключить дискуссию в рамки, предлагаемые этими двумя моделями, возникнут три специфические проблемы и еще одна куда более широкого характера.
Ошибочная идентичность?
Первая проблема проистекает из следующего факта. На радостях признав, что люди далеко не всегда образуют организованные поселения, которые самовоспроизводятся и закрыты для чужаков (и, я полагаю, преисполнившись решимости навсегда изгнать мерзостные учения нацистской эры), историки и археологи, специализирующиеся на 1-м тысячелетии и. э., нередко принимали лишь половину представлений об идентичности, бытовавших в социально-научной литературе их времени. Пока Лич, Барт и другие сосредотачивали свое внимание на групповом поведении и наблюдении за тем, как индивидуумы меняют свою приверженность той или иной культуре с выгодой для себя, вторая группа ученых принялась более пристально наблюдать за индивидуальным поведением человека. Их иногда называли примордиалистами, поскольку они утверждали, что групповая принадлежность всегда являлась неотъемлемой частью человеческого поведения. Некоторые из этих исследователей пришли к иным выводам, нежели предложенные Личем и Бартом, – они показали, что в ряде случаев врожденным чувством групповой идентичности нельзя манипулировать по своей прихоти, оно заставляет индивидуума соблюдать определенные правила поведения, которые могут противоречить его нынешним интересам. Различия во внешности, речи (будь то язык или диалект), социальном укладе, моральных ценностях и понимании прошлого могут – если они уже появились и закрепились – образовать непреодолимую преграду, не позволяя индивидуумам прикрепиться к другой группе даже ради улучшения своего положения[23].
Две ветви исследований иногда считали противоречащими друг другу, но, на мой взгляд, это не так. На самом деле они определяют противоположные концы спектра возможных положений. В зависимости от конкретных обстоятельств, и не в последнюю очередь прошлого, наследуемая групповая идентичность может являться более или менее сдерживающим фактором для индивидуума и представлять собой более или менее настойчивое побуждение к действию. И это утверждение четко соответствует наблюдаемой действительности. Что касается вопроса о групповой идентичности больших сообществ… Скажем, в современных дискуссиях о Европейском союзе риторика, обращенная к британцам, задевает куда более чувствительную струну в жителях Соединенного Королевства, нежели пролюксембургская – в люксембуржцах, которые мирно существуют, уютно расположившись между Германией, Францией и Бельгией. Различается идентичность и на индивидуальном уровне – отдельные члены любой многочисленной общности демонстрируют явные различия в степени своей преданности ей. Принимая тот факт, что групповая идентичность играет иногда большую, иногда меньшую роль в жизни людей, мы никоим образом, я подчеркиваю, не противоречим тому, о чем говорил Барт (даже если он счел бы, что это так). Его знаменитое положение звучит так: идентичность необходимо понимать как «ситуационный конструкт». Это вполне справедливо, однако тут важно помнить о том, что ситуации могут быть разными. Отчасти на Барта повлияла старая марксистская догма: любая идентичность, не основанная на классовом делении (а групповая идентичность не может быть таковой, если только каждый член такой группы не обладает одинаковым статусом), должна считаться «ложным сознанием», а отчасти – резко негативная реакция на мир, в котором преобладали националистские идеологии. Он обращал особое внимание – и проявлял большой интерес – к ситуациям, порождающим ослабление чувства групповой принадлежности. Однако даже построение его собственного высказывания подспудно намекает на то, что могут быть и иные ситуации, которые порождают более сильное чувство общности, и так называемые ученые-примордиалисты исследовали некоторые из них.
Два совершенно разных типа сдерживающих факторов могут сыграть роль барьеров. С одной стороны, существуют неформальные границы «нормального», и не важно, говорим ли мы о еде, одежде или даже моральных ценностях. Исследования показывают, что индивидуум усваивает многие такие характеристики, определяющие социальную группу как таковую, в ранние годы жизни, что, разумеется, помогает объяснить, почему они порой оказывают столь сильное влияние на человека, заставляя его чувствовать себя так некомфортно вне норм его собственного общества, что он попросту не способен жить в ином. С другой стороны (и этот фактор нередко идет рука об руку с ощущением дискомфорта), могут существовать и более формальные преграды, мешающие сменить идентичность. Теоретически вы можете объявлять себя принадлежащим к какой угодно группе, но это еще не означает, что она признает вас своим членом. В современном мире членство в социуме обычно подразумевает наличие соответствующего паспорта, следовательно, первостепенное значение для вас приобретает возможность или невозможность выполнить это условие и обзавестись им. В прошлом, разумеется, паспорта не существовали, однако некоторые древние сообщества тщательно следили за своим составом. Права на римское гражданство, к примеру, ревниво оберегались, и бюрократический аппарат был создан в том числе для того, чтобы отслеживать притязания индивидуумов иного происхождения. Греческие города-государства ранее применяли схожую стратегию. Такие бюрократические методы опирались прежде всего на грамотность, однако нет никаких причин, по которым у неграмотных сообществ не могло быть своих методов отслеживания группового членства при определенных обстоятельствах. Существует и такое явление, как степень группового членства. В Америке и Германии в современном мире есть более и менее официально признанные группы иностранных рабочих, которые наделяются далеко не всеми гражданскими правами, и здесь, по-моему, лежит ключ к полноценному пониманию феномена групповой идентичности. Когда полное членство в сообществе приносит преимущества либо юридического, либо материального характера – например, полезные права и привилегии, – следует ожидать, что оно будет тщательно контролироваться[24].
Получается, выводы, которые можно сделать из дебатов относительно идентичности, более сложны, чем представлялось ранее. У индивидуумов, рожденных в любых условиях, кроме самых простых, групповая идентичность наслаивается постепенно. Семья, более дальние родственники, город, край, страна, затем современные международные связи (вроде гражданства ЕС) вкупе с его собственными решениями – желанием, к примеру, жить в другом месте – все это дает индивидууму возможность стать членом более крупного сообщества. Однако любые притязания, которые могут быть у него или нее, должны быть признаны, и, в зависимости от ситуации, потенциальная принадлежность к другой группе может налагать на ее нового члена более или менее серьезные ограничения. В сущности, знаменитый афоризм Барта подчеркивает контраст, которого нет. Любого рода групповая идентичность – это и есть «ситуационный конструкт», они создаются, они меняются, они могут вообще прекратить свое существование, но одни более «недолговечны», чем другие.
Из этого следует первая потенциальная проблема современных подходов к переселению народов в 1-м тысячелетии. Они заранее убеждены, что идентичность, свойственная многочисленной группе, – явление слабое, но это неполное понимание проблемы идентичности и самосознания. Если позиция по ней принимается заранее, априори – и не важно, считается ли идентичность сильной (как в националистскую эпоху) или слабой (как в современном, еще не до конца сложившемся дискурсе), – то все доказательства иных мнений будут игнорироваться или оспариваться. На мой взгляд, крайне важно сохранять готовность переосмыслить свидетельства переселения народов в 1-м тысячелетии, не исходя из тезиса о том, что связь индивидуумов в больших группах, участвовавших в нем, непременно должна была быть очень непрочной, как предполагает современное однобокое понимание проблемы идентичности.
Вторая проблема появляется, когда яростное отрицание миграции как возможной причины глубинных перемен, которым грешат отдельные англоязычные археологи, вступает в противоречие с археологической рефлексией переселения, следы которого нередко встречаются на практике. В современном мире массовое передвижение целых социальных групп отнюдь не редкое явление, и, как мы увидим в следующих главах, оно имело место и в изучаемом периоде. Зато почти нет доказательств этнических чисток, якобы происходивших тогда. В таком случае переселение народов почти всегда включало в себя передвижение части группы из пункта А в пункт Б, причем как минимум часть коренного населения оставалась на месте; единственное исключение – Исландия, которая вовсе не была заселена до прихода туда норвежцев в IX веке. Вот почему вряд ли удастся обнаружить полное перемещение всей материальной культуры. Скорее лишь отдельные ее элементы будут перенесены в пункт Б, вероятно те, которые обладают определенной важностью для подгруппы населения, непосредственно вовлеченной в процесс миграции. В то же время какая-то (возможно, даже большая) часть коренной материальной культуры пункта Б продолжит свое существование, и в результате взаимодействия мигрантов и исконного населения могут появиться совершенно новые элементы культуры или предметы быта. Археологическая трактовка многочисленных миграционных процессов 1-го тысячелетия, другими словами, зачастую будет откровенно противоречивой и сомнительной, поскольку невозможно, основываясь лишь на материальных остатках, быть абсолютно уверенным в том, что миграция действительно имела место[25].
Пока все идет неплохо: если единственные археологические свидетельства возможной миграции скорее сомнительны, чем определенны, пусть будет так. Это лучше, чем заполонить европейскую историю огромным количеством надуманных вторжений. Однако и это становится проблемой, если теорию миграции считают «упрощенной» и «как правило, необоснованной». Если подходить к проблеме с такой позиции, то к неоднозначным археологическим находкам беспристрастного отношения уже не будет. Когда вы видите следы археологических трансформаций, которые могут быть свидетельствами миграционного процесса, их и нужно описывать как таковые, не больше и не меньше. Однако, поскольку археологи с таким трудом отошли от вездесущей миграции, у некоторых ученых есть тенденция (по крайней мере, это верно для Британии и Северной Америки) полностью исключать ее из своих построений[26]. В современной науке достаточно указать, что наблюдаемая трансформация могла произойти без влияния миграции, чтобы это положение тут же было принято как непреложный факт. Однако, поскольку археологическая рефлексия многих миграционных процессов так и останется недоказанной, тот факт, что практически любую археологическую трансформацию можно, в результате известных интеллектуальных усилий, объяснить иными явлениями, но только не миграцией, еще не означает, что так нужно делать. Правильным будет не говорить, что, раз данные противоречивы, миф о миграции развенчан, а принять эту противоречивость и посмотреть, не поможет ли что-то еще – в особенности соответствующие письменные источники – разрешить проблему.
В той же степени небезопасно выстраивать свою оценку потенциальных масштабов миграции в 1-м тысячелетии, отталкиваясь от предположения, что групповая идентичность всегда была слаба, или же вовсе не учитывать ее, если встречаются лишь противоречивые археологические свидетельства. Эти два наблюдения, в свою очередь, порождают третью проблему. Концепция миграционного топоса – утверждение, что на средиземноморских авторов повлиял культурный рефлекс, заставляющий их каждую перемещающуюся группу варваров называть «народом», – иногда использовалась для того, чтобы не считаться с историческими свидетельствами миграции варваров большими, малыми и смешанными группами. Однако вплоть до настоящего момента это построение о культурном стереотипе основывается лишь на предположении, аргументированных доказательств его существования нет. Оно считается правдоподобным априори, ведь ученые исходят из представления о том, что групповая идентичность не могла быть достаточно сильной, чтобы стать причиной миграции больших групп, о которой вроде бы сообщают источники, а археологические доказательства миграции, как уже отмечалось, нередко вызывают сомнения. Но если в противоречивости археологических остатков нет ничего неожиданного, а полагаться на предположение о заведомо слабой групповой идентичности у всех народов в 1-м тысячелетии, небезопасно вследствие его необоснованности, то эти два аргумента, которые должны подтвердить существование миграционного топоса, на самом деле подрывают эту концепцию. Поэтому будет необходимо в дальнейшем разобраться, действительно ли можно так легко отбросить сообщения письменных источников о миграции больших групп.
Даже самих по себе этих трех проблем хватило бы для того, чтобы обосновать необходимость переосмысления феномена переселения народов в 1-м тысячелетии. Однако есть четвертая, куда более серьезная причина, по которой современные подходы к этой теме требуется подвергнуть тщательному пересмотру.
Миграция и развитие
Компаративное изучение человеческой миграции имеет долгую историю. Как и многие другие сферы научных изысканий, компаративистика перешла от изначально простых моделей к более сложным и любопытным, особенно в последнем поколении. Интерес к этому вопросу изначально был вызван экономическими мотивами как основополагающим фактором в объяснении передвижений населения, и основные исследования довольно успешно обосновали тот факт, что иммиграция в Соединенные Штаты непосредственно соотносится с экономическим циклом страны[27]. В стремлении объяснить миграционные процессы в 1-м тысячелетии ученые порой обращались к этой быстро развивающейся области науки о миграции. К примеру, в плане каузальности концепт факторов выталкивания и притяжения – то есть вещей, которые были неприятными в месте отъезда и привлекательными в пункте назначения, – давно уже вошел в научный обиход. Важность точных данных о формировании миграционных потоков и тот факт, что массовой миграции нередко предшествует индивидуальная миграция первопроходцев («разведчиков»), чей опыт заметно ускоряет процесс, также стали частью научного мира. Однако эти идеи не более чем верхушка айсберга компаративного изучения миграции, и в целом ученые, занимающиеся миграцией в 1-м тысячелетии, практически не обращались к современной литературе по этой проблеме[28].
Весьма странное упущение, поскольку компаративистика предлагает широкий спектр хорошо описанных случаев миграции, с которыми можно сравнить данные о переселении народов в 1-м тысячелетии; очевидно, что таким образом можно существенно расширить количество возможных миграционных моделей – за пределы «волны продвижения» и «переселения элиты». Среди прочих примеров, история Нового времени представляет нам экономически мотивированные потоки мигрантов, неорганизованных в том смысле, что каждым из них движут индивидуальные причины. Тем не менее со временем они могут (особенно если им помогут те, кто уже достиг места назначения) заполнить всю страну – даже такую большую, как Соединенные Штаты Америки. XX век также подчеркнул важность другой основной причины для миграции – политических конфликтов.
Отдельные беженцы, пытающиеся спастись от репрессивных политических режимов, – явление очень частое, но политические беспорядки вполне могут породить и куда более концентрированные миграционные потоки. Самый ужасающий пример тому из недавнего прошлого – Руанда, с которого началась эта глава. Однако есть и многие другие – этнические чистки в бывшей Югославии, отток иностранцев из Саудовской Аравии в 1973 году (страну покинули 88 тысяч человек всего за три месяца), переселение 25 миллионов беженцев в Центральной и Восточной Европе в конце Второй мировой войны, уход из страны и бедственное положение палестинских беженцев.
Даже если не углубляться в работы, посвященные этим примерам, компаративные исследования миграции указывают на то, что при исследовании любого миграционного процесса необходимо ставить более продуманные вопросы, чем это делалось ранее по отношению к переселению народов в 1-м тысячелетии. Изучение случаев раннего Нового и Нового времени не обнаруживает примеров того, чтобы население пункта А целиком переместилось в пункт Б. Миграция – действие, всегда выполняемое подгруппами, и это наблюдение приводит нас к постановке наиболее значимых вопросов. Что заставляет одних индивидуумов оставаться дома, когда другие при схожих обстоятельствах срываются с места? Исследования, направленные на объяснение этого феномена, обозначили некоторые интересные закономерности. Экономические мигранты, как правило – и особенно в первое время, – люди молодые, чаще мужчины, и в условиях собственного общества получившие довольно хорошее образование. Нередко также отваживаются на миграцию люди, уже один раз переезжавшие. При более близком рассмотрении половина голландских мигрантов, которые оказались в местечке, в итоге превратившемся в Нью-Йорк, когда-то переехали в Нидерланды из других стран Европы. Точно так же многие «ирландцы», принимавшие участие в колонизации Америки на ранних ее этапах, были выходцами из шотландских семей, которые прожили в Ирландии лишь одно поколение[29]. Миграцию на большие расстояния, следовательно, необходимо изучать с учетом уже установленных закономерностей внутреннего демографического переселения. Участники последнего с куда большей вероятностью могут быть задействованы в первой.
Однако даже в пределах этих закономерностей решение мигрировать принимается не только в результате, как можно выразиться, рационального экономического расчета. Иные факторы осложняют процесс мышления индивидуума. Сведения о предполагаемых местах назначения и возможных маршрутах – одна ключевая переменная. Массовые миграционные потоки в новое место жительства начинаются только после того, как становятся ясны основные достоинства и недостатки пути и потенциального пристанища. До этой стадии довольно часто встречается «направленная» миграция. При такой модели группы населения из стран, выезд из которых затруднен, по прибытии в место назначения собираются в определенных регионах. Похоже, это объясняется тем, что доступные сведения весьма ограниченны и люди хотят заручиться поддержкой ранее мигрировавших соотечественников. Транспортные расходы, что неудивительно, также учитываются в расчетах потенциального переселенца, не менее важны и психологические последствия. Чуждость жизни на новом месте, последующее нарушение эмоциональных связей, имеющихся между индивидуумом и семьей, тоже влияют на решение переехать и остаться в другой стране. Значительный процент обратной миграции – характерная черта всех хорошо документированных перемещений населения[30].
Однако помимо всех этих факторов на потенциальные миграционные потоки могут влиять политические структуры, существующие в месте отъезда либо назначения или же в них обоих. С 1970-х годов западноевропейские страны более или менее сумели остановить потоки легальных рабочих-мигрантов из тех или иных стран третьего мира, которые стали привычным явлением после Второй мировой войны. Это решение было продиктовано скорее политическими, нежели экономическими соображениями, поскольку в промышленности сохранялась потребность в дешевой рабочей силе, которую представляли собой мигранты. Однако правительствам было необходимо усмирить враждебность, нараставшую по отношению к сообществам мигрантов в отдельных регионах. Миграционные потоки не иссякли, их источники не изменились, но переселение приняло новую форму воссоединения семей, а не появления новых рабочих, и, соответственно, теперь в основном приезжали мигранты другого возраста и пола. Молодых мужчин сменили женщины, нередко пожилые, жены и родители первых мигрантов. Это лишь один пример известного правила: политические структуры всегда определяют набор доступных вариантов, в рамках которых потенциальные мигранты принимают решение[31].
Исследования, посвященные миграции, также предлагают новый взгляд на ее последствия, на то, как сформировать ее оценку, понять, является ли миграция более или менее важным явлением в том или ином случае. Благодаря наследию гипотезы вторжения такого рода спорные моменты в истории 1-го тысячелетия теперь нередко упираются в вопрос о том, сколько все-таки было мигрантов. Что мы изучаем – «массовую миграцию» или же куда более скромное явление, больше похожее на переселение элиты? И оценка важности миграционного потока меняется в зависимости от численности переселенцев. Однако, поскольку источники 1-го тысячелетия не называют точных цифр, если вообще упоминают о количестве мигрантов, не следует удивляться тому, что все споры подобного рода заходят в тупик. Таким образом, потенциально более полезным может стать относительное, а не статистическое определение массовой миграции, которое применяется в компаративных исследованиях миграции. Что, по большому счету, входит в понятие «массовая миграция»? Прибытие группы иммигрантов, составляющей 10 процентов от численности населения в пункте назначения? 20 процентов? 40 процентов? Сколько? К тому же поток миграции в любом случае следует рассматривать с точки зрения всех его участников. Теоретически, поток мигрантов может составлять небольшой процент населения в конечном пункте, но при этом включать в себя большую часть населения в исходном. Тогда то, что с точки зрения принимающего населения окажется «переселением элиты», для самих иммигрантов будет куда более значительным феноменом с точки зрения демографии. Для того чтобы охватить все разнообразие и варианты миграционных ситуаций и избежать проблем с цифрами, исследователи стали определять «массовую миграцию» как поток людей (независимо от их численности), который изменяет территориальное распределение населения в начальном либо в конечном пунктах или же «оказывает выраженное воздействие либо на политическую, либо на социальную системы», опять-таки в одном или обоих пунктах[32].
Но это не означает, что можно автоматически применять к событиям 1-го тысячелетия современные данные и подходы. Исследователи миграции в большинстве своем работали с примерами XX века, наблюдаемыми более или менее единовременно, или же изучали заселение европейцами Америки – либо Северной и Южной, в первой его стадии (с XVI по XVIII век), либо только Северной (масштабные волны иммиграции в конце XIX – начале XX века)[33]. Однако между указанными культурно-историческими пространствами и Европой 1-го тысячелетия имеются серьезные структурные различия. Экономика последней по сути была сельскохозяйственной, по объему конечной продукции практически не выходя за рамки натурального хозяйства. Тогда не существовало массового производства, поэтому закономерности, выявленные в переселении рабочих-мигрантов XIX и XX веков из сельскохозяйственной Европы в Европу индустриальную, а затем и в другие регионы мира, здесь попросту неприменимы[34]. Население Европы в 1-м тысячелетии было к тому же значительно меньше нынешнего, и вплоть до XX века власти европейских стран стремились контролировать не столько иммиграцию, сколько эмиграцию. Возможности правительства и административного аппарата государств 1-го тысячелетия (там, где таковые существовали) также были куда более ограниченными и потому не обладали возможностью создавать и насаждать иммиграционную политику так, как это делают эквивалентные им современные структуры.
Схожим образом обстояла ситуация с транспортом и доступностью информации. И то и другое имело место в 1-м тысячелетии, однако транспортные расходы были огромными по сравнению с современным миром. Возможно, самая знаменитая экономическая статистика Древнего мира – отчет в «Эдикте о ценах» императора Диоклетиана о том, что стоимость телеги пшеницы удваивалась за каждые 80 километров, на которые перевезли зерно. Пока транспорт стоил так дорого (то есть вплоть до второй половины XIX века), это представляло существенную проблему для потенциальных мигрантов, хотя иногда ее можно было решить с помощью государства[35]. Информация в дописьменных и бесписьменных обществах также передавалась на куда более короткие расстояния и совершенно другими способами, отличными от современных средств массовой информации, что также затрудняло потенциальным мигрантам сбор сведений о возможных пунктах назначения. В высоком Средневековье эта проблема иногда решалась с помощью специальных разведчиков, предпринимающих пробные путешествия, однако ограничения, неизбежно преграждавшие путь потокам информации в 1-м тысячелетии, очевидны[36]. Тем не менее современные исследователи миграции как минимум обратили внимание на новые проблемы и стали ставить более продуманные вопросы, выдвинув тем самым изучение миграции в 1-м тысячелетии далеко за пределы старой гипотезы вторжения и даже современных откликов на эту модель.
Но больше всего сведений современный мир предоставил нам о причинах миграции, что может стать особенно актуальным для исследователей, пытающихся разрешить загадку переселения народов в 1-м тысячелетии. На уровне индивидуальной миграции компаративный анализ ушел далеко вперед от списков факторов выталкивания и притяжения. У миграции есть две движущие силы – это относительно добровольная экономическая мотивация и вынужденная политическая. Однако четкую границу между экономической и политической миграцией обычно провести не удается. Политические причины могут стоять за решением мигрировать, которое на первый взгляд кажется экономически мотивированным, – допустим, к примеру, что политическая дискриминация стала причиной недоступности различных благ и рабочих мест для определенных групп населения. Нередко происходит и обратное – экономические мотивы могут преобладать в, казалось бы, чисто политическом решении переехать, пусть это происходит и не так часто, как утверждали отдельные министры внутренних дел Великобритании. В любом случае экономическое давление может так же сильно ограничивать свободу человека, как и политическое. Когда вы видите, как ваша семья умирает от голода, потому что у вас нет права получить землю или работу, – это экономическая проблема или политическая? Такого рода трудности означают, что процесс принятия решения потенциальным мигрантом сложно проанализировать с точки зрения факторов выталкивания и притяжения, он моделируется как график, на одной оси координат которого находятся факторы экономические и политические, а на другой – факторы добровольной и вынужденной миграции[37]. В общих чертах, можно сказать, что потенциальные мигранты сталкиваются с выбором своеобразного объекта инвестиций. Решение мигрировать включает в себя разнообразные начальные неприятности и расходы – транспорт, утраченный за время поиска работы доход, психологические проблемы, вызванные расставанием с тем, что было привычно и любимо, – которые сопоставляются с возможными выгодами, доступными в конечном пункте. В зависимости от своих расчетов индивидуум может принять решение уехать, или остаться, или уехать на время, чтобы получить больше возможностей для повышения уровня жизни в родной стране (что является одной из основных причин возвратной миграции).
Все это в равной степени увлекательно и сложно, однако в более общем плане исследования миграции могут предоставить еще более важный и содержательный урок. Не в последнюю очередь из-за того, что политику не всегда возможно отделить от экономики, экономические факторы остаются одной из основных причин миграции. Неравенство в уровне экономического развития между двумя регионами или в доступности природных ресурсов уже не раз создавало свободные миграционные потоки между ними – разумеется, если иммигранты в достаточной степени ценят потенциальные возможности, имеющиеся в пункте назначения. Таково фундаментальное заключение так называемых «теорий мировых систем», которые изучают отношения между центрами с более развитой экономикой и периферией, когда миграция нередко оказывается основным компонентом существующей между ними связи[38].
Это основополагающее наблюдение говорит о двух вещах. Во-первых, удовлетворительное изучение миграции в любую эпоху требует сочетания более широкого анализа (например, экономического контекста, который делает ее возможной) и поиска ответов на ряд конкретных вопросов: кто именно участвует в миграционном потоке, почему и как именно процесс начался и развивался[39]. Во-вторых, оно подчеркивает (и это куда более важно), что существует глубинная связь между миграцией и уровнем экономического развития общества. Из-за наследия гипотезы вторжения в исследованиях истории Европы 1-го тысячелетия появилась традиция проводить четкую грань между внутренними движущими силами социальной трансформации (такими, как экономическое и политическое развитие) и внешними последствиями миграции. Уже второе поколение археологов с 60-х годов видит во внутренней трансформации обществ смертельного врага миграции, когда дело доходит до объяснения наблюдаемых перемен в материальных свидетельствах прошлого. В таком интеллектуальном контексте самый важный урок, который можно извлечь из современных исследований миграции, заключается в следующем: четкое разграничение между ними является ошибочным. Модели и принципы миграции формируются прежде всего в условиях преобладающего неравенства в развитии общества и изменяются вместе с ним, являясь и причиной, и следствием последующей трансформации. В этом свете миграция и внутренняя трансформация рассматриваются не как взаимоисключающие объяснения тех или иных процессов, но как две стороны одной и той же монеты.
Старый способ видения истории 1-го тысячелетия породил «великий нарратив» – представление о том, как в Древнем мире, в котором господствовали средиземноморские народы, на протяжении тысячелетий путем регулярных вторжений и этнических зачисток появилась более или менее знакомая нам Европа. Новые данные – и не в последнюю очередь новое понимание групповой идентичности и миграции – успешно разрушили это представление, и пришла пора заменить его чем-то новым. Именно эту задачу ставит перед собой книга «Империи и варвары», в первую очередь доказывая, что миграцию и развитие необходимо рассматривать вместе, а не разделять как соперничающие и взаимоисключающие причины исторических явлений. Это взаимосвязанные феномены, которые только вместе способны дать удовлетворительное объяснение тому, как средиземноморское господство на варварском севере и востоке подошло к концу и на руинах древнего мироустройства появилась знакомая нам Европа.
Глава 2
Глобализация и германцы
Летом 357 года н. э. огромная армия германцев под предводительством различных царей алеманнов собралась на западном, римском берегу реки Рейн близ современного города Страсбурга. Вот что пишет об этом Аммиан Марцеллин в одном из самых полных исторических трудов позднеримского периода (с 275 года и далее): «Предводительствовали над всеми воинственными и дикими полчищами Хонодомарий и Серапион, превосходившие властью других царей. Преступный зачинщик всей этой войны, Хонодомарий, с пунцовым султаном на голове… прежде храбрый солдат, теперь прославленный полководец. Правое крыло вел Серапион… сын брата Хонодомария, Медериха… отец которого, долго пробыв в качестве заложника в Галлии и познакомившись с некоторыми греческими таинствами, дал такое имя своему сыну… За ними следовали ближайшие к ним по власти цари, числом пять, десять царевичей, большое количество знатных и 35 тысяч воинов, которые были собраны из разных племен отчасти по найму за деньги, отчасти по договору в силу обязательства взаимной помощи».
Описание Аммиана не оставляет ни малейших сомнений в том, что единого короля над германскими племенами алеманнов, главенствовавших в южном регионе, граничащем с Римом по реке Рейн в позднеримский период, не было. Отталкиваясь от этого сообщения, историки нередко утверждали, что в германском мире почти ничего не изменилось с I века н. э., когда Корнелий Тацит написал свой знаменитый географический и этнографический очерк. Даже при беглом прочтении сочинения Тацита «Германия» нельзя не обратить внимание на одно из ключевых его положений – германский мир был тогда совершенно раздробленным (в политическом плане). В этом отношении его поддерживает более поздний, II века, трактат Птолемея «Руководство по географии», в котором также отмечается, что примитивных политических объединений было слишком много, чтобы перечислить их все поименно: более пятидесяти. Поэтому лучше всего поместить их на карту, которая, даже если географическое их расположение приблизительно, даст превосходное представление о германской политической раздробленности в I веке (см. карту 2)[40]. Однако при более пристальном ее изучении становится ясно, что было ошибкой считать, что в обществе алеманнов с I века по IV не произошло важных изменений, основываясь лишь на том факте, что у них по-прежнему было много королей.
Трансформация германской Европы
Первый намек на происшедшие перемены виден при беглом анализе карты германской Европы середины IV столетия, которая выглядит совсем иначе, нежели предложенная в очерке Тацита (см. карту 3). На юго-востоке открывается совершенно другая картина – с преобладанием различных готских племен в Карпатских горах, к востоку от них и в соседних с ними регионах. На западе также многое изменилось. Вместо многочисленных маленьких сообществ, знакомых Тациту и Птолемею, явно доминируют четыре крупных объединения, располагавшиеся непосредственно у границы с Римом вдоль Рейна: алеманны и франки на переднем рубеже, саксы и бургунды сразу за ними. Пытаясь понять, как функционировали эти сообщества IV века, мы, как обычно, сталкиваемся с полным отсутствием интереса к «варварским делам» у римских авторов, но, преимущественно благодаря Аммиану, об алеманнах мы знаем куда больше, нежели обо всех остальных. И как становится ясно из его труда, политические отношения между алеманнами были весьма сложными.
Изменения в политическом строе
В дошедших до нас книгах своей «Истории», довольно подробно описывающих события с 354 по 378 год, Аммиан не дает аналитического обзора политических отношений, существовавших между алеманнами, как и перечисления структур и институтов, поддерживавших их властителей. Он предлагает нам более или менее связное повествование о союзе алеманнов, просуществовавшем четверть века, так сказать, в действии, из которого становится ясно, что германский политический строй в землях близ Рейна со времен Тацита претерпел две масштабные трансформации. Первая – и это неоспоримо – лидерство в различных племенах, составлявших народ алеманнов (главами которых были различные «цари» и «короли», собравшиеся под Страсбургом и неоднократно упоминающиеся в труде Аммиана), опиралось на более прочные основы, нежели в I веке. Сочинения Тацита (не только «Германия», но и «Анналы» и «История») предоставляют нам немало сведений о примерно тех же регионах Древней Германии в I столетии. В те времена отдельные германские племена, такие как узипеты и тенктеры, прекрасно существовали без каких-либо властителей и «королей» – политика племени при необходимости определялась собранием вождей (лат. principes), обсуждающих все вопросы на совете. И даже если королевская власть над племенем закреплялась за одним человеком, этот процесс не проходил легко, без сопротивления, и оставался явлением скоротечным, поскольку власть не переходила к его сыну либо наследнику. Во втором десятилетии I века н. э. выдвинулись два лидера германских племен – Арминий, вождь херусков, и Маробод, царь маркоманов. Главенство первого продлилось очень недолго. Арминий был предводителем в знаменитом восстании, в ходе которого в 9 году н. э. в сражении в Тевтобургском лесу были разбиты три легиона Вара, однако он оставался лишь одним из вождей херусков. Победа даровала ему кратковременное преимущество, которое тем не менее все время оспаривалось – в первую очередь Сегестом, вторым предводителем херусков, который порой даже помогал римлянам. Власть Арминия вскоре стала шаткой, задолго до того, как в 19 году он пал от рук своих соплеменников. Власть Маробод а опиралась на более глубокие основы, но и она в конечном итоге была подорвана Римом и внутренним соперничеством, так что во времена Тацита, на рубеже I и II веков, маркоманов возглавляли не наследники Маробода[41].
Средоточием политической жизни в обществе алеманнов IV века, напротив, были короли и цари (лат. reges). Имеющиеся у нас данные позволяют предположить, что регион, называемый алеманнами Аламаннией, был разделен на несколько кантонов или подрегионов (вероятно, для их обозначения уже существовало германское слово gau), каждый из которых (или, по крайней мере, из тех, о каких мы знаем) управлялся царем (лат. rex или regalis). Эта королевская власть, похоже, была отчасти наследуемой и переходила если не напрямую от отца к сыну, то по крайней мере к другому представителю царствующего клана. Хнодомар и Серапион, главные властители Страсбурга, были родственниками – дядей и племянником; а отец Серапиона, Медерих, был настолько важной персоной, что провел довольно долгое время в качестве заложника у римлян, успев обзавестись пристрастием к культу египетского бога Сераписа, почему он и назвал сына именем, чуждым германскому миру. В сочинении Аммиана мы также встречаем отца и сына, Вадомария и Витикабия, каждый из которых в свое время был королем. Но здесь главное – не спешить с необоснованными обобщениями. Алеманнские цари вполне могли лишиться власти. Некий Гундомад был убит собственными последователями, когда отказался присоединиться к армии, сражавшейся под Страсбургом. С другой стороны, важные люди, не бывшие королями, могли долго сохранять влияние в алеманнском обществе, Аммиан упоминает об оптиматах, которые присутствовали на поле боя. Тем не менее короли представляли собой куда более грозную и стабильную силу в обществе алеманнов IV века, нежели в раннеримский период[42].
Поздний союз алеманнов в целом проявлял себя как куда более прочное политическое образование, нежели его предвестники в I веке. Данное утверждение более спорное, поскольку, как мы видели, союз этот не функционировал как централизованное сообщество с единым полновластным правителем. В IV веке вообще не существовало единого царя алеманнов. А Германия I века была в состоянии произвести на свет даже более крупные сообщества, включающие в себя несколько малых политических объединений. Поэтому для некоторых ученых это не говорит о сколь-нибудь существенных переменах, якобы происшедших в общественном и политическом строе алеманнов. Однако надплеменные союзы I века были либо долгосрочными (но при этом отнюдь не неизменными) и преимущественно религиозными по своей сути, либо же политическими и в высшей степени непрочными. Тацит упоминает о трех «племенах с единым культом» (группах племен, которые сохраняют приверженность общему религиозному культу в добавление к своим собственным) – ингевоны, ближайшие к морю, герминоны в середине, истевоны на западе. О них нам известно немногое, и мне бы не хотелось недооценить их важность для раннегерманского мира, поскольку Птолемей также упоминал о них, а значит, они существовали не только в I веке, но и во II. Однако рассказы о попытках римлян покорить этот регион и собственно успешных завоеваниях показывают, что этот тип племенных объединений никогда не являлся основанием для коллективной политической или же военной реакции на внешнее нападение. Словом, какой бы ни была их истинная ценность – а она вполне могла быть большой в иных сферах жизни, – объединенные племена с единым культом не являлись при этом прочными политическими организациями. Когда сопротивление Риму или же – в более ранний период – попытка германцев утвердиться на кельтских территориях выливались в политическое объединение, оно формировалось вокруг отдельных личностей, облеченных властью. Таковыми были Ариовист во времена Цезаря, Арминий и Маробод в период предполагаемого римского завоевания территорий между Рейном и Эльбой, а позже и великого восстания, организованного вождем батавов Юлием Цивилием. Все эти вожди – с помощью харизмы, убеждения и запугивания – создавали большие союзы, собирая воинов со всех просторов германского мира, то есть из многочисленных малых политических объединений, перечисленных Тацитом, а после него – Птолемеем. Однако каждый из этих союзов распадался с поражением предводителя и уже не собирался вновь. Объединение племен под властью Маробода продержалось чуть дольше остальных, но и оно быстро исчезло после его смерти[43].
Именно по этому признаку, по общей стабильности объединения, видна разница между обществом алеманнов I и IV веков. В сражении при Страсбурге они потерпели жестокое поражение: «В этой битве пали двести сорок три солдата и четверо старших офицеров со стороны римлян… Но алеманны потеряли шесть тысяч воинов, оставшихся лежать на поле, и мертвецов, которых уже нельзя было опознать, уносили воды реки [Рейна]». Сам Хнодомар был взят в плен при попытке переправиться через реку. Цезарь Юлиан, правивший западом от имени своего кузена Августа Константина II, впоследствии воспользовался этой победой, чтобы навязать выжившим в битве алеманнским царям собственные условия мира. На самом деле Хнодомар смог неспешно, вольготно собрать свои войска лишь потому, что гражданская война в Римской империи создала вакуум власти в регионе на границе вдоль Рейна. Тем не менее, и в этом общество алеманнов IV века разительно отличается от такового в I веке, поражение Хнодомара не привело к распаду союза, как было в I столетии после разгрома армий Арминия и Маробода. Менее могущественные цари алеманнов, участвовавшие в бою, не только сохранили свои позиции милостью Юлиана – не прошло и десяти лет, как римлян начало беспокоить выдвижение нового лидера, Вадомария. Его весьма ловко убрали, подослав наемных убийц, но затем появился третий предводитель – Макриан. Аммиан упоминает о трех попытках одного из преемников Юлиана, Валентиниана I, устранить Макриана, захватив его в плен либо убив. Однако в конце концов, поглощенный событиями на востоке, император сдался. Римлянин и алеманн встретились в центре Рейна и провели совет на воде, и в результате император признал главенство Макриана над алеманнами[44]. В отличие от событий I века теперь даже поражение в войне не сумело разрушить крупное объединение племен алеманнов.
Следует предположить, что это объединение обладало некоей политической идентичностью, которая ныне была куда глубже укоренена в сознании людей, нежели в I веке, – в том смысле, что оно уже не исчезало вместе с отдельными индивидуумами. Менялись обстоятельства, тот или иной царь получал верховную власть, однако союз в целом пережил превратности политических карьер отдельных людей и сохранил относительную целостность. На прочность этих связей также намекают отдельные сведения, предоставляемые Аммианом, и не в последней мере рассказ о правителе одной из областей (или кантонов) – Гундомаде, которого свергла группа его же последователей за то, что он не присоединился к крупному союзу, собиравшемуся под Страсбургом. По крайней мере, для этих людей групповая идентичность порой становилась более важным детерминантом политического поведения, нежели преданность собственному царю. Как именно эта групповая идентичность функционировала, Аммиан не сообщает. Однако он говорит о том, что цари устраивали пиры друг для друга, и узы взаимной поддержки связывали по меньшей мере некоторых вождей, сражавшихся при Страсбурге. В деталях таких соглашений и подробностях об организации пиров заключались бы все сведения, необходимые нам для понимания подлинной структуры общества алеманнов IV века, однако Аммиан, к сожалению, о них умалчивает.
Как у многих поздне античных и ранне средневековых сообществ, у алеманнов была, как я полагаю, традиция устраивать политические и дипломатические советы, на которых определялось положение тех или иных царей как верховных либо подчиняющихся верховным и, соответственно, приносящих им клятву верности и выполняющих определенные обязанности, при этом сохраняя власть над своими вотчинами. В подобных системах политическая преемственность не могла быть абсолютной. Ни один верховный правитель не получал в наследство готовую политическую структуру от своего предшественника. Однако, когда устанавливался новый порядок, новая иерархия, в действие вступали принятые обществом отношения между царями с разными статусами, и с помощью этих связей можно было определять права обеих сторон – старшей и младшей – при заключении новых соглашений. Подобная система, на мой взгляд, как раз и имела место в обществе алеманнов IV века, и явный признак ее важности – общие особенности римской дипломатии в этом приграничном регионе. Стоило римлянам отвлечься на иные вопросы и дела (во времена Аммиана таковыми чаще всего становились события на границе с Персией), к власти тут же приходил очередной верховный правитель алеманнов. Римская политика на Рейне, соответственно, чаще всего была направлена на устранение преемственности между царями, появлявшимися в охватываемый Аммианом период[45].
Однако, к сожалению, римский историк вновь не дает нам никаких сведений о том, функционировали ли схожие системы в более крупных племенах близ Рейна – у франков, саксов и бургундов. Как и их алеманнскими соседями, франками в IV веке, безусловно, правили цари, но мы не так часто видим их в действии, чтобы сказать наверняка, позволяла ли этим народам их политическая идентичность действовать сообща, как делали их соседи, и собираться вновь даже после тяжелых поражений. У нас нет причин полагать, что все германские племена VI века были абсолютно одинаковы, как, впрочем, и их предшественники три века тому назад. По сведениям Тацита, у одних племен уже были цари, у других – нет. Доказательством тому, что более широкая и подкрепленная политическими связями идентичность имелась не только у алеманнов, являются вестготы – объединение готских племен, действовавшее у восточной римской границы близ предгорий Карпат. Вестготы (или тервинги) – единственное германское племя, помимо алеманнов, непосредственно соседствовавшее с Римской империей, о котором источники сообщают довольно подробные сведения.
С точки зрения политических качеств и прочности союз вестготов проявляет три основные черты, свойственные также обществу алеманнов и отличающие его от любых подобных объединений I века. Во-первых, власть над тервингами, похоже, оставалась в руках одной и той же династии на протяжении по меньшей мере трех поколений, с 330 по 370 год, а официально титул правителя звучал как «судья». Как и в случае с царями отдельных областей (кантонов) у алеманнов, власть в восточногерманском мире стала скорее наследственной. Во-вторых, как и у алеманнов, судьи тервингов управляли союзом, в который входили несколько царей и королей. И в-третьих, союз вестготов скреплялся столь прочными узами, что пережил даже тяжелые поражения. Первые упоминания о союзе вестготов относятся к началу 330-х годов, когда император Константин нанес им сокрушительное поражение. Однако тогда союз не просто не распался – власть осталась в руках той же династии, и через поколение ее представители уже планировали избавиться от наиболее тяжелых обязательств, навязанных им Константином[46]. Здесь следует подчеркнуть, что алеманны и тервинги – единственные германские народности IV века, о которых мы имеем сколько-нибудь подробные сведения, а потому нельзя с ходу предположить, что каждое крупное объединение германских племен того периода имело такие же черты. Тем не менее в нашем распоряжении два превосходных примера того, что в IV веке в Древней Германии появилась более стабильная и глубоко укоренившаяся групповая идентичность, связывавшая различные племена, которой не существовало тремя столетиями ранее.
Откуда она взялась?
Установление военного царства
Эту историю невозможно просто рассказать. Не существует источника, который предлагал бы полное и подробное описание какого-либо аспекта римско-германских отношений в период с I по IV век, который для нас крайне важен. Даже такое потрясение, как Маркоманская война, пришлось реконструировать по фрагментарным свидетельствам. В любом случае вряд ли хоть один римский историк (даже из тех, чьи труды утрачены) стал бы методично описывать все трансформации, происходившие с алеманнами и вестготами. Источники I века говорят о борьбе за власть, постоянно шедшей между племенами. Мы слышим даже о том, что создавались и уничтожались целые племена. Батавы, к примеру, изначально откололись от хаттов; римские историки описывали уничтожение племени бруктеров; Тацит рассказывает о битве до смерти между хаттами и гермундурами и уничтожении изгнанных и лишившихся своих земель ампсиварах[47]. Изредка мы даже слышим о борьбе за власть в том или ином племени; по крайней мере, таковая существовала между Арминием и Сегестом, соперничавшими за главенство над херусками. Но в этих обрывочных сведениях нет ничего, что могло бы убедить нас в том, что политическая структура германского общества в целом имела тенденцию к увеличению союзов и укреплению связей между составляющими их племенами. И ключ к процессам, в действительности лежавшим в основе их появления, появился из совершенно невероятного источника.
В 1955 году несколько датских рабочих копали канаву в Хадерслеве в Шлезвиге, северном регионе Южной Ютландии. Однако им пришлось прервать работу, когда в одном из ответвлений канавы они обнаружили нечто потрясающее – шестьсот металлических предметов, многие из коих относились к временам Римской империи. Низина, в которой трудились рабочие, когда-то была озером, пусть и не слишком глубоким. В течение девяти лет были бережно извлечены 1700 кубометров земли и найдены самые неожиданные артефакты, вплоть до каркаса судна. Все эти вещи сваливали в озеро в разные периоды эпохи Римской империи – это ясно по образовавшимся скоплениям. Более того, иногда их сбрасывали туда сразу в больших количествах, из мешков или корзин. Разумеется, это далеко не первая находка такого рода. Во второй половине XIX века в болотах на севере Европы (в особенности в Дании) был обнаружен целый ряд подобных захоронений предметов. Однако в Эйсбёл-Моор (так называлось место раскопок в Хардеслеве) впервые при раскопках применялись современные археологические методы. Наконец стало возможным ответить на главный вопрос, оставшийся после более ранних исследований: сбрасывали ли в воду вещи часто и в малых количествах – или реже, но в куда больших?
Ответ нашелся, ясный и четкий, благодаря тому, что на сей раз при исследованиях особое внимание уделялось стратиграфическим аспектам. Предметы, обнаруженные в Эйсбёл-Моор, действительно были захоронены в разные времена, однако в то же время огромное количество предметов были сброшены в воду вместе. Археологам удалось обнаружить огромное единое захоронение – военное снаряжение, рассчитанное на небольшой отряд примерно из двухсот воинов и затопленное в водах озера приблизительно в 300 году н. э. Общее количество предметов составило несколько сотен, снаряжение явно принадлежало единому, хорошо организованному войску со строгой иерархией. Оно состояло приблизительно из двухсот копейщиков, каждый из которых был вооружен метательным копьем с зазубренным наконечником и пикой. Археологи обнаружили сто девяносто три зазубренных наконечника и сто восемьдесят семь простых. Примерно у трети воинов имелось и личное оружие. На месте раскопок нашли шестьдесят три ременные пряжки, шестьдесят мечей и шестьдесят два ножа, изначально крепившиеся к поясу. Войском управляли десять или более всадников. Десять уздечек и семь пар шпор было также обнаружено при раскопках.
Что интересно, все это снаряжение было ритуально повреждено, прежде чем погрузиться в воды озера. Все мечи были погнуты, древки копий – сломаны (об этом говорит множество щепок). Очевидное намерение окончательно испортить их может означать только одно – здесь был проведен некий ритуал, о котором изредка сообщают исторические источники: в соответствии с ним оружие врага приносилось в жертву богам[48]. Несколько всадников, возможно, бежали пешими, или же недостающие шпоры просто затерялись. Одно бесспорно – археологи обнаружили последние материальные свидетельства некогда существовавшей военной силы, стертой с лица земли в давно забытой, нигде не упоминаемой Vernichtungsschlacht (смертельной битве) на рубеже III и IV веков.
Эйсбёл-Моор – пример безупречного проведения археологических изысканий, однако у найденных там предметов есть и куда более широкое значение. Они создают вполне четкий образ профессионального, хорошо организованного войска со строгой иерархией, что вполне соответствует сведениям письменных источников о том, что к IV веку германские предводители – цари – держали постоянное личное войско именно такой численности. Когда римляне наконец загнали Хнодомара в ловушку после сражения при Страсбурге, его войско сдалось вместе со своим предводителем. По странному совпадению, оно также состояло из двухсот человек. У подобных дружин явно было военное предназначение – и, к счастью, имеются немногочисленные, но поистине бесценные сведения о том, что таковое не ограничивалось только боевыми действиями, эти отряды представляли собой инструмент социальной власти. Когда предводители тервингов в начале 70-х годов IV века попытались установить единую веру среди своих подданных, воины из дружин были отправлены в готские деревни, чтобы обеспечить покорность местных жителей. Здесь важно отметить: Тацит утверждает, что подобного института в I веке не было. Дружины и войска уже существовали, но они не функционировали постоянно, и вожди лишь иногда получали добровольные дары в виде запасов продовольствия для содержания солдат. Археологические свидетельства той эпохи также ничуть не похожи на профессиональное, разнообразное снаряжение, найденное в Эйсбёл-Моор. За прошедшие два века германские короли постепенно выводили постоянные отряды на совершенно иной уровень[49]. Этим и объясняется тот факт, почему они сами порой встречаются в дошедших до нас источниках VI века в роли куда более устоявшегося и важного элемента германского общества, нежели их предшественники во времена Тацита.
Более поздние важные доказательства значимости этого достижения появились из совершенно иного источника. Одной из более новых и сложных дисциплин в области гуманитарного знания является компаративная филология – изучение лингвистического происхождения слов и их значений вместе с их переходом из одной языковой группы в другую. Как показали недавние исследования, во всех германских языках понятие, обозначающее «царя» или «предводителя», происходило от трех корней: thiudans (властитель народа), truthin и kuning. Kuning вошло в употребление позже. Главное, на что нужно обратить внимание, – понятие truthin изначально означало «предводитель войска», но к позднеримскому периоду стало употребляться как основное обозначение «царя» или «предводителя» во всем германском мире. И это не просто изменение титула. Thiudans означает правителя народа, для которого военные обязанности – лишь часть выполняемых им функций, и, вполне вероятно, не самая важная. Так, например, Тацит пишет о германских обществах I века: «Царей они выбирают из наиболее знатных, вождей – из наиболее доблестных», что в целом подтверждает вышесказанное. КIV веку новые титулы предводителей указывают на то, что это различие исчезло, и военное командование стало основной задачей тогдашних германских царей. Сложно придумать более убедительное доказательство исключительной важности прихода к власти в позднеримский период предводителей нового типа, чья позиция укреплялась постоянным войском, находившимся в полном их распоряжении[50]. Археология, письменные источники и филология – все они указывают на то, что к VI веку в обществе германцев образовалась куда более стабильная королевская власть.
Получается, что в период с I по IV век класс военных предводителей (вождей) создал новую военную силу и с ее помощью увеличил дистанцию (в плане социальной власти) между собой и простыми людьми. Не нужно долго раздумывать, чтобы понять: этот процесс не мог происходить с согласия обеих сторон, ведь небольшая элитарная группа фактически захватывала власть над всеми остальными. И это, в свою очередь, создает единственное возможное объяснение событиям, приведшим в конечном итоге к появлению захоронения оружия близ Эйсбёл-Моор. Археологи обнаружили там снаряжение целого военного отряда. Поскольку само оружие было намеренно уничтожено, можно смело предположить, что та же судьба постигла владевших им людей. Устанавливая в обществе свою власть, новые военные цари шли на риск, ставки были очень высоки, и Эйсбёл-Моор служит напоминанием о том, что на каждую выигравшую группу приходилась одна или несколько проигравших. И тут же складываются два возможных сценария развития событий для потерпевших поражение. Случайно увековеченный в памяти потомков побежденный отряд мог быть полностью уничтожен своими соперниками – либо же группой обычных германцев, которым вовсе не улыбалась перспектива отдать в руки военному предводителю власть, которой он жаждал. Если мыслить категориями Голливуда, перед нами сюжет «Крестного отца» (с помощью некогда существовавшего озера захвативший верховную власть царь предупреждал возможных соперников, что их может ждать вечный сон на дне в компании рыб (в нашем случае – пресноводных) – или же «Великолепной семерки» (толпа крестьян находит способ избавиться по крайней мере от одного военного отряда). Мы никогда не узнаем, что именно тогда произошло, хотя ярость, с которой оружие было уничтожено, скорее говорит в пользу Юла Бриннера, а не Аль Пачино. По известным нам более поздним подобным событиям, предводители победивших отрядов нередко принимали побежденных в свое войско, увеличивая его численность – и свою власть[51]. Но это несущественно. Для нас гораздо важнее тот факт, что военные цари могли прийти к власти только в результате долгого, нередко жестокого процесса, в ходе которого неспешно шла борьба как между предводителями различных отрядов, так и между предводителем и предполагаемыми подданными.
Экспансия и развитие
Но это лишь часть истории. Войска вроде отряда, уничтоженного при Эйсбёл-Моор или находящегося в распоряжении Хнодомара, содержать было нелегко. Воины не выращивали еды и не производили товаров, однако их нужно было кормить, и все имеющиеся у нас данные об эпохе германских военных отрядов – по большей части, правда, взятые из более поздней героической поэзии, однако упоминающиеся и в трудах Аммиана, и в антропологических исследованиях аналогичных, но лучше документированных случаев, – заставляют нас предположить, что «кормили» войско и впрямь героически: много жареного мяса и алкогольных напитков, как недавно было показано в голливудской версии «Беовульфа». Военное снаряжение также стоило недешево. Среди находок близ Эйсбёл-Моор нет нательной брони, а такой доспех – самый дорогой элемент снаряжения воина в Древнем мире и Средневековье. По словам Аммиана, к примеру, Хнодомара было легко узнать на поле боя по его доспехам, поэтому мы имеем право предположить, что в IV веке германские воины их не носили. Тем не менее у трети отряда, чье оружие было найдено близ Эйсбёл-Моор, имелись мечи. Большая часть обнаруженного там снаряжения была изготовлена умелыми ремесленниками из дорогого сырья[52]. Другими словами, отряды, сделавшие военных царей столь заметной фигурой в истории германцев в IV веке, не смогли бы появиться без двух предпосылок. Во-первых, им нужны были излишки продовольствия и других произведенных местным населением товаров, необходимых для торговли или обмена. Во-вторых, у царей должна была быть возможность распоряжаться этими излишками по своему выбору и для своих целей.
Это непосредственное предположение, однако, наносит серьезный урон мнению о том, что вплоть до Рождества Христова значительные запасы продовольствия и других ценностей, пригодных к обмену или торговле, почти не встречались в германской Европе. Поэтому эта история начинается с сельскохозяйственного производства. Экономика германской Европы – как, впрочем, и экономика Римской империи и любой другой европейской страны 1-го тысячелетия – была преимущественно сельскохозяйственной. Археологические исследования, проводимые со времен Второй мировой войны, показали, что германская Европа претерпела небольшую революцию сельскохозяйственного производства в течение тех четырехсот лет, когда граничила с Римской империей на западе и юге.
В начале этого периода ведение сельского хозяйства к востоку от Рейна было преимущественно «экстенсивным» – то есть противоположным «интенсивному». Это означало, что для обеспечения достойного существования того или иного поселения была необходима довольно крупная территория, поскольку собираемый урожай был скудным. Для такого метода земледелия в высшей степени характерны поселения небольших размеров, отстоящие далеко друг от друга и существующие максимум на протяжении двух поколений, после чего их обитателям нужно было перемещаться на новое место. Поэтому у жителей германской Европы не было желания – либо необходимости – поддерживать плодородие своих полей, чтобы каждый год получать обильные урожаи и возделывать одно и то же поле постоянно, а не в течение столь малого срока. Начав получать урожай меньше необходимого, они просто переходили на новое место. Доказательства этого утверждения представлены в многочисленных видах и формах.
В больших регионах на севере Центральной Европы до сих пор различимы границы широко распространенных в тот период «кельтских полей» – стены, сложенные из камней, найденных в земле при возделывании. Поля эти очень велики, что наглядно показывает, сколько требовалось земли, чтобы прокормить одну-единственную семью. Известные нам типы поселений подтверждают это заключение. До 1945 года германские поселения, принадлежащие I–II векам, встречались крайне редко, и мир ранних германцев изучался археологами преимущественно по кладбищам. Теперь сложилась обратная ситуация – соотношение поселений и кладбищ составляет приблизительно 7:1, причем количество первых быстро увеличивается. Причины существовавшего ранее дисбаланса сейчас также вполне очевидны. Все известные нам теперь поселения тех времен были маленькими, и век их был короток. Зная, что на новом месте им жить не так уж и долго, поселенцы не стремились сделать постройки прочными и долговечными и не прилагали к их возведению чрезмерных усилий. Следовательно, таких деревень было много, однако их следы сложно обнаружить. Те немногочисленные свидетельства древнегерманских методов ведения сельского хозяйства, которые сохранились до наших дней, подтверждают это предположение. Хорошо изученное кладбище раннегерманского периода близ Одри на территории современной Польши, к примеру, было устроено прямо поверх старого «кельтского поля». Под одним из курганов обнаружили признаки того, что эту землю некогда разрабатывали и удобряли. Методы и того и другого были примитивными. Вспахивали землю узкими, соединенными крест-накрест тяпками. Это означало, что землю на поле не переворачивали и, следовательно, сорняки и ботва не сгнивали в ней, насыщая ее питательными веществами – прежде всего азотом – и возвращая ей плодородность. Единственным удобрением, которое здесь применялось, была зола. При таких методах возделывания земля не могла долго оставаться достаточно плодородной[53].
Убедительное доказательство того, что в германских сельскохозяйственных практиках в римский период произошли разительные перемены, было получено лишь в 1950-х годах, на глиняных полях в приморских районах современной Голландии и Германии. К этому времени уже было обнаружено и хорошо изучено захоронение предметов близ Эйсбёл-Моор, а потому интерес археологов постепенно смещался в сторону поселений, и быстрое развитие методов ведения раскопок привело к тому, что теперь можно было получить куда более полные и ценные сведения. Первые крупные раскопки на месте раннегерманских поселений были сосредоточены на характерных искусственных холмах, часто встречающихся в прибрежных районах этих стран, – холмы эти называются terpen по-голландски и Wierde по-немецки. Они появились в результате многолетних, последовательно появлявшихся поселений на одном и том же месте, изначально – не на возвышенности. С годами сгнившие отбросы, древесина, из которой строили дома, и другие следы человеческой жизнедеятельности постепенно повышали уровень почвы. Это обстоятельство и сделало такие холмы предметом археологических изысканий, однако местные фермеры тоже приметили, что почва на таких возвышенностях весьма плодородна, поэтому некоторые из них были полностью либо частично срыты до того, как до них добрались ученые.
Однако самая плодотворная и кропотливая работа проводилась в месте, получившем большую известность среди специалистов, пусть даже о том, что было за его пределами, почти ничего не известно, – в Феддерсен-Вирде. Тщательные стратиграфические раскопки велись здесь почти десять лет, с 1955 по 1963 год, и позволили проследить весь путь развития поселения. Оно появилось в I веке н. э., когда на этом месте поселились первые пять семейств. Тогда здесь проживало максимум пятьдесят человек, и они практиковали смешанное земледелие, вкладывая много сил в разведение скота. Судя по числу стойл, построенных в первую фазу заселения, основавшие поселок пять семей держали около ста коров. Но это было только началом. Поселение процветало на протяжении трех веков, достигнув максимального размера во второй половине III века н. э.; к этому времени численность его обитателей доходила до трехсот человек, державших в общем счете четыреста пятьдесят коров. Проводились также кропотливые исследования их повседневной жизни, обычных занятий и обязанностей, но нас интересует прежде всего размер поселения и срок его существования. Они позволяют судить о том, что в сельском хозяйстве германцев произошла революция. При старых методах возделывания почвы, для которых основным условием являлись весьма протяженные поля, столько людей не сумело бы жить бок о бок друг с другом на протяжении трехсот лет, это немыслимо. Очень скоро они перестали бы получать достаточно богатые урожаи, да и производство не могло бы вестись с необходимой эффективностью. Феддерсен-Вирде мог появиться лишь потому, что его жители усвоили новые, куда более эффективные методы земледелия, позволившие им значительно повысить и успешно поддерживать плодородность почвы на полях, вследствие чего концентрация населения увеличивалась на протяжении многих поколений. Точный ход этой революции уже не подлежит восстановлению, однако как минимум требовалось регулярно и тщательно перепахивать землю, добавляя в нее навоз скота, чтобы поддерживать плодородность возделываемых полей[54].
С нашей стороны было бы чересчур поспешным по одному образцу судить о других местах, к тому же нет причин полагать, что Феддерсен-Вирде, в основе которого лежала существенная интеграция пахотного и пастбищного хозяйства, представляет собой пример единственной модели развития германского сельского хозяйства. Однако значительное число иных поселений римского периода, в которых велись раскопки, подтверждает, что это далеко не единственный пример успешного развития фермерства. Вийстер почти так же знаменит, как и Феддерсен-Вирде, – и тоже находится на северо-западе Древней Германии. Первой там поселилась большая семья и начала обрабатывать землю в середине I века до н. э. Много слоев почвы было выбрано современными фермерами, поэтому обширные участки поселения получили слишком большие повреждения, чтобы можно было вести раскопки с помощью стандартных процедур. Однако к IV веку семейное хозяйство выросло в крупное поселение, вмещающее по меньшей мере пятьдесят – шестьдесят семей, которые возделывали рыхлую, богатую песком почву близ устья реки Дренте. Другие крупные поселения римского периода, обнаруженные в этом районе за Рейном, включают в себя Ходдер, Форбассе, Гиндрап, Мариенсмайнде и Норре-Фианд.
В других регионах картина менее ясна, да и точный путь развития сельского хозяйства гораздо сложнее проследить, однако нам известно достаточно, чтобы установить следующее: во времена Римской империи развитие сельского хозяйства в Древней Германии шло довольно активно. На территории современной Центральной Германии (на восточных и юго-восточных рубежах Древней Германии за Карпатами) модель развития поселений не так хорошо изучена, и, разумеется, у нас нет причин считать, что методы ведения сельского хозяйства развивались и менялись повсюду в одно и то же время. Тем не менее во всех этих регионах встречаются крупные поселения – к примеру, Бархорст в 50 километрах к западу от Берлина, где проживало тридцать семей, или многочисленные большие готские деревни на юго-востоке, где жили носители черняховской культуры IV века. Это показывает, что за время существования Римской империи во всей Древней Германии в обиход вошли более развитые методы земледелия. Иногда сельскохозяйственные орудия находят отдельно, и даже они свидетельствуют ровно о том же: железные лемеха и сошники явно были способны куда эффективнее переворачивать землю, чем примитивные плуги. Рост и долгий срок существования поселений, в сочетании с имеющимися доказательствами появления эффективных пахотных орудий, указывают на важные изменения в сельском хозяйстве германской Европы в первые века н. э., пусть даже применяемые здесь методы и технологии по-прежнему были менее совершенными, нежели по другую, римскую сторону границы[55].
Из этого следуют два вывода. Во-первых, появление излишков продовольствия в результате революции в сельском хозяйстве, объясняет то, каким образом новые военные цари содержали свои войска. До обнаружения поселений и орудий труда ученые сомневались в том, что неразвитая германская сельскохозяйственная экономика в IV веке была способна поддерживать постоянное войско, состоявшее из профессиональных воинов. Во-вторых – и это уже более смелое утверждение, – наличие огромных запасов пищи заставляет нас предположить, что население германской Европы значительно выросло в этот же период. Назвать точную цифру прироста невозможно, однако, как говорят демографы, одно из главных ограничений роста человеческого населения – доступность пищевых продуктов. О демографическом росте говорит и другое явление – на германских кладбищах, появившихся в римский период и тщательно изученных в наши дни, в III и IV веках стало гораздо больше захоронений по сравнению с первыми двумя столетиями н. э. Палинология также предоставляет данные, подтверждающие это положение. В течение первых четырех веков н. э. пропорции пыльцы, производимой зерновыми посевами, возрастают при уменьшении количества пыльцы трав и деревьев, что также свидетельствует о развитии и расширении сельского хозяйства[56].
Заметный прирост сельскохозяйственной продукции не только объясняет существование регулярного войска, но и, вероятно, является основным источником обогащения в германском обществе данного периода, о чем как раз и говорит наличие дорогого военного снаряжения для воинских отрядов. Запасы продовольствия можно было обменивать на необходимые элементы экипировки. Однако сельское хозяйство, при всей его значимости, было не единственным источником дохода для германских царей. В последние годы появились доказательства того, что в течение первых четырех веков н. э. общий уровень материального благосостояния германской Европы заметно возрос благодаря выраженному разделению производства и, соответственно, системе обмена самых разных товаров, помимо запасов пищи.
Свидетельства развития металлопродукции и связанных с ней ремесел заставляют нас сделать вывод о соответственном расширении и этого сектора экономики. В особенности выделяются два основных центра производства металлов на территории современной Польши – в Свентокшиских горах и в Южной Мазовии, где, по приблизительным подсчетам, в эпоху Римской империи было получено свыше 8 миллионов килограммов железной руды, причем разработка месторождений стала вестись гораздо активнее в последние века этого периода. Данные о металлообработке более разрозненные, однако столь же убедительные. Когда из земли близ Эйсбёл-Моор извлекли первые шестьдесят мечей, ученые было решили, что обнаружили самое крупное из всех захоронений римского оружия. Однако более глубокий анализ показал, что, пусть и основанные на римских образцах, эти мечи были выкованы в кузницах германской Европы. К 300 году н. э. по меньшей мере в одном центре выпускалось стандартное военное снаряжение, причем довольно крупными партиями; более ранние германские мечи все изготавливались индивидуально[57].
Находки, относящиеся к сфере обработки драгоценных металлов, не менее поразительны. Целое собрание изысканных золотых и серебряных сосудов было обнаружено в Пьетроассе в Румынии во второй половине XIX века. Большинство датированы V столетием, но по меньшей мере одно серебряное блюдо было изготовлено в IV веке и за пределами Римской империи, в германской Европе. Формы для создания подобных предметов были обнаружены в слоях, характерных для Древней Германии IV века, и общее качество и количество личных украшений, изготовленных из драгоценных металлов, возрастает в позднеримский период. К IV веку изысканные фибулы – броши или же просто булавки, – которыми германцы традиционно скрепляли одежды, были распространены почти повсеместно, и остатки мастерских, производящих подобные изделия, были найдены во владениях по крайней мере одного алеманнского царя. В первые два века н. э. фибулы делали обычно из бронзы либо железа. С середины III века меняются способы изготовления германской глиняной посуды. В III и IV веках германские горшечники впервые – пусть не повсеместно и не все сразу – начинают применять гончарный круг. Это достижение в сочетании с улучшенной технологией обжига приводит к тому, что в германской Европе появляется качественная керамика. Переход к производству с помощью гончарного круга не только предоставляет германцам более качественные продукты, но и тесно связан с более крупным, коммерческим производством посуды. В некоторых регионах эта экономическая трансформация оказалась всеобъемлющей. В преимущественно готских причерноморских поселениях (центрах черняховской культуры) в IV веке посуда, изготовленная на гончарном круге, становится нормой (хотя большие горшки по-прежнему делали вручную). Однако на территории алеманнов того же периода немногочисленные эксперименты с гончарным кругом закончились неудачей, и такая посуда не получила всеобщего распространения – возможно, не выдержав конкуренции с более прочными и качественными римскими изделиями, заполучить которые им было куда проще, чем готам. Однако к началу позднеримского периода все качественные товары, изготовленные на гончарных кругах и найденные в германских поселениях, без исключения были римского производства, поэтому даже с виду незначительное экономическое развитие свидетельствует о серьезных изменениях[58].
Металлообработка и гончарное дело являются важными сферами экономики, поскольку производят более дорогие или дешевые товары широкого потребления. Методы производства становятся все более профессиональными и в иных секторах позднегерманской экономики, появляются даже совершенно новые технологии. Самым заметным и важным достижением является производство стекла. До IV века все стеклянные товары, находимые на территории германской Европы, были римского производства и импортировались из империи. Однако после 300 года н. э. появился центр изготовления стекла в городе Комаров неподалеку от Карпат. Его продукция была широко распространена в Центральной и Восточной Европе (см. карту 3). Слои, в которых были обнаружены стеклянные предметы, и их непосредственное окружение указывают на то, что они принадлежали элите и свидетельствовали о высоком статусе владельцев. Вряд ли производство было массовым, однако оно, вне всякого сомнения, приносило ремесленникам немалый доход. В той же степени интересный, хотя и совершенно иной пример был найден в поселении на территории, на которой в IV веке жили готы. В Бырлад-Валя-Сяке в современной Румынии исследователям удалось обнаружить целых шестнадцать хижин, построенных для производства предмета, который почти всегда находят в могилах этого периода, – гребней, сделанных из оленьих рогов. Во многих германских племенах политическая верность тому или иному царю выражалась с помощью причесок, которые также говорили о социальном статусе человека. Самый знаменитый тому пример – так называемый свебский узел, описанный Тацитом и прекрасно сохранившийся на черепе древнего германца. В этом контексте вряд ли следует удивляться тому, что гребни были весьма ценными личными вещами. Внутри хижин были обнаружены части гребней разной степени законченности, что позволило пролить свет на процесс их изготовления. В этом случае, похоже, целое поселение занималось одним и тем же – производством основного продукта[59].
Следовательно, не только сельское хозяйство, но и иные сферы экономики германской Европы начали процветать (в определенном смысле) к позднеримскому периоду. По всей ее территории на протяжении первых веков н. э. происходит быстрое развитие и накопление материальных благ. Как и современная глобализация, которая является как минимум столь же важным историческим явлением, процесс протекал неравномерно, новое богатство не разделялось поровну между всеми жителями Древней Германии. В результате развития экономики в германском мире появились явные победители и побежденные, и именно в этот момент военные короли и их непосредственные слуги стали играть важную роль в экономическом развитии. Многие из производимых предметов – не только еда, но и иные товары – отходили к новым военным королям и их вооруженным отрядам. Железо было необходимо для стального оружия, это очевидно, однако они получали не только его, но и различные изделия из стекла и драгоценных металлов. Все эти предметы встречались в могилах, которые, как становится ясно из тщательного анализа, принадлежали элите германского общества позднеримского периода[60]. Но насколько велик был масштаб начавшейся социальной и политической революции?
Воины, цари и экономика
Романтические концепции древнегерманского общества, появлявшиеся в XIX веке на пике популярности националистических идей, выдвигали понятие раннегерманской Freiheit (свобода) – идею о том, что Германия до рождения Христа была миром вольных и благородных дикарей, в котором не было знати, а правители напрямую отвечали за свои действия перед собранием свободных людей. Это было ошибкой. Даже во времена Тацита германцы держали рабов, хотя у тех и имелись собственные хозяйства и они всего лишь отдавали хозяину часть продукции, а не находились непосредственно в его распоряжении, исполняя роли беспрекословных слуг в чужих владениях. И хотя материальные остатки германского мира в последние несколько веков до н. э. не предоставили нам никаких явных сведений о социальной дифференциации, это еще не означает, что различий в статусе не было вовсе. Даже в материально простой культуре – а в III веке до н. э. самым заметным признаком неравенства среди германцев Северной и Центральной Европы были чуть более изысканные фибулы, которыми скреплялись одежды, – различия в социальном положении могли оказывать огромное влияние на качество жизни. Если более высокий статус означал, что человек получал больше еды, выполнял меньше тяжелой работы и обладал всеми возможностями для продолжения своего рода, эта разница уже была бы весьма весомой, несмотря на то что она не выражалась в обладании материальными ценностями. Более того, я всерьез сомневаюсь в том, что различия в социальном положении, описанные Тацитом, были новыми для германского мира I века н. э., даже если их следы нельзя обнаружить в археологических материалах, относящихся к предыдущим столетиям[61].
Таким образом, исторические свидетельства не противоречат тому, что зародившееся ранее социальное неравенство стало еще заметнее во времена Римской империи. Мы уже с этим сталкивались. Новые военные цари и их приближенные – по крайней мере, те, кто был достаточно богат и влиятелен, – являлись одними из тех, кто получал свою долю от новых богатств. Археологически их приход к власти проявляется в двух типах памятников – по практике захоронений и в остатках поселений. Между богатством загробных даров и прижизненным статусом покойного нет прямой связи. Самые богатые могилы (в германской традиции они называются Furstengraber, или княжеские захоронения) бывает не так легко датировать – скажем, одна группа могил конца I века может располагаться рядом с захоронениями конца III века, это так называемые типы «Любсов» и «Лёйна-Хасслебен» соответственно. Однако нельзя считать, будто элита существовала только в эти сравнительно небольшие периоды; а ведь озвучивались предположения о том, что появление подобных могил отмечает времена социальной нестабильности, когда выдвигались новые претензии на социальное господство – теми, кто руководил похоронами, разумеется, а не теми, кого закапывали в землю. Тем не менее в перспективе изменения в ритуале захоронения, вне всякого сомнения, говорят о возросшей роли обретенного этими людьми богатства. Вплоть до последних нескольких веков до н. э. германские похоронные обычаи выглядят практически идентичными, общими для всех: немного глиняной посуды ручной работы и немногочисленные личные вещи покойного – вот все, что в тот период отправлялось на погребальный огонь вместе с телом. Однако во времена Римской империи не только появляются скопления богатых княжеских захоронений, но и в отдельных, более скромных могилах встречаются ценные загробные дары, которые нередко включают в себя оружие для мужчин и драгоценности для женщин. Установление могильных камней – еще один способ заявить о высоком статусе усопшего в некоторых регионах германской Европы, в особенности в Польше, где группы захоронений отмечались грудами камней, образовавшими курганы, а отдельные могилы – возведением вертикальных камней – стел. Кладбище Вельбарк близ Одри, к примеру, состоит из пятисот индивидуальных захоронений и двадцати девяти курганов[62].
Найденные археологами поселения тоже в целом отражают происходившие в обществе германцев перемены. Самая верхушка общества – цари и царевичи алеманнов – получали лучшие жилища, которые подверглись тщательному исследованию. Одно из самых известных таких поселений – Рундер-Берг в Урахе, на территории, некогда принадлежавшей алеманнам. Здесь в конце III века или начале IV на возвышенности прочным деревянным частоколом была обнесена территория 70 х 50 метров. Внутри располагались деревянные же строения, включая и помещение, подозрительно напоминающее большой зал, где устраивались пиры для воинов, слуг или других царей. На склонах холма располагались другие здания, включая мастерские ремесленников и, возможно, дома для других слуг. Здесь обнаружилось куда больше римской посуды и прочих дорогих и качественных предметов, нежели при раскопках древних ферм. Таких крупных жилых комплексов на территории Древней Германии в доримский период не существовало вовсе, однако в первые века н. э. они стали встречаться довольно часто. Разумеется, не все поместья были такими роскошными, однако даже в фермерских поселениях, в том же Феддерсен-Вирде, во II веке имелся дом, выделявшийся на фоне других. Он превосходил их размером и был обнесен деревянным частоколом. Археологи сделали вывод, что в нем жил глава поселения. Похожие крупные постройки были обнаружены и в некоторых других местах, например в Хальдерне (неподалеку от Везеля) и Каблове (в 30 километрах к юго-востоку от Берлина), и все они датируются римским периодом. Лучше всего изучены поселения на территориях алеманнов, и в них были обнаружены шестьдесят две элитные постройки того или иного плана, датируемые IV и V веками. В десяти из них проводились раскопки. Схожие постройки встречаются на всей территории германской Европы, в том числе и в восточных ее регионах, вплоть до владений готов к северу от Черного моря, хотя большинство этих поселений изучено куда хуже[63].
Таким образом, общая картина вполне ясна. Поселения и извлеченные из могил предметы демонстрируют очевидное, нарастающее социальное неравенство, и не нужно долго думать, чтобы понять, что возможность распоряжаться собственным войском позволила царям и их слугам получить доступ к большей части новых источников обогащения. В результате к IV веку н. э. мы получаем мир древних германцев, для которого характерна более развитая социальная стратификация по сравнению с таковой в I веке; к тому же, по крайней мере в отдельных регионах, отмечается более структурированная и стабильная политическая организация общества. На самом деле вполне естественно, что эти два феномена появляются одновременно. Уже давно, когда закономерности развития организации человеческого общества стали изучаться в компаративном ключе, было установлено, что разделение общества на классы и появление государственности всегда идут рука об руку. Однако как далеко зашло это неравенство к IV веку и как следует оценивать новые политические образования, преобладающие в этом регионе? Были ли они «государствами» в полном смысле этого слова?
У изучения и категоризации человеческих обществ и их политических систем давняя история, которая уходит корнями еще во времена Аристотеля. В современную эпоху это направление получило новый импульс к развитию благодаря значимости, которую Маркс и Энгельс приписывали государству и его эволюции. В классической марксистской теории государство, с одной стороны, является совокупностью социальных, политических и законодательных структур, с другой – выступает в роли их «защитника». Оно предоставляет доминирующему классу контроль над основными способами обогащения в ту или иную эпоху, и не важно, говорим ли мы о земле в Древнем мире, о тяжелой промышленности в недавнем прошлом или компьютерных разработках в современности. Эта суровая реальность всегда скрывается под тем или иным идеологическим занавесом, ведь элита, разумеется, утверждает, будто государство несет благо всем без исключения. Однако, если присмотреться к его деятельности, по теории марксистов станет ясно, что оно неизменно поддерживает статус и положение привилегированного меньшинства. Последние работы в этой области наконец вышли за рамки упрощенных марксистских построений; они опираются на более комплексные исследования, посвященные анализу ранних форм государственности с точки зрения размера и сложности встречающихся в нем структур, которые обозначаются такими понятиями, как «племя», «простое вождество» и «раннее государство». Однако мы не станем пытаться здесь как можно точнее определить положение алеманнов и готских союзов IV века на этой шкале. Будет лучше, заимствовав из этих трудов общую концепцию, обозначить четыре ключевых параметра, призванные охарактеризовать работу любой политической системы[64].
Первым параметром, разумеется, является масштаб. Какова численность населения, объединившегося в пределах рассматриваемой политической системы? Во-вторых, какого рода правительственные структуры в ней функционируют? Есть ли бюрократы или государственные чиновники и какого рода властью они наделены, какие технологии используют? Третий параметр – уровень экономического развития и соответствующая ему социальная стратификация. Принимаете вы марксистские объяснения тех или иных положений или нет, в любом случае определенные типы политических систем ассоциируются с определенными типами экономической организации. Крупные, централизованные государственные системы не могут существовать при экономике, не производящей избытков продукции, которые могли бы пойти на оплату деятельности чиновников, не принимающих непосредственного участия в сельскохозяйственном производстве[65]. И наконец, в-четвертых, необходимо внимательно изучить политические отношения в обществе. Каким образом избираются правители и легитимируется их власть? С помощью каких механизмов они создают и поддерживают свой авторитет? Прежде всего нас интересует соотношение между силой и согласием, до какой степени правители обязаны своим подданным, что именно они должны дать им в обмен на экономическую и иную поддержку, которую сами получают от народа[66].
Изучать Древнюю Германию IV–V веков в соответствии с этими критериями отнюдь не просто, учитывая природу имеющихся у нас свидетельств. Как правило, их немного, да и те относятся преимущественно к обществам алеманнов и готовтервингов, тем самым еще больше усложняя исследовательские процедуры – не вполне ясно, до какой степени эти данные применимы к другим случаям. Однако по крайней мере эти политические образования предоставляют нам точные пределы возможного развития германских обществ IV века, и между ними имеется известное сходство, поэтому (с учетом имеющихся обрывочных сведений о других группах) будет вполне разумно строить более общие заключения, основываясь на их достижениях и способах функционирования.
Власть и царь
Сведения о масштабе новых образований оставляют желать лучшего. Однако и алеманны, и готы обладали военным потенциалом – количество молодых людей, способных сражаться, превышало 10 тысяч человек. Аммиан пишет, что перед битвой при Страсбурге Хнодомар собрал армию из 35 тысяч человек. Не все из них были алеманнами, к тому же к сообщениям римлян о численности варварских войск следует относиться с осторожностью, даже если они, как в данном случае, не кажутся преувеличением. Но римское войско насчитывало 12 тысяч человек, и эта цифра, вызывающая меньше сомнений, подтверждает, что армия Хнодомара превосходила вражескую больше чем на 10 тысяч воинов. Римляне в IV веке по-прежнему превосходили германцев в тактике, не в последнюю очередь потому, что, как мы видели, лишь очень немногие варвары носили броню, так что Хнодомар вряд ли бы принял бой, не имея перевеса хотя бы в численности. Данные о численности готов более туманны, однако по крайней мере в трех случаях союз племен направлял отряды из 3 тысяч человек для участия в войне Рима с Персией, и, скорее всего, это количество не составляло даже трети от общего числа их воинов. Военная мощь тервингов была столь велика, что они три года уклонялись от агрессивных притязаний императора Валента, с 367 по 369 год, и я склонен считать, что Аммиан полагает, что даже после раскола союза большая его часть по-прежнему могла выставить по меньшей мере 10 тысяч воинов на поле боя. Все это заставляет нас предположить, что как алеманны, так и тервинги могли с легкостью собрать свыше 10 тысяч воинов или, что также вполне вероятно, даже больше, вплоть до 20. Оценки общей численности этих союзов зависят, разумеется, от того, сколько процентов входящих в них людей могли бы носить оружие. Минимальное соотношение, которое обычно применяется при подсчетах, – примерно четыре или пять к одному, и тогда общее число представителей каждого из данных народов составляет от 50 до 100 тысяч человек. Однако я считаю, что такой метод подсчета существенно занижает реальную численность групп, входивших в эти племенные союзы[67].
К тому же авторы дошедших до нас римских источников не потрудились составить описание государственных структур, благодаря которым функционировали варварские союзы. Поэтому в данном исследовании нам приходится судить о правоспособности правительства древних германцев преимущественно по административным актам, появлявшимся в рамках соответствующей политической системы. В отдельных сферах цари алеманнов и тервингов демонстрируют удивительную правоспособность. Нам точно известно, что, по крайней мере, перед столкновением с военной мощью Рима и те и другие обладали понятием «своей земли». Когда появлялась возможность избежать интервенции римлян на свои территории, цари алеманнов и тервингов встречались с императорами на судах в середине Рейна и Дуная соответственно; это говорит о том, что реки были вполне четкой границей между ними и империей. Имелись ли столь же ясные границы между ними и другими германскими племенами – как в их собственном восприятии, так и на деле, – доподлинно неизвестно, однако вполне вероятно. К примеру, река Днестр, похоже, служила границей между тервингами и соседним племенем готов, грейтунгами, а между алеманнами и их соседями, бургундами, царила вражда, поэтому разумно будет предположить, что обе стороны (об этом же пишет и Аммиан) установили четкую границу между своей землей и чужой. По его словам, они использовали весьма удобные римские межевые знаки, установленные ранее, чтобы определять пределы собственных территорий[68].
В этих пределах – по крайней мере, в ответ на давление со стороны Рима – германские предводители иногда действовали весьма смело и предприимчиво, вплоть до попыток установить культурное единообразие на своей территории, тем самым объединив население. Культурная гегемония Рима на Дунае в IV веке, к примеру, постепенно приняла новую форму, выражавшуюся в распространении христианства на соседние земли. Известны по меньшей мере два случая, когда правители тервингов, имея возможность противодействовать новой вере, с решимостью брались за дело. В 348 году римские миссионеры были изгнаны с их земель, а во второй раз, уже после 369 года, христиане из числа самих готов подвергались гонениям и преследованиям, вплоть до казни, в результате чего появилось немало мучеников. Из этого следует вывод, что по крайней мере у готских тервингов понятие собственных земель имело и культурный контекст, а не только экономический и военный[69].
Более того, действия различных царей и вождей показывают, что у германцев имелись и отдельные институты власти. На мой взгляд, особенно впечатляют доказательства введения понятия воинской повинности у тервингов. Как мы видели, трижды союз посылал военные отряды на войну Персии с Римом. Составлявшие их мужчины получали определенную компенсацию со стороны Римской империи, однако в общем и целом получается, что подобного рода служба – на чужой границе в полутора тысячах километров от родины, стоит отметить, – была навязана Римом и вызывала всеобщее недовольство. Оказание военной помощи, несомненно, было одним из условий статуса клиента (то есть свободного государства, находящегося под покровительством Римской империи), которым предводители готов тяготились и от которого стремились избавиться при первой же возможности. Алеманны также время от времени присылали людей на военную службу в Римской империи, однако об этом нам мало что известно, к тому же им не приходилось передвигаться на такие огромные расстояния. Что интересно, слово, употребляющееся в германских языках в значении «нести военную службу», было заимствовано из латинского языка, что, возможно, означает, что выдвинутое империей требование по необходимости предоставлять боеспособные отряды в итоге способствовало появлению понятия обязательной воинской службы в тех германских племенах, которые отправляли солдат в Рим[70].
Помимо этого, предводители алеманнов и тервингов также обладали определенными правами на экономическую поддержку – предположительно, в форме налогообложения сельскохозяйственного производства. Это было необходимо для содержания военных отрядов. К IV веку ни один царь с постоянным войском, состоявшим из профессиональных солдат, не мог позволить себе полагаться на добровольные пожертвования запасов продовольствия на их содержание, как, по всей видимости, было в I веке. Количество импортируемых из Римской империи товаров, и в первую очередь амфоры с вином, обнаруженные при раскопках элитных поместий IV века, также говорит о том, что цари удерживали часть продукции для того, чтобы обменять ее на римскую для собственного потребления. Однако вполне вероятно, что у германских предводителей был как минимум еще один способ обогащения. Как мы видели, торговля с Римской империей стала более оживленной в IV веке и превратилась в важную часть германской экономики. Властители Римской империи устанавливали таможенные взносы на ввозимые товары, и вполне вероятно, что схожим образом поступали и предводители германцев. У нас нет прямых доказательств того, что такие обычаи имелись у алеманнов и тервингов; однако прочие германские цари, чьи земли располагались близ римских границ, ввели пошлины уже в I веке, и богатство царя маркоманов Ванния напрямую связывали с присутствием при его дворе римских купцов, поэтому вряд ли правители IV века упустили бы такую возможность. В противном случае было бы сложно объяснить, почему торговля и ее регулирование заняли столь важное место в числе обсуждаемых вопросов на дипломатических переговорах вождей тервингов и представителей Восточной Римской империи. К тому же уже упоминавшийся Хнодомар откуда-то взял средства на то, чтобы помимо своих войск, собранных близ Страсбурга, оплатить еще и услуги наемников[71].
В обоих этих союзах также правитель обладал правом обязать хотя бы часть населения трудиться. Цари алеманнов могли силой собрать рабочих для строительства укрепленных поместий вроде Рундер-Берг, и иногда были вынуждены поставлять их римлянам в соответствии с заключенными соглашениями, как, например, в мирном договоре, навязанном им императором Юлианом после битвы при Страсбурге. Те же обычаи были в ходу у тервингов – тогдашний правитель попытался остановить нападение гуннов, возведя ряд укреплений (которые Аммиан называет «стеной» Атанариха). Скорее всего, это была попытка обновить старые римские укрепления вдоль реки Олт, которая закончилась ничем. Однако сам факт, что такой проект имел шансы воплотиться в жизнь, показывает, что царь имел право собрать рабочих для строительства, и о том же свидетельствуют результаты раскопок в домах знати, похожих на Рундер-Берг, в различных готских царствах[72]. На территории Рима (и позже в западных землях бывшей империи, оказавшихся под властью германцев) трудовой повинностью, как правило, облагались только низшие слои населения – то есть те, кто не был занят на военной службе. У нас нет сведений о том, что таким же был обычай и среди алеманнов и вестготов, однако это более чем вероятно.
Получается, что в отдельных сферах предводители германцев обладали хорошо развитой системой прав. Они могли обязать – возможно, определенные категории жителей своих земель – нести военную службу, выполнять различные работы и отдавать часть сельскохозяйственной продукции. Не приходится сомневаться (хоть ни один из источников не сообщает об этом напрямую, поскольку их авторы не уделяли внимания данному вопросу) также и в том, что они обладали правом улаживать споры юридического характера – по крайней мере, если таковые случались между более-менее влиятельными их подданными. Все вожди в различных исторических контекстах наделялись такой властью, поэтому смело можно предположить, что предводители тервингов и алеманнов также ею пользовались[73]. Что же до того, как именно эти права осуществлялись… Следует сказать, что ни у одного из союзов – по крайней мере, насколько нам известно – не было развитой бюрократии. Источники не упоминают о бюрократах в германском мире IV века, хотя у царей, несомненно, были чиновники, и права, вероятно, осуществлялись практически без посредничества грамотных людей. Средневековым германцам были знакомы различные виды письменности. Употреблялись руны, отдельные представители племен могли объясниться на латыни; к тому же в середине IV века активно развивалась письменная разновидность готского языка (первая из всех германских) – для нужд христианских проповедников. Однако нет свидетельств тому, что хотя бы один из этих алфавитов использовался для учета доходов, получаемых путем сельскохозяйственного производства.
Необходимо подчеркнуть: далеко не обязательно это все означает, что подсчеты велись от случая к случаю и не слишком тщательно. О том, что они вполне могли осуществляться регулярно, но бесписьменно, свидетельствуют ранние источники из англосаксонской Англии. Здесь в VII веке сельскохозяйственная экономика управлялась с помощью разделения того или иного района на два крупных преуспевающих региона, каждый из которых должен был ежегодно отдавать определенную часть своей продукции в виде излишков продовольствия. Такая система требовала немалых усилий в первой стадии, при разделе земли; нужно было выбрать места для хранения товаров и ввести систему учета поставок, однако она не требовала постоянного присутствия многочисленных чиновников – как и письменных форм регистрации поступлений. Это прямой способ сбора налогов, используемый при сельскохозяйственной экономике, который встречается в самых разных исторических контекстах, и нет никаких причин полагать, что он был недоступен вестготам и алеманнам[74]. Земли алеманнов, как мы уже видели, были разделены на округа (нем. Gaue), которые могли выполнять в том числе фискальные функции. В случае с алеманнами, разумеется, мы имеем дело не с одним царем, а с несколькими, многие из которых управляли собственными кантонами. Система сбора налогов в таких условиях, вероятно, устанавливалась в первую очередь менее влиятельными правителями, поскольку они, скорее всего, часть доходов должны были отдавать верховному правителю.
В период раннего Средневековья в англосаксонской Англии и многих других регионах система налогообложения была нацелена прежде всего на получение продуктов питания, а не иных объектов товарооборота, и явление, получившее название «объезд королевских территорий», стало в те времена ключевым условием ее работы. Это означало, что, вместо того чтобы управлять двором, состоявшим из круга приближенных, царь, его советники и войско почти постоянно путешествовали по стране, останавливаясь в тех или иных резиденциях. Эти же поместья были центрами сбора налогов, и таким образом решались самые серьезные проблемы, связанные с логистикой, ведь еду и зерно перевозить куда сложнее, чем, скажем, легкие и занимающие мало места монеты. Не горы продуктов ехали к царю – царь ехал к ним сам. У нас нет доказательств того, что подобные объезды были в ходу в германском обществе IV века, однако, поскольку сбор налогов в виде продуктов питания куда легче осуществлять именно таким образом, подобная вероятность существует априори. Вероятно, в результате «кочевого» образа жизни варварских правителей римляне просто не могли знать заранее, в каком месте и в какое время будет находиться нужный им алеманнский царь. К тому же при такой системе, несомненно, по всему региону должны были появиться многочисленные царские резиденции, и это, в свою очередь, объясняет, почему в землях алеманнов найдено так много элитных построек. Их территории делились на двадцать пять кантонов, что подразумевает наличие двадцати пяти царей, однако археологи уже обнаружили шестьдесят два элитных поместья, и все они построены на холмах и снабжены необходимыми укреплениями, а в письменных источниках упоминаются и другие (пока не найденные), в низинах[75]