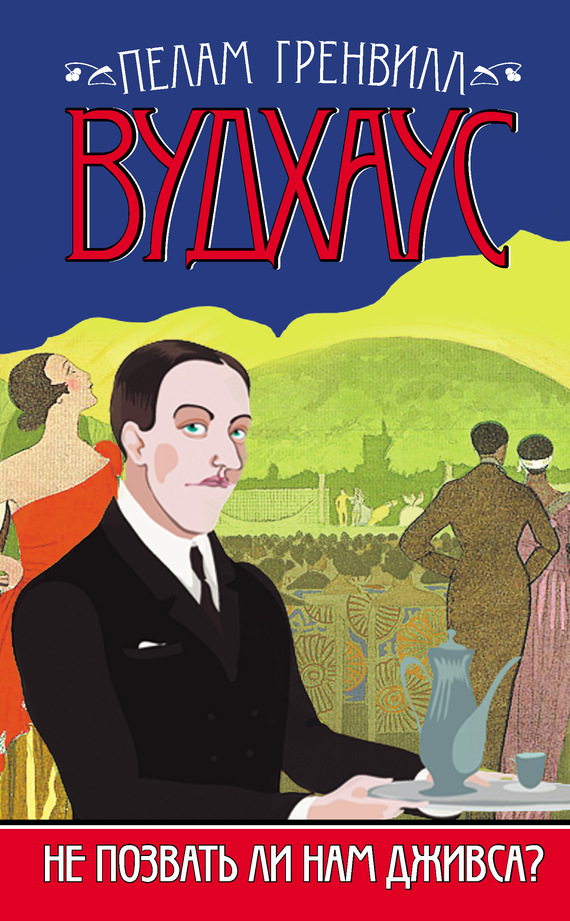Святыня Лихэйн Деннис

Часть первая
Утешение в скорби
1
Маленький совет. Выслеживая кого-то в моем районе, не надевайте красного.
В первый день, когда мы с Энджи заприметили у нас на хвосте этого коротышку-толстячка, на нем было черное пальто, а к серому костюму он надел красную рубашку. Костюм его был двубортным, итальянским и на несколько сот долларов дороже, чем носили в моем районе. Пальто было кашемировым. Полагаю, что и в моем окружении люди тоже могли бы позволить себе носить кашемир, не трать они так много на изоляционную ленту, которой прикручивают выхлопные трубы своих допотопных «шевроле» 82-го года выпуска; после таких непомерных расходов того, что остается у них, едва-едва хватает на поездку в Арубу.
На второй день толстячок сменил красную рубашку на более спокойную белую, снял кашемировое пальто и итальянский костюм, но все равно бросался в глаза наподобие Майкла Джексона в детском саду — выделяясь уже тем, что на нем была шляпа.
В моем районе, как и вообще в центральном Бостоне, где я кручусь, обитатели, если и носят что на голове, то бейсбольную шапочку, ну, может быть, изредка твидовую кепку. На нашем же приятеле Недотепе (как мы его прозвали) красовался котелок, — котелок, поймите меня правильно, весьма элегантный, но все же котелок!
— Похоже, нездешний, — сказала Энджи.
Я выглянул из окна «Придорожной кофейни». Голова Недотепы дернулась, и он поспешил наклониться, делая вид, что завязывает шнурок на ботинке.
— Нездешний, — подтвердил я. — Интересно, откуда прибыл? Может быть, из Франции?
Хмуро взглянув на меня, она густо смазала плавленым сыром рогалик, так сильно нашпигованный луком, что даже при взгляде на него начинали слезиться глаза.
— Да нет, тупица. Он гость из будущего. Ты разве не видел старую серию «Звездного пути», в которой Кирк и Спок приземляются в тридцатые годы и смотрятся там совершенными чудиками?
— Ненавижу «Звездный путь».
— Но понял, о чем я говорю.
Я кивнул, потом зевнул. Недотепа разглядывал телефонную антенну с таким видом, словно впервые ее увидел. Возможно, Энджи и права.
— Как это ты можешь не любить «Звездный путь»! — удивилась Энджи.
— Легко. Смотрю, злюсь и выключаю.
— И даже «Поколение будущего»?
— А это что? — спросил я.
— Когда ты родился, — сказала она, — держу пари, твой папаша поднес тебя, новорожденного, матери со словами: «Ты только погляди, лапонька, какого замечательного, ворчливого старикашку ты родила!»
— Чего ты в бутылку лезешь? — недоуменно спросил я.
* * *
На третий день мы решили немного позабавиться. Выйдя утром из дома, мы пошли в разные стороны: Энджи направилась на север, я же — на юг.
Недотепа пошел следом за ней. Однако за мной последовал Шатун.
Шатуна я раньше ни разу не видел и не увидел бы и на сей раз, если бы Недотепа не раскрыл мне глаза, дав повод быть настороже.
Перед выходом из дома я порылся в ящике с летним барахлом и извлек оттуда темные очки, которыми пользуюсь, когда погода благоприятствует настолько, что можно совершать велосипедные прогулки. К левой дужке очков было прицеплено зеркальце, которое по желанию поднималось и опускалось, открывая обзор сзади. Спецсредство не такое крутое, как те, которыми Кью снабжал Бонда, но сойдет; к тому же заполучить его можно и не прибегая к флирту с мисс Манипенни.
А вдобавок, с третьим глазом на затылке, я мог чувствовать свое превосходство над всеми в округе, потому что ничем подобным никто здесь не располагал.
Шатуна я заметил, когда внезапно остановился возле входа в «Пирожковую», чтобы выпить утреннюю чашечку кофе. Уставившись в дверь «Пирожковой», словно бы изучая меню, я нацелил мое зеркальце и стал вертеть головой, пока не увидел на другой стороне улицы возле аптеки Пэта Джея, мужика, похожего на агента похоронного бюро. Он стоял, скрестив руки на цыплячьей груди, и, не таясь, разглядывал мой затылок. По впалым щекам его, как реки, струились борозды морщин, лоб был низенький, с огромными залысинами по бокам.
Войдя в «Пирожковую» и прищелкнув свое зеркальце к дужке, я заказал кофе.
— Что, внезапно глаза стали сдавать, а, Патрик?
Я взглянул на Джонни Дигана. Тот подливал сливки в мою чашку.
— Чего?
— Я про очки, — пояснил он. — Ведь сейчас март, а, считай, с Благодарения солнце и не показывалось. Так глаза сдавать стали или просто пижонишь и хипповать пробуешь?
— Наверно, хипповать пробую, Джонни.
Он двинул ко мне через стойку чашечку кофе.
— А не получается! — обронил он.
* * *
Выйдя на улицу, я разглядел через очки, как Шатун стряхивает пушинку с колена, затем наклоняется, чтобы поправить шнурки ботинок, точь-в-точь как это делал накануне Недотепа.
Я снял очки, думая о Джонни Дигане. Бонд был, конечно, крутым парнем, однако посещать «Пирожковую» ему не доводилось. Ладно, к черту, брось пробный шар и выпей где-нибудь поблизости мартини с водкой — все равно голова кружится, а зад твой засветился в витрине.
Я перешел улицу, в то время как Шатун был поглощен своими шнурками.
— Привет! — сказал я.
Он выпрямился и стал озираться с таким видом, словно его окликнули с другого угла.
— Привет! — повторил я, протянув ему руку для рукопожатия.
Он поглядел на мою руку и вновь устремил взгляд куда-то вдаль.
— Bay, — произнес я, — выслеживать ты не мастер, зато вежливость из тебя так и прет!
Голова его стала поворачиваться, медленно, как земля на своей оси, пока его серые, цвета темной гальки глаза не встретились с моими. Чтобы поглядеть на меня, ему пришлось несколько наклонить голову, и тень от его обтянутого кожей черепа, скользнув по моему лицу, накрыла темным облачком мои плечи. А ростом я не подкачал.
— А мы разве знакомы, сэр? — Голос его прозвучал так, словно он был уже на пути к себе назад, в преисподнюю.
— Разумеется, знакомы, — ответил я. — Ты Шатун, а где другой из твоего помета?
— Шутка не такая удачная, как вы полагаете, сэр.
Я поднес к губам кофейную чашечку.
— Подожди, пока я кофейку глотну, Шатун. Через пятнадцать минут ты меня не узнаешь.
Он послал мне вниз улыбку, и борозды на его щеках превратились в ущелья.
— Напрасно вы так выставляетесь, мистер Кензи.
— Ты это о чем, Шатун?
Подъемный кран вбил цементную сваю мне в позвоночник, и что-то маленькое, кусачее вцепилось острыми зубами мне в шею с правой стороны, Шатун шатнулся вон из поля моего зрения, а тротуар, закачавшись, пополз вверх, к моему уху.
— Классные очочки, мистер Кензи! — проговорил Недотепа, в то время как его одутловатое личико, как воздушный шарик, парило возле меня. — Изящная деталь гардероба.
— В стиле хай-тек, — добавил Шатун.
И кто-то рассмеялся, а кто-то запустил стартер, и я почувствовал себя дурак дураком. Тут и Кью изумился бы.
* * *
— Голова болит, — сказала Энджи.
Она сидела возле меня на черном кожаном диване, и руки ее, как и у меня, были скручены за спиной.
— Ну а вы, мистер Кензи? — осведомился голос. — Как ваша голова?
— Под впечатлением, — отозвался я. — Чтобы не сказать, идет кругом.
Я повернул голову в направлении голоса, но глаза мне ослепило лишь пятно желтого цвета, окаймленное мягко-коричневой тенью. Я заморгал, и комната слегка качнулась.
— Простите за наркотики, — сказал голос. — Если б можно было сделать это иначе…
— Не извиняйтесь, сэр, — проговорил другой голос, и я узнал Шатуна. — Сделать это иначе было невозможно.
— Джулиан, дай, пожалуйста, аспирину госпоже Дженнаро и мистеру Кензи, — вздохнул голос за ослепительным пятном желтого цвета, — и, будь добр, развяжи их.
— А если они начнут двигаться? — поинтересовался голос Недотепы.
— Проследите, чтоб не начали, мистер Клифтон.
— Да, сэр. С удовольствием.
* * *
— Меня зовут Тревор Стоун, — сказал человек, прятавшийся за пятном света. — Это вам что-нибудь говорит?
Я потер красные следы на запястьях.
Энджи тоже потерла свои красные следы и хватанула несколько глотков кислорода. Помещение, как я полагал, было кабинетом Тревора Стоуна.
— Я задал вам вопрос.
Я взглянул на пятно света.
— Задали. С чем вас и поздравляю. — Я повернулся к Энджи: — Как ты?
— Запястья ноют, и голова тоже…
— А в остальном?
— Настроение в целом скверное.
Я опять устремил взгляд на пятно света.
— У нас скверное настроение.
— Надо думать.
— Твою мать!
— Остроумное замечание, — послышалось из-за пятна приглушенного света, и Недотепа с Шатуном негромко прыснули.
— Остроумное замечание, — эхом откликнулся Недотепа.
— Мистер Кензи, госпожа Дженнаро, — проговорил Тревор Стоун, — я даю вам слово, что не хочу причинять вам неприятности. Возможно, мне придется вам их причинить, но это будет против моего желания. Мне нужна ваша помощь.
— Да бросьте вы! — Я поднялся на неверных ногах, Энджи тоже поднялась и встала рядом.
— Если один из ваших остолопов подвез бы нас домой… — начала Энджи.
Я схватился за ее руку, так как меня качнуло к дивану, а комната немного накренилась вправо. Шатун ткнул указательным пальцем меня в грудь так легко, что я едва почувствовал касание, и мы с Энджи упали обратно на диван.
Еще пять минут, сказал я своим ногам, и мы сделаем новую попытку.
— Мистер Кензи, — предупредил Тревор Стоун, — вы можете опять пробовать встать, а мы можем легким толчком отправлять вас обратно на диван, по моим подсчетам, еще примерно в течение минут тридцати, так что расслабьтесь.
— Похищение людей, — сказала Энджи, — насильственное задержание… Вам знакомы эти термины, мистер Стоун?
— Да…
— Хорошо. Вы осознаете, что и то и другое является преступлением против федеральных законов, влекущим за собой суровое наказание?
— М-м… — промычал Тревор Стоун. — Госпожа Дженнаро и вы, мистер Кензи, хорошо ли вы осведомлены о том, что смертны?
— У нас были случаи, когда можно было это заподозрить, — сказала Энджи.
— Это мне известно, — сказал он.
Подняв брови, Энджи взглянула на меня. Я поднял брови ей в ответ.
— Но речь шла лишь о случаях и, как вы выразились, подозрениях. Отдельные разрозненные догадки. Однако сейчас вы оба живы, молоды и имеете веские основания считать, что будете топтать эту землю еще лет тридцать-сорок. Мир с его законами и установками, с его обычаями и непреложными карами за преступления против федерального законодательства имеет над вами власть, в то время как я ныне ему неподвластен.
— Это призрак, — шепнул я, и Энджи толкнула меня локтем под ребро.
— Совершенно верно, мистер Кензи, — сказал Стоун, — совершенно верно!
Желтое пятно света переместилось, метнувшись прочь от меня, и я заморгал в сменившей его темноте. Белая точка в ее середине, сделав кульбит, превратилась в оранжевые круги побольше, подобно трассирующим пулям, они замелькали перед моими глазами. Затем зрение мое прояснилось, и я увидел Тревора Стоуна.
Верхняя часть его лица была словно вытесана из светлого дуба — нависшие брови бросали тень на жесткие зеленые глаза, орлиный нос и выпиравшие сероватые скулы.
Однако под скулами плоть резко шла на убыль. Челюсть с двух сторон будто смялась, а кости, расплавившись, перетекли в рот. Подбородок, исхудавший до состояния желвака, глядел вниз, болтаясь в резиновой кожной складке. Рот же вообще потерял форму, на его месте плавало что-то амебообразное с белыми высохшими губами.
Лет ему можно было дать сколько угодно — от сорока до семидесяти.
Горло его покрывали нашлепки рыжеватых пластырей, казавшихся влажными. Поднявшись из-за массивного письменного стола, он оперся на трость красного дерева с золотым набалдашником в виде головы дракона. Серые в шотландскую клетку брюки пузырились вокруг тощих ног, но синяя хлопковая рубашка и черный льняной пиджак облегали массивные плечи и грудь плотно, как вторая кожа, и словно сроднились с ними. Уцепившаяся за трость рука, казалось, была способна единым махом вбивать в пыль и плющить мячи для гольфа.
Навалившись на подрагивающую под его тяжестью трость, он глядел на нас.
— Вот, полюбуйтесь на меня хорошенько, — сказал Тревор Стоун, — а потом позвольте я расскажу вам о своей потере.
2
— В прошлом году, — сказал Тревор Стоун, — моя жена возвращалась после вечера в Сомерсет-клубе, что на Бикон-Хилле. Вам он знаком?
— Мы там оттягиваемся, — сказала Энджи.
— Да. В общем, у нее сломалась машина. Она позвонила мне в офис в центре — я как раз кончал работу, — чтобы я ее подвез. Забавно.
— Что именно? — осведомился я.
Он заморгал.
— Просто я вспомнил, как редко мы себе это позволяли. Проехаться вдвоем. Из-за моей всегдашней занятости совместные поездки превратились в нечто исключительное. Казалось бы, что может быть обыденнее — посидеть рядом в машине в течение двадцати минут, а нам это удавалось не больше пяти-шести раз в году.
— И что же произошло? — спросила Энджи.
Он откашлялся.
— На спуске с Тобин-бридж нас стала подрезать и теснить с дороги какая-то машина. Автомобильное пиратство — так это, кажется, называется. Автомобиль у меня был новый, незадолго перед тем купленный «ягуар-ХКЕ», и я не собирался дарить его шайке хулиганов, убежденных, что стоит только захотеть — и все будет как им заблагорассудится. Вот я и…
С минуту он смотрел в окно, словно вновь слыша скрежет металла и вой двигателей, снова вдыхая тот вечерний воздух.
— Машина моя грохнулась на бок, ударившись со стороны руля. Жена моя Инес кричала без умолку. Тогда я этого не знал, но ей сильно повредило позвоночник. Эти сволочи разозлились — ведь я испортил машину, которую они, вероятно, уже считали своей. Пока я боролся с беспамятством, они застрелили Инес. Они все стреляли в машину и стреляли, и три пули угодили в меня. Как ни странно, ни одна из них серьезно меня не ранила, хотя одной мне и размозжило челюсть. Трое этих бандитов немного повозились, пытаясь поджечь машину и не догадываясь проткнуть у нее бензобак. Потом им это надоело, и они отчалили. А я остался лежать с тремя пулями в теле и переломанными костями рядом с трупом жены.
Покинув кабинет в сопровождении Шатуна и Недотепы, мы неверной походкой направились в спортивный зал Тревора Стоуна, или же гостиную джентльмена, или уж не знаю, как и назвать помещение величиной с ангар реактивного самолета с вишневого дерева столом для игры в бильярд и снукер, с мишенью для «дартс» на подставке, а также с покерным столиком и имитацией зеленого газона вокруг лунки для гольфа. Вдоль восточной стены помещения тянулась стойка бара красного дерева с висящими над ней стаканами — количества их хватило бы целому полчищу гостей на месяц гулянки.
Тревор Стоун плеснул себе в стакан на два пальца эля и качнул бутылкой сначала в направлении моего стакана, а затем в направлении стакана Энджи — жест, на который мы оба ответили отказом.
— Мужчин этих, а строго говоря, совсем мальчишек, которые совершили это преступление, быстренько судили. Им дали пожизненное без права помилования, которое они не так давно начали отбывать в Норфолке, и поделом им, как я думаю. Мы с дочерью похоронили Инес, и все пошло своим чередом, если не считать нашего горя.
— Маленькое «но», — сказала Энджи.
— Извлекая пулю из моей челюсти, доктора обнаружили у меня признаки рака. В ходе дальнейших анализов выяснилось, что рак уже пошел по лимфатическим узлам. Сейчас они копаются в моем кишечнике — толстом и тонком. Вскоре, как я уверен, им уже и резать будет нечего.
— Какой срок они вам отвели? — спросил я.
— Шесть месяцев. Так они считают. А тело мое говорит мне, что осталось месяцев пять. Так или иначе, будущей осени мне уже не увидеть.
Крутанувшись на табурете, он опять устремил взгляд в окно на морской пейзаж и другой берег залива. Я посмотрел туда же, куда смотрел и он, и увидел скалистый фьорд. Фьорд разветвлялся, вдаваясь в сушу наподобие клешней омара, и, вглядываясь в даль, я заметил знакомый маяк. Дом Тревора Стоуна стоял посередине мыса Марблхед — утесистом выступе северного бостонского побережья, где дома были намного дешевле, чем в других здешних местах.
— Горе, — продолжал он, — штука прожорливая: все грызет и грызет, во сне и наяву, поддавайся ты ему или нет — безразлично. Точь-в-точь раковая опухоль. Однажды ты просыпаешься поутру и ощущаешь, что все твои прочие чувства — радости, зависти, жадности, даже любви — поглощены им. Остаешься только ты наедине со своей утратой — голый, уязвимый, открытый ему. И тут уж горе — полновластный хозяин.
Кубики льда в его стакане задребезжали, и он опустил на них взгляд.
— С этим можно бороться, — сказала Энджи.
Повернувшись к ней, он улыбнулся своим амебообразным ртом. Белые губы, перерезавшие обезображенную, с раздробленными костями челюсть, дрогнули, и улыбка тут же исчезла.
— Горе знакомо и вам, — мягко сказал он. — Знаю. Вы потеряли мужа. Пять месяцев прошло, не так ли?
— Бывшего мужа, — потупившись, уточнила Энджи. — Верно.
Я потянулся к ее руке, но она, покачав головой, положила руку на колени.
— Я читал все газетные репортажи, — продолжал он. — Даже в этой кошмарной «Уголовной правде». Вы вдвоем вступили в схватку со злом. И победили.
— Невольно, — сказал я и откашлялся. — Можете мне поверить.
— Возможно, — отозвался он, скрестив тяжелый взгляд своих зеленых глаз с моим. — Возможно, вы двое сделали это невольно. Но подумать только, сколько потенциальных жертв вы спасли от этих чудовищ.
— Мистер Стоун, — проговорила Энджи, — при всем моем к вам уважении должна просить не говорить с нами об этом.
— Почему же?
Она вздернула подбородок.
— Потому что вы ничегошеньки не знаете, вот и говорите глупости.
Легонько погладив набалдашник своей трости, он наклонился, другой рукой коснувшись колена:
— Вы правы. Простите меня.
И вдруг она улыбнулась ему улыбкой, какой я не видел на ее лице со дня смерти Фила, такой улыбки она с тех пор не дарила никому. Улыбнулась так, будто были они с Тревором Стоуном старыми друзьями, жившими где-то, куда не достигает ни свет, ни людская доброта.
* * *
— Я одинока, — за месяц до того сказала мне Энджи.
— Неправда.
Она лежала на пружинном матрасе с покрывалом, который мы разложили в моей гостиной. Собственная ее постель, как и вообще почти все ее вещи, оставалась у нее дома на Хоуис-стрит, потому что она все еще не решалась войти туда, где стрелял в нее Джерри Глинн и где истекал кровью на полу в кухне Эвандро Арухо.
— Неправда, ты не одинока, — повторил я, и руки мои обхватили Энджи, обняв ее со спины.
— Нет, я одинока. И никакие твои объятия, никакая твоя любовь не в силах этого теперь изменить.
* * *
— Мистер Стоун, — проговорила Энджи.
— Тревор.
— Мистер Стоун, — повторила она. — Я сочувствую вашему горю, от всей души сочувствую. Но вы нас похитили. Вы…
— Мое горе тут ни при чем, — сказал Стоун. — Нет, нет. Проблема вовсе не в этом.
— Так в чем же? — спросил я.
— В моей дочери Дезире.
Дезире.
Он произнес это имя благоговейно, как молитву.
* * *
Ярко освещенный кабинет его оказался храмом, возведенным в ее честь.
Там, где раньше я видел только мрак и тени, обнаружились фотографии и рисованные портреты женщины, запечатлевшие ее чуть ли не во все этапы жизни — начиная с младенческого возраста и до окончания школы: начальная школа, ежегодные снимки ее в старших классах, по окончании колледжа. Неумело снятые стареньким «поляроидом», но вставленные в новехонькие, красного дерева рамки. А вот случайный снимок: она и, судя по всему, ее мать на барбекю, стоят возле газового гриля на лужайке во дворе, в руках бумажные тарелки, в камеру обе не смотрят. Выхваченный наугад кадр, расплывшееся по краям изображение, фото, снятое без учета того, что откуда-то слева падал солнечный свет и блики его затемняли объектив аппарата. Такие карточки, не вставленные в альбом, обычно теряются, однако в кабинете Стоуна снимком этим явно дорожили — он был в посеребренной рамке на изящной подставке слоновой кости.
Дезире Стоун отличалась изумительной красотой. Ее мать, как можно было судить по нескольким фото, была, по-видимому, латинских кровей, и дочь унаследовала материнские густые волосы цвета меда, изящную форму нижней челюсти и шеи, точеность черт, тонкий нос и цвет лица, словно всегда озаренного светом закатного солнца. Отец же подарил Дезире нефритово-зеленые глаза и полные, четко очерченные губы. Симметрию генетических влияний можно было заметить, глядя на фотографию, стоявшую на столе Тревора Стоуна. На ней Дезире была снята вместе с отцом и матерью и одета в ярко-красную мантию с шапочкой — наряд выпускницы, — а за ее спиной простирался кампус колледжа Уэллсли; руки девушки обнимали родителей за шею, притягивая к ней их головы. Все трое улыбались и, казалось, так и излучали здоровье и благополучие, в то время как лицо девушки счастливо сочетало в себе нежную красоту матери с отцовским выражением несгибаемой воли.
— За два месяца до катастрофы, — сказал Тревор Стоун, на секунду взяв в руки фотографию. Он поглядел на нее, и нижнюю часть его обезображенного лица исказила судорога, в которой я распознал улыбку. Потом он поставил фотографию обратно на стол, а мы сели напротив него.
— Вам обоим известен частный детектив по имени Джей Бекер?
— Джея мы знаем, — сказал я.
— Работает в «Сыскном агентстве Хемлина и Коля», — сказала Энджи.
— Правильно. И какого вы о нем мнения?
— В профессиональном смысле?
Тревор Стоун пожал плечами.
— Он свое дело знает, — сказала Энджи. — Хемлин и Коль берут к себе только самых лучших.
Стоун кивнул:
— По-моему, несколько лет назад они и вам обоим делали предложение перейти к ним.
— Как это вы пронюхали? — удивился я.
— Но ведь это так, верно?
Я кивнул:
— И, насколько я понимаю, это было щедрое предложение. Почему же вы отказались?
— Мистер Стоун, — сказала Энджи, — на случай, если вы не заметили, мы не принадлежим к типу людей, отливающихся в кругах бизнесменов и политиков.
— Ну а Джей Бекер — человек другого типа?
Я кивнул:
— Он несколько лет прослужил в ФБР — до того, как сделал выбор в пользу больших денег, которые платят в частных фирмах. Он любит хорошие рестораны, красивую одежду, красивые многоэтажные дома и всякое такое. И костюмы на нем сидят хорошо.
— И, как вы сказали, он отменный специалист.
— Замечательный! — воскликнула Энджи. — Ведь именно его стараниями были доказаны связи Бостонского федерального банка с мафией.
— Да, знаю. Кто, вы думаете, нанял его на эту работу?
— Вы, — сказал я.
— И еще несколько видных бизнесменов, потерявших деньги во время краха на рынке недвижимости и падения курса доллара и фунта в 1988 году.
— Если вы обращались к нему раньше, почему вас интересует наше мнение о нем?
— Потому, мистер Кензи, что не так давно я привлек мистера Бекера, как и все «Агентство Хемлина и Коля», к розыску моей дочери, поручив им это дело.
— Розыску? — переспросила Энджи. — Сколько же времени она отсутствует?
— Четыре недели, — ответил Стоун. — Тридцать два дня, чтобы быть точным.
— Джей нашел ее? — спросил я.
— Не знаю, — сказал Стоун, — потому что теперь пропал и мистер Бекер.
* * *
На улице в то утро было холодно, но не слишком, так как ветер был несильным, а столбик термометра показывал тридцать с небольшим[1]. Такой холод ощущается, но до костей не пробирает.
Однако на заднем дворе Тревора Стоуна ветер задувал с Атлантики, с его газона видны были барашки волн, и холод ударял в лицо, как снежком. Я поднял воротник кожаной куртки, защищаясь от океанского бриза, а Энджи сунула руки поглубже в карманы и съежилась, втянув голову в плечи. Но Тревор Стоун вышел на ветер. Провожая нас, он надел лишь легкий серый плащ, и плащ этот с хлопаньем бился о его тело в то время, как он стоял лицом к океану, храбро бросая вызов пронизывающему ветру.
— «Хемлин и Коль» вернули мне деньги, отказавшись от поручения, — сказал он.
— По какой причине?
— Не объяснили.
— Это неэтично, — возмутился я.
— Ну и что вы мне предлагаете?
— Обратиться в гражданский суд, — сказал я. — И выиграть дело.
Оторвав взгляд от морских далей, он обратил его к нам и не отводил, пока мы не догадались.
— Любое исковое заявление бессмысленно, — заметила Энджи.
Он кивнул:
— Потому что я умру раньше, чем дело дойдет до судебного разбирательства.
И он опять повернулся лицом к ветру, а к нам спиной, и слова его долетали до нас вместе с резкими порывами ветра.