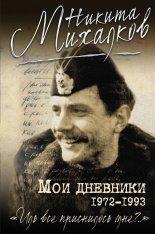Меч мёртвых Семёнова Мария
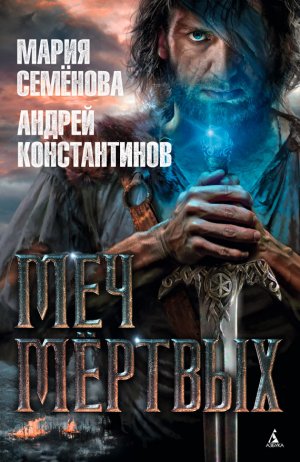
Эгиль, несмотря на своё прозвище, самообладанием отличался завидным. Он тяжело перевёл дух и мрачно спросил:
– И что, можешь нас туда проводить?
– Могу! – с вызовом ответил ижор.
– А что ж раньше молчал?.. – снова зарычал Эгиль.
Действительно, в Новом Городе только и разговору было о ватаге Болдыря, «залёгшей» путь к Ладоге; и купцам, и Вадимовой дружине страсть хотелось бы разведать, где у душегубов гнездо, да и выжечь заразу на корню. Мальчишка-ижор наверняка про то знал, но помалкивал. Почему?.. У Эгиля уже повисли на языке тяжкие слова о продажности финнов, но Искра предотвратил новую ссору, торопливо вмешавшись:
– Так зима-то какая гнилая была. Мхи не замёрзли небось! Пройдём ли?
Тойветту проговорил, обращаясь вроде к нему, но глядя с неприязнью на Эгиля с Харальдом:
– Кто боится, может здесь подождать!..
Позёмка усиливалась. Вихрящиеся белые языки то припадали к коленям, то, подхваченные ветром, взлетали выше голов. Небо тоже затянула белёсая пелена, скрывшая солнце и яркую морозную синеву. Матёрый лес по краю болота отступал всё дальше назад, превращаясь в вереницу серых расплывчатых призраков. Потом колеблющаяся мгла поглотила его совсем, и различить горизонт сделалось невозможно. Ижор, однако, бежал вперёд легко и уверенно. Так бежит неутомимый волк, вынюхивающий добычу, и Эгиль временами начинал сомневаться, кого следовало считать оборотнем: то ли Болдыря, то ли никому не ведомого парня, намявшего холки Харальду с Искрой… а может, этого финна? Сын гардского ярла упрямо, не отставая, мчался за проводником, хотя и чувствовалось – устал. Харальд тоже не отставал, потому что его предками были великие конунги, и их нельзя было подвести – уж лучше пасть, надорвавшись. Эгилю приходилось всех хуже. Он иногда начинал уже чувствовать, что немолод годами. Вдобавок он был всех тяжелее, и непрочный ледок под ним время от времени угрожающе потрескивал, выпуская на поверхность чёрную воду. Тонуть в болоте Эгилю совсем не хотелось, такой смерти он почему-то страшился больше всего. Всю свою жизнь он был викингом и плавал по морю, а значит, мог свалиться раненым за борт и утонуть. Или сам броситься в волны, чтобы не даться на глумление жестоким врагам… Но то была чистая и славная морская вода, солёная, словно кровь в человеческих жилах, и там, внизу, ждали гостеприимные палаты Эгира, хозяина глубины: таково посмертие угодивших в сеть к Эгировой супруге, божественной Ран. А здесь?.. Чёрная трясина, которая медленно и как бы неохотно расступится под его телом и так же медленно и неотвратимо начнёт всасывать, увлекать вниз, вниз… Нет уж! Хоть и трудновато было старому воину поспевать за легконогими молодцами, он не отставал и не останавливался. Ибо, стоило замедлить шаг, как пугающее потрескивание под лыжами делалось громче, и тёмная жижа начинала жадно пропитывать снег. Один раз, в самом начале перехода через болото, Эгиль исхитрился прямо на ходу скатать в руках плотный снежок и метнуть его в сторону, туда, где течения позёмки обнажили гладкий щит льда. Упавший снежок без усилия проломил хрупкую корку и канул. Эгиль сразу вспотел и сказал Харальду, бежавшему след в след за ижором:
– Позволь, Рагнарссон, я пойду впереди!
Харальд не позволил, а сходить с лыжни Эгиль попросту не решился. Самому сгинуть – полдела, но этак можно и мальчика, случись что, с собой вместе увлечь…
Каким знанием или чутьём находил верную дорожку ижор – о том Эгилю не хотелось даже гадать.
Тойветту, сын Серебряной Лисы, всё выполнил, как обещал. Уже к полудню провёл своих спутников невредимыми через страшные Сокольи Мхи, которые название-то своё получили не иначе оттого, что одни соколы крылатые через них и летали; правда, о том, что стоял полдень, тоже оставалось только догадываться, ибо ни солнца, ни теней по-прежнему не было, лишь густая белёсая мгла, от которой нещадно уставали глаза. Однако и это не помешало ижору, знавшему «неодолимое» болото до последней травинки, не просто вывести охотников на твёрдую сушу, но ещё и выбраться к островному становищу с самой безопасной, подветренной стороны.
Ветер вздыхал неровно, позёмка накатывалась волнами: населённые островки и вмёрзшие в лёд мостки между ними то казали себя ясно и чётко, то совсем пропадали за пеленой летящего снега, словно их вовсе не было там, впереди, за кольцом незамёрзшей чёрной воды. Харальд, Искра и Эгиль берсерк хоронились между голых кустов, вглядываясь в становище. Оно казалось безлюдным – жители сидели по домам, очень, кстати, напоминавшим зимовьюшку одноглазого, и только дымки, вылетавшие в отверстия крыш, несли запах жилья и свидетельствовали, что маленькая весь не заброшена, что люди отсюда ещё не ушли.
Поселение не было окружено тыном – зачем тын, если болото сторожит получше всякой ограды?.. И сколько ни напрягали зрение трое охотников, ничего «разбойничьего» на том берегу высмотреть не удавалось. Весь как весь – мало ли кому вздумалось схорониться в болотах то ли от Вадима, то ли от Рюрика, то ли враз от обоих?.. Как вообще отличить гнездо «волкохищной собаки» от самого обычного печища?.. Ижору на слово поверить?.. Стоило ради этого тащиться в несусветную даль, да через трясину.
Холод постепенно забирался под меховую одежду, студил пропотелые рубахи, покрывал кожу пупырышками, заставлял стискивать зубы…
Долго, очень долго на том берегу совсем ничего не происходило, и Эгиль хотел уже позвать юнцов в обратный путь, пока вовсе не примёрзли к камням: что выведали, мол, то выведали, и довольно, не всё в один день… Но в это время за разводьем началось движение.
В самом большом доме с протяжным скрипом открылась подмёрзшая дверь, и наружу вышло несколько человек. Они смеялись, прятали лица от ветра и громко разговаривали между собой. Залёгшим на островке удавалось перехватить только обрывки слов и понять, что разговор шёл по-словенски.
– Разбойники… – почти сразу прошептал Искра. – Болдыря люди!
– Почему? – тоже шёпотом спросил Харальд. Уверенный приговор Искры немало его удивил. Сам он не находил в облике вышедших из дому мужчин ничего странного или необычного. Они даже не были вооружены.
Искра ответил:
– А ты посмотри на одежду…
Харальд присмотрелся. У двоих были почти одинаковые тёплые свиты из добротного тёмно-синего сукна. У третьего синие заплаты красовались на спине и локтях. Ещё один был в синих штанах, другой натягивал на уши меховую шапку с синим новеньким колпаком…
Искра толкнул Харальда локтем:
– Купца Кишеню Пыска помнишь?
– Как не помнить…
– Так он ещё летом жаловался, налетела, мол, возле волока лихая ватага, стражей порубили, тюки с повозок похватали, такое доброе сукно не довёз…
– Смотрите, плот, – сказал Эгиль.
И правда – по чёрной воде, приближаясь к разбойничьему становищу, медленно двигался плот. Четверо крепких молодцев направляли его сквозь тяжёлую зимнюю воду, погружая шесты в снежную кашу, густо плававшую на поверхности. А посередине, привычно утвердив на скользких брёвнах тепло обутые ноги, стоял…
Харальд вскинулся на локтях:
– Он это! Одноглазый!.. С кем дрались!..
Широкая ладонь старого берсерка вдавила Харальда в снег, помогла опамятоваться. Искра же, наоборот, чуть приподнял голову, щурясь против неожиданно выглянувшего солнца.
Человек был рослый, широкоплечий, в низко нахлобученной шапке и короткой шубе, сшитой из волчьего меха. Он вправду был очень похож на одноглазого, но… Плот повернул, и он оказался к Искре почти спиной – лица не увидеть. Только блеснуло что-то на левом запястье, зажглось красно-жёлтыми огоньками…
– Не он это, – сказал Искра и зябко потёр руки в рукавицах, гоня к пальцам отступившую кровь. – У того шуба покороче была… И штаны меховые, а у этого стёганые…
– И жил – не видать, чтобы кто в гости ходил, а этого со всем почётом встречают… – проворчал Эгиль.
– Уходить надо, – сказал вдруг ижор. Охотники повернулись к нему, и Тойветту встревоженно пояснил: – Здесь, где мы, у них кладовая… Бочки под воду спущены: холодно, а не мёрзнет… Гостя принимают, сейчас за снедью придут…
И он указал на прочные жерди, в кажущемся беспорядке укреплённые между камней. Теперь, когда притихла позёмка, стало заметно, что это и в самом деле не корни и не стволы упавших деревьев, а труд человеческих рук, и в воду тянутся снабжённые узлами верёвки.
Почему разбойники устроили кладовую не рядом с жильём, а за небезопасным разводьем, осталось только гадать. Может, когда-то и здесь были мостки, да сгнили или унесло по весне? Или ключи возгоняли со дна чистую воду, свободную от торфяной мути? Или всё было проще – хранили запасы еды и хмельного питья и от собственной неумеренной жадности, и от вражьей, если вдруг кто нападёт?..
Тойветту двигал губами, еле слышно уговаривая Небесного Старика заново расшевелить так некстати улёгшуюся позёмку. Безопасная тропка, по которой они добрались сюда, вилась среди россыпи островков; молодой ижор, уязвлённый в своей гордости проводника, подвёл Искру и датчан слишком близко к разбойничьему гнезду. От торчавших изо льда камышей, способных надёжно укрыть, островок-кладовую отделяло полных двадцать шагов чистого льда. Пока летел снег, эти двадцать шагов можно было миновать невозбранно. А теперь?..
Датчан Тойветту не любил, и за дело. Случись с ними что – туда и дорога. А вот с родом боярина Твердислава Серебряные Лисы испокон веку были друзьями. Кто простит Лисёнка, если из-за него Искру покалечат или убьют?..
…Неторопливый плот тем временем причалил к берегу, и разбойник в богатой, почти по-княжески скроенной шапке поздоровался с гостем. Приезжего повели в дом; судя по всему, это был важный и значительный человек, и принимали его здесь отнюдь не впервые. Тойветту, однако, было вовсе не до того, кто и зачем натоптал дорожку к обиталищу Болдыревой ватаги. Ветер понемногу усиливался, рано или поздно позёмка разгуляется снова; но и разбойники, надо полагать, захотят наведаться в свою «кладовую», пока затишье… Как только жители острова и их гость скрылись за гулко бухнувшей дверью, ижор подал своим спутникам знак. Все четверо вскочили на резвые ноги и что было силы помчались через ледяную проплешину к спасительным тростникам.
Конечно, они не успели. Эгиль, опять бежавший последним, торопился как мог и чуть не наезжал сзади на лыжи Искре Твердятичу, но переломить злую судьбу, определённо витавшую над ними в тот день, было не в его силах. Он, пригибаясь, уже влетал за шуршащую завесу серо-жёлтых коленчатых стеблей, увенчанных засохшими метёлочками, когда позади, за разводьем, начался переполох.
Сперва погоня отстала: пока снарядились, пока переправились с острова… Но вот разбойники поставили лыжи на лёд, и новогородцы, каждый про себя, поняли – плохи дела. Своё болото Болдыревы ватажники знали если и похуже, чем Тойветту, то ненамного, и безошибочно летели той же тропой, не особенно нуждаясь в следах. Иным путём выбраться в эту сторону через Сокольи Мхи было всё равно невозможно.
Человек, стремящийся уберечь свою жизнь, способен на многое. Но провести на ногах почти всю ночь и полдня, а потом удирать от погони – свежей, не обременённой усталостью и весьма обозлённой?..
Трижды разбойники подбирались к беглецам на расстояние выстрела, но неверный, резкий, порывистый ветер мешал как следует прицелиться. Потеряв без толку несколько стрел, преследователи решили не опустошать зря тулы и для начала подобраться поближе. Они тоже видели, что настигают.
Ветер между тем понемногу обретал прежнюю силу, и позёмка вновь понеслась над снегом и льдом, всё выше вздымая белые языки. К тому времени, когда белая мгла начала смыкаться над головами, двое датчан, ижор и словенин успели миновать самую опасную часть Мхов. Позади осталась сплошная топь, впереди замаячили первые плотные кочки с растущими на них кривыми, корявыми деревцами. Однако до настоящего надёжного берега было ещё далеко. Слишком далеко. Не успеть добежать туда прежде разбойников.
– Эй, финн!.. – прохрипел Эгиль в спину ижору, всё так же неутомимо скользившему впереди. – А ну постой, что скажу!..
Одинокая сосна с большим птичьим гнездом на вершине возвышалась над колеблющимся морем снежных струй, точно путеводная веха, воздвигнутая самими Богами: не промахнёшься, не собьёшься с пути. Эгиль и Харальд медленно приближались к ней, приминая лыжами торчавшую из-под снега траву, и зыбучее белое покрывало немедленно заносило оставленные ими следы. Тойветту утверждал, что надёжная тропа в этом месте была совершенно прямой: только держи, мол, направление на сосну, и незачем бояться трясины. Так-то, оно, может, и так, но Эгиль, внезапно оставшись без провожатого, всё равно на первом же шагу покрылся липким потом, совсем иным, нежели от работы и бега.
– Это я должен был додуматься, а не ты, – сказал ему Харальд. – Если я и вправду хочу, чтобы меня называли вождём не только за мой род, но и потому, что я сам чего-нибудь стою…
Эгиль в ответ прохрипел, тыча копьём в лёд перед собой:
– Я в твоём возрасте тоже не до всего додумывался, Рагнарссон. Сумей прожить столько, сколько прожил я, и в твоей груди тоже накопится премудрость тысячи битв…
Он всё-таки настоял на том, чтобы идти первым, испытывая тропу тяжестью своего тела.
– Не в том дело, – сказал Харальд. – Ты размышлял, как сразиться и победить, а я только мечтал, чтобы Асы одолжили мне соколиное оперение – улететь от погони…
Эгиль усмехнулся в густую сивую бороду:
– Погоди хвалить меня, сын Лодброка. Пусть то, что я изловчился придумать, сперва убережёт нас от преследователей…
Разбойников было шесть человек, и они, кажется, уже начали понимать, что сильно недооценили тех, за кем взялись гоняться по Сокольим Мхам. Против всякого ожидания, чужаки не струсили и не сорвались в беспорядочное нерассуждающее бегство, способное закончиться только смертью в трясине. И они на удивление хорошо знали болото, которое люди Болдыря привыкли считать домом родным. То есть предводитель шестёрки довольно скоро начал жалеть, что взял с собой так мало народу. Ни в коем случае нельзя было дать пришлым выбраться за пределы Мхов: что, если это ладожские подсылы?
И в лесу их ждёт сильный отряд, готовый защитить своих наворопников и без промедления двинуться по разведанному пути?..
…Удача улыбнулась ватажникам, когда те начали уже не на шутку беспокоиться, успеют ли перехватить беглецов до края торфяника, где единственная тропа сменялась тетеревиным хвостом стёжек-дорожек: помучишься, отыскивая следы. Вожак шестёрки обрадованно крикнул, первым приметив двоих пришлецов, замешкавшихся на бегу. Один нетерпеливо переминался, жаждая удрать и не решаясь бросить товарища. А второй, припав на колено, неловкими усталыми движениями пытался приладить к ноге соскочившую лыжу.
Оставалось не вполне ясным, куда подевались ещё двое, но о них можно будет поразмыслить потом. Ижору и словенину, застрявшим возле курящейся снежными вихрями кочки, было уже не спастись. Разбойники устремились к ним, на ходу выдёргивая из налучей луки. Настигнутые смешно заметались, особенно тот, что никак не мог подвязать непослушную лыжу, и вожак даже хотел было придержать готовых стрелять молодцев, – взять бы живьём да свести к Болдырю на расспрос! Однако тут стоявший на коленях молодой словенин наконец справился с ремешками и выпрямился… и вдвоём с ижором они бросились в сторону от известной тропы, прямо туда, где, насколько было известно разбойникам, могла ждать только гибель.
Подлетев к кочке, у которой те только что стояли, ватажники какое-то время переминались в нерешительности. Пускаться следом за ускользавшими беглецами было попросту боязно. Но те уходили всё дальше и почему-то всё никак не проваливались, и мысль о том, чтобы вернуться и рассказать о том, как дали им уйти, была пригоршней снега, тающей за шиворотом. Трое стрельцов разом вскинули луки, целясь сквозь густую летящую белизну. Ветер донёс жалкий вскрик, и им показалось, будто один из беглецов покачнулся. Хотя и не упал.
– За ними! – приободрился вожак. И первым ступил на ещё видимую лыжню, уводившую в сторону от знакомой тропы.
Харальд не забыл, как состязался в стрельбе из лука с дочерью гардского ярла. Исход того состязания больно уязвил его гордость. Поэтому он не стал притворяться, будто не слышал забавной висы, в тот же день сложенной его воинами:
Прибыв в Новый Город, Харальд велел найти хорошего мастера-лучника, и тот сделал для него лук, какие предпочитали словенские воины – очень тугой, оплетённый берёстой, с витой кожаной тетивой, не боящейся дождя и мороза. Харальд не справился с ним, когда впервые взял в руки, хотя на недостаток силы жаловаться ему не приходилось. Это тоже было обидно. Он щедро заплатил мастеру и половину зимы усердно трудил себя упражнениями, но добился-таки, чтобы лук начал его слушаться. Он уже ходил с ним на охоту, но бой впервые ему предстоял. Поэтому Харальд немного жалел, что с ним не было его прежнего лука, такого привычного и надёжного. Ну что ж, сказал он себе. Вот и проверю, чему успел научиться …
Сосна, увенчанная обширным гнездом, росла на маленьком островке, давшем приют нескольким густым ольховым кустам. Сейчас на них, понятно, не было листьев, и даже снег не задерживался на тонких жилистых ветках, но кое-какое укрытие они всё же давали. Харальд и Эгиль разошлись в стороны и молча стояли с луками в руках, ожидая. Они рассудили, что разбойники были скорее всего без броней – поди-ка побегай по тоненькому ледку, навьючив на себя полпуда железа! – и приготовили стрелы-срезни с широкими наконечниками. Такая перерубит руку, не спрятанную в кольчужный рукав. И голову с плеч долой сбросит, если метко попасть.
Харальд подумал о том, что разбойники вполне могут раскусить нехитрый замысел Эгиля, и тогда, наверное, им всем придётся погибнуть. Не самая завидная смерть для сына конунга, мечтавшего о державе! Не на качающейся палубе корабля, не от рук знаменитых и благородных врагов. Посреди болота, в мелкой стычке с какими-то нидингами, объявленными вне закона за мерзкие преступления!.. Кто здесь увидит его смерть, кто запомнит её и сумеет рассказать людям, что младший сын Рагнара Кожаные Штаны умер достойно?..
Харальд угрюмо вздохнул, вглядываясь в серую мглу и утешаясь хотя бы тем, что погибнет как воин – с оружием в руках и до последнего не давая спуску врагам. Они с Эгилем стояли спинами к ветру, и он услышал, как откуда-то сзади донеслось далёкое карканье. Харальд вздрогнул от холода, успокоился и понял, что Даритель Побед, небесный Отец его рода, взирал на него Своим единственным оком, готовясь по достоинству оценить его мужество. Молодой викинг снял правую руку с тетивы и размял пальцы, начавшие коченеть.
Свистящий ветер уносил прочь и поскрипывание лыж, и перекликавшиеся голоса. Когда из сплошной пелены прямо перед Харальдом, пригибаясь на бегу, одна за другой выскочили две тёмные фигуры, его обдало горячей волной, а руки мгновенно вскинули лук. Ожидание кончилось.
Разбойники проглядели ловушку. Хотя на самом деле могли бы сопоставить первоначальное хладнокровие беглецов и явный испуг двоих отставших. Не сопоставили. Очень уж боялись упустить едва не настигнутых, соблазнились лёгкой добычей. В особенности когда рассмотрели кровь, глубокими пятнами протопившую снег. А надо, надо было подумать, прежде чем голодными волками бросаться по следу. Рассудить, представить себя на месте преследуемых. Заподозрить подвох…
Всё это пришло к разбойному вожаку, как мгновенное озарение, когда внезапный и жестокий удар вышиб из-под него правую ногу. Он взмахнул руками и широко и нелепо шагнул в сторону, силясь обрести опору и уже понимая – слишком привыкли они уряжать засады и исподтишка нападать на не ждущих дурного людей, слишком давно на них самих никто не охотился… Он увидел изувечившую колено стрелу и упал, и лёд под ним немедленно треснул, с готовностью расступаясь.
Ватажник, бежавший последним, корчился на тропе, неизвестно зачем пытаясь высвободить воткнувшуюся в снег лыжу. Стрела, пущенная Эгилем берсерком, легко вспорола на нём меховой полушубок и вошла в грудь до хребта, оставив рану в пядь шириной. Кровь лилась из разрубленных жил неостановимым потоком, быстро унося с собой жизнь.
Четверо, зажатые на узкой – не сойдёшь и не больно-то развернёшься – тропе и вдобавок оставшиеся без главаря, заметались. Тойветту мячиком подкатился под ноги Харальду и тоже сразу схватился за лук, сдёрнутый со спины. Теперь силы были равны – четверо против четверых. Стрелы весело звенели в воздухе, ища цель. Харальд даже подумал о том, что негоже ему, знатному воину, расстреливать супротивников, точно привязанных кур. Он нахмурился и сказал себе, что разбойники, достанься им чуть-чуть побольше удачи, именно так поступили бы с его спутниками и с ним.
Всё завершилось очень быстро. Ещё трое Болдыревых людей умерло без всякого достоинства, до последнего стараясь спрятаться друг за друга. Теперь Харальд отчётливо видел, что никакие это не оборотни, а самые обычные люди, способные ощущать ужас и боль. И убивали их не только серебряные стрелы, но и простые, с железными наконечниками. Последнему оставшемуся на ногах отчаяние придало сил. Он взвился в прыжке, развернулся вместе с лыжами прямо в воздухе, перелетел через лежавшего на тропе и кинулся наутёк. Он потерял шапку, и было видно, что это молодой белобрысый мерянин не старше самого Харальда. Слипшиеся от пота волосы стояли дыбом на его голове. Харальд прицелился и в последний раз спустил тетиву. Стрела ударила бегущего между лопаток. Удар бросил его на колени, он попытался подняться, но не совладал и растянулся в снегу, потом начал ползти, неуклюже загребая руками. Раскинутые лыжи мешали ему, он почти не двигался с места и только подвывал тихо и жалобно, как больной щенок. Постепенно его движения делались всё медленнее. Добивать не придётся.
Тойветту уже поднялся на ноги и отряхивался, спрятав лук в налучь. Харальд поискал глазами молодого Твердятича – и похолодел, увидев его. Искра Звездочёт лежал на боку, в неуклюжей, беспомощной позе, и прижимал ладонью правое бедро чуть пониже ягодицы. Эгиль уже склонился над ним, укоризненно качая головой:
– Эх, паренёк, снимет ведь с нас твой батюшка головы, да и правильно сделает!..
Харальд и Тойветту опрометью бросились к ним и увидели: вся штанина и сапог у Искры были пропитаны густой липкой кровью. Боярский сын растерянно смотрел на своих товарищей, крепко закусив губы, чтобы не стонать. Он не мог перевернуться на спину: из его тела торчало длинное древко стрелы. Уже раненым, пятная кровью снег, он бежал во всю прыть не меньше сотни шагов, подманивая преследователей под стрелы датчан. А вот теперь всё кончилось – и он, свалившись, без сторонней подмоги уже не двинется с места.
Тут со стороны тропы, где остались разбойники, донёсся треск льда и тяжёлое хлюпанье грязи, в которой ворочалось живое тело.
– Стрелу не трогайте, – предупредил Эгиль молодых. Сам же поднялся на ноги и пошёл посмотреть.
Разбойный вожак, считаные мгновения назад в охотку возглавлявший погоню за беглецами и задорно летевший, точно гончий пёс, по тёплому кровавому следу – всех порву! не пощажу!.. – этот самый вожак смотрел на подошедшего викинга снизу вверх, и в глазах у него были отчаяние и надежда. Он уже по грудь ушёл в болотную жижу, и та тяжко колыхалась, всасывая его всё глубже. Случись ему обломиться со льда в честную озёрную воду, он бы давно уже выбрался, и боль в изувеченном колене не смогла бы ему помешать: подумаешь, не такое доводилось терпеть!.. Но густая грязь крепко держала его, прежде смерти увлекая в могилу и не давая ни плыть, ни брести к спасительному островку. Падая, Болдырев ватажник не утратил самообладания и удержал в руках лук. Теперь он пробовал то зацепиться им за твердь, то опереться о лёд и задержать неотвратимое погружение. Ничего не получалось – рога лука беспомощно соскальзывали по ветвям и траве, хрупкий ледок проламывался, не давая опоры…
Когда подошёл Эгиль, разбойник ощерился, как погибающий волк. Рядом с ним, среди вставших торчком битых ледышек, на поверхности трясины лежал измазанный грязью тул; он схватил его и вытащил стрелу. Однако страх близкой смерти заглушил желание драться. Стрела упала в чёрную жижу:
– Не дай изгибнуть, датчанин… Вытащи, век рабом буду…
Он говорил по-словенски, начисто позабыв, что северный находник может и не понять его. Эгиль понял. Тут, впрочем, разуметь чужую молвь и не требовалось – всё ясно и без неё.
– Таких рабов… – усмехнулся старый берсерк. Он легко мог спасти тонувшего, ибо стоял от него в неполной сажени, да и силой Эгиля добрые Боги отнюдь не обидели. – Знаю я вас, нидингов… – тоже по-словенски продолжал он, глядя, как тяжёлые языки льдистой грязи охватывают плечи разбойника. – Тонете, сулите кошель серебра, а вытащишь – кабы в благодарность у тебя самого кошель не отняли…
Болдырев ватажник молча смотрел на него, силясь извернуться во влажной хватке болота и дотянуться до ветвей куста, от которого его вытянутую руку отделяли считаные вершки. Всё тщетно.
Эгиль подумал о том, что вживую видит тот самый ужас, что так недавно терзал его собственное воображение. Одно дело, когда жизнь дотлевает в израненном теле, уже неспособном ни драться, ни удерживать трезвое сознание. И совсем другое – если тело ещё полно сил, и его, живое, не спеша заглатывает смерть, и разум, потрясённый невозможностью происходящего, до последнего отказывается в это поверить…
Седобородый викинг упёрся ладонями в колени и назначил гибнущему врагу выкуп за жизнь:
– Расскажи-ка мне, что за важного человека везли к вам на плоту?
– Бо… – с готовностью начал разбойник.
Но тут наступающая жижа попала ему в рот, и он поперхнулся, выплёвывая густую торфяную кашу, обжигавшую холодом зубы. Когда же, запрокинув голову, он опять возмог свободно говорить и дышать – не стал доканчивать сказанного, а в глазах появилась решимость погибнуть, но унести тайну с собой. Эгиль, совсем было изготовившийся бросить ему верёвку, связанную петлёй, разочарованно выпрямился.
Медлительная трясина готовилась сомкнуться над обращённым к небу лицом. Человек жадно, судорожно довершал последние вздохи, отпущенные судьбой, – как будто лишняя горсть воздуха, успевшая наполнить лёгкие, должна была помочь ему отодвинуть неизбежный конец. Некоторое время разбойник выплёвывал грязь, и отчаянные рывки всего тела позволяли ему чуть приподниматься, высвобождая губы и подбородок. Но жижа была слишком густой и студёной, и силы таяли быстро. Трепыхания, заставлявшие трясину колебаться тяжёлыми медленными волнами, делались всё слабее. Ладони тонущего реже прорывали поверхность, и вот уже он не сумел схватить ртом воздуха – остались видны только забитые грязью, отчаянно раздувающиеся ноздри… а потом – лишь лоб и глаза, ещё зрячие, ещё пытающиеся моргнуть слипшимися ресницами… вот лениво вспух и лопнул перед ними пузырь, вырвавшийся изо рта…
Эгиль, вздрогнув, схватился за лук. Ему показалось, мутнеющие глаза успели различить нацеленное прямо в них жало бронебойной стрелы… И поблагодарить взглядом за избавление от последних мучений.
Обратный путь в Новый Город Искре запомнился плохо…
Стрела, угодившая куда ни один воин не захотел бы – в самый верх стегна, – разорвала большую кровеносную жилу, так что молодой Твердятич полными пригоршнями терял кровь ещё на бегу. Она не подумала иссякать и потом, когда он уже достиг островка и повалился без сил. Такая рана – не просто жестокая скорбь для гордости и для тела, она и с белым светом распроститься может заставить. Кровь истекала толчками, неудержимо вырываясь кругом древка стрелы. Войди та хоть чуть ниже, ногу перетянули бы жгутом, а тут – как подступиться?.. Хорошо, Харальд вовремя додумался. Видел, как порой спасали раненных в грудь или живот, и здесь решил поступить так же. Распорол на Искре штаны, примерился – и стал с силой вдавливать кулак в белое тело повыше раны:
– Терпи, побратим!..
Искра терпел, а Харальд пробовал так и этак, и на семьдесят седьмой раз ему повезло. Попал на жилу и притиснул её к кости, запирая кровь. Держать было неудобно и тяжело, руки у сына конунга скоро стали дрожать. Он не позволил себе переменить положения, глядя, как Эгиль склоняется над юным словенином, собираясь тащить из тела стрелу.
– Это мерянская стрела, – поглядев на оперение, неожиданно вмешался Тойветту. – У неё головка с шипами, как у остроги. Так её не вынешь, резать надо!
– Резать, – сердито задумался Эгиль. – Легко сказать! Если ты так сведущ в здешних стрелах, может, подскажешь, как сидит наконечник?
– Ну… – свёл золотистые брови ижор. – Видел я однажды мерянина, приделывавшего оперение…
Искра немного послушал их пересуды, представил, как его сейчас живого резать начнут, – и обмяк, уронил голову.
Вынимать стрелу было опасно. Очень опасно. Оставлять – вовсе нельзя. И решать следовало быстро, потому что с Болдырева островка мог подоспеть новый отряд – выяснять, куда запропастились отряженные в погоню. Искру крепко связали, чтобы помимо воли не дёрнулся. Дали в зубы сосновый сучок – не допустить невольный крик боли до чуждых ушей. Эгиль приготовил нож, а Тойветту, кривясь и кусая губы, положил Искре на шею удавку. Иным способом оградить его от лишней муки они не могли.
Вообще-то Эгиль гораздо более преуспел в отнятии жизни, нежели в искусстве её сбережения. Позже, за пивом у очага, он сознавался, что не слишком надеялся на успех и уповал только на Богов и живучую молодость Искры. Однако Эйр, небесная врачевательница, была нынче милостива к старому берсерку. Он добрался до наконечника – действительно финского двузубого, как верно определил Тойветту, – и бережно вынул его, а потом прижёг вспоротое тело, чтобы надёжно остановить кровь. Тогда Харальд смог разогнуться и отнять сведённые судорогой руки. Чистая тряпица, которой они повили Искре стегно, сразу начала промокать и набухать красным. Они внимательно следили за расползавшимся пятном, но уносящего жизнь потока не было и в помине.
– Рано радоваться! Теперь донести надо, – сказал Эгиль, стирая с лица обильно катившийся пот. Ему было жарко.
Он выпрямился, еле разогнув окостеневшие ноги. Снег густо летел над маленьким островком посередине болота, посвистывая в кроне сосны и в голых ветках кустов: позёмка сменилась самой настоящей метелью. Белёсая мгла наверху мутно розовела предзакатным огнём. Все четверо провели на ногах без малого сутки, с пустыми животами и почти не отвязывая лыж от сапог… А вот погоня, могущая вновь прийти по их головы, будет сытой и свежей…
Искра, уже освобождённый от пут, лежал на земле и не открывал глаз. Извлечение стрелы он вынес с редкостным мужеством, которого, признаться, не ждали от домоседа ни Харальд, ни Эгиль. Посреди болота не из чего было сотворить даже плохонькие носилки, и Эгиль расстелил на снегу широкий кожаный плащ:
– Клади его… Да поосторожней смотри!
Он первым впрягся в сбрую, наспех связанную из запасных тетив. Искра лежал лицом вниз, чувствуя щекой все неровности болотного льда. Рана в стегне, только что сводившая его с ума раскалёнными волнами боли, стала чужой и далёкой; гораздо сильней и обидней болел глубокий след, вдавленный в шею милосердной удавкой ижора. Искру больше не колотило от потери крови и холода – откуда-то мягкими волнами наплывало тепло. Он здраво подумал, что не мог ещё поспеть настолько замёрзнуть… Эта мысль была неинтересна ему и скоро покинула разум. Когда жизнь колеблется на краю пустоты, значимость вещей странным образом изменяется. Смерть становится безразлична, а ничтожные пустяки готовы перевесить весь мир.
– Бусы! – сказал Искра, широко раскрывая глаза.
Тропинка здесь была уже не такой опасной и узкой, и Харальд, бежавший следом за Эгилем, сумел наклониться к другу:
– Что?..
– Бусы… – повторил Искра, и его веки снова отяжелели. – Бусы… Красные… Жёлтые…
Он продолжал твердить об этих бусах всё время, пока Тойветту и двое датчан, сменяя друг друга, тащили его к охотничьему становищу. Рана, беспокоимая движением и толчками, дважды открывалась и начинала обильно кровоточить. Приходилось останавливаться и заново её унимать. Под конец Искра уже не говорил и даже не шептал, но губы беззвучно произносили всё те же слова.
– И дались ему эти бусы! – сказал Эгиль. – Ты-то хоть что-нибудь понимаешь?..
Харальд, у которого от усталости ум заходил за разум, ответил:
– А помнишь нашу серкландскую танцовщицу? Она носит такие.
Его даже осенило, что Искра в его нынешнем состоянии ни дать ни взять вспомнил несчастную Лейлу, терзаемую посреди двора жестоким Замятней. Сердолик и янтарь на тонком девичьем запястье… Харальд уже привык относиться к Искре как к застенчивому меньшому братишке. Он знал, что юный Твердятич ещё едва отваживался мечтать о ласковых девичьих устах, о нежном объятии рук, обо всём том, ради чего на самом деле живёт всякий мужчина. А вдруг танец заморской плясуньи и зрелище насилия над нею неожиданным образом его разбудили? Вдруг он по-мальчишески влюбился в несчастную девку и возмечтал, как спасёт и защитит её ото всех зол?..
В другое время Харальд гордился бы своей догадкой, ибо конунгу надлежит уметь многое, и особенно – заглядывать в души людей, объясняя и предугадывая поступки. Но Эгиль всё тяжелей отдувался, перетаскивая по сугробам сделанную из плаща волокушу, и Харальд в очередной раз сменил его. На плаще лежали мягкие еловые лапы, а сверху, по-прежнему вниз лицом – Искра. Он был закутан в тёплые одежды, но висок и щека, доступные взгляду, были совсем восковыми, и, наверное, из-за этого Искра казался жалким, худеньким и бесплотным. Харальд налёг грудью на связанные тетивы. Сын гардского ярла на деле был гораздо тяжелее, чем казался. Харальд упрямо склонился вперёд и потащил его так же быстро, как это получалось у Эгиля. У него тоже урчало в животе и по осунувшемуся лицу каплями бежал пот, но он не позволял себе замедлить шаг. Сыну конунга не годится ни в чём ни от кого отставать.
Тойветту, щенок Серебряной Лисы, в Новый Город с ними не пошёл.
– Ты можешь думать обо мне всё, что пожелаешь, – с некоторой даже надменностью заявил он Эгилю, предположившему, что парень просто не смеет показаться на глаза боярину Твердиславу. Повернулся и неутомимой волчьей рысью побежал в лес. Только ёлки махнули вслед усыпанными снегом ветвями…
Глава четвёртая
До настоящей весны было ещё далеко, но в безветренные, вроде нынешнего, деньки румяный дед Солнышко уже улыбался спящей Земле и целовал её, пригревая, готовя к грядущему пробуждению. Даже иной раз высыхали деревянные горбыли мостовой, но, правду сказать, пока редко. Улицы новогородские пытались мостить непролазной осенью, и потому, стоило мёрзлой грязи чуть оттаять, как всё наспех положенное начинало тонуть.
Искра медленно хромал к неблизкому детинцу, опираясь на палку и останавливаясь передохнуть. Он одолел меньше половины дороги и уже понимал, что переоценил свои силы. За порог ступая, храбрился, мечтал на обратном пути завернуть ещё туда и туда, взглянуть, что новенького… Эх! Пока на лавке лежал, мог горы свернуть, а проковылял всего сотню шагов – и одолела дурнотная слабость, и забыл, как направо да налево смотреть, а всего мыслей – не закружилась бы окончательно голова, не смерклось бы в глазах, не упасть бы…
Искра начал выползать из дому всего седмицу назад, но на улицу до сего дня носу ещё не казал. Боялся слабости и безжалостного любопытства соседей: «Так в какое место, говоришь, уклюнула тебя стрела?.. А-а, стало быть, правду люди передают…»
– Он отличный воин и из хорошего рода, и я сожалею, что поначалу был с ним не особенно ласков, – рассказывал Харальд. – Жаль будет, если его сегодня убьют.
Ему, сыну великого конунга, пристало бы ехать в детинец верхом, но молодой датчанин шёл пеш и приноравливался к медленному шагу товарища. И не торопил его, хотя дело, по которому оба они шли сейчас на княжеский двор, вполне могло утвердить или развенчать Харальда как будущего правителя. Душа рвалась поскорей к нему приступить, но побратима, едва не отдавшего за тебя жизнь, бросать не годится. Правда вождя многолика, и это была ещё одна её сторона…
– Торгейр Волчий Коготь, конечно, виновен в том, что не уберёг моего воспитателя, – продолжал Харальд. Искра был совсем зелен лицом, и Харальд готов был, если потребуется, поддержать, подхватить. – Но если бы ты знал Хрольва Пять Ножей так хорошо, как знал его я, ты согласился бы, что не всякий изловчится всюду сопровождать его, если только он сам того не захочет! И потом, Хрольв ярл умер от ран, полученных в славном бою, и все согласны друг с другом, что его противник был великим воителем. Моя сестра Гуннхильд и славная Друмба последовали за ним, и это было великое дело, которое нескоро забудется. Они будут смотреть на сегодняшний хольмганг из пиршественного чертога Вальхаллы. Их души возрадуются на небесах, кто бы ни победил!..
Искра до некоторой степени разбирался в обычаях Северных Стран. Ему понадобилось усилие, чтобы отрешиться от мыслей о следующем шаге, но всё-таки он сказал:
– Твой воспитатель погиб вскоре после вашего отъезда из Роскильде, а теперь весна. Волчий Коготь одолел изрядный путь, да к тому же зимой. Для этого требуется немалое мужество…
– Он дал обет отомстить ярлу твоего конунга, которого считает виновным, – с гордостью подтвердил Харальд. – Торгейр произнёс священный обет, и Винг-Тор освятил его слово ударами Своего молота. Славна месть, за которой едут так далеко!
Торгейр Волчий Коготь с несколькими спутниками-датчанами объявились в Новом Городе на другой день после столь памятной для Искры охоты. Их кораблю не везло в плавании. Осенние бури Восточного моря, которое словене называли Варяжским, жестоко потрепали его, и четверых мореходов подхватила в широкие сети гостеприимная Ран. Ещё шестеро погибли в самом начале пути, в схватке с вендами, неожиданно налетевшими из-за песчаного островка.
– После этого боя люди Торгейра стали советоваться, – рассказал Искре Харальд. – Иным такая неудача на третий день путешествия показалась скверной приметой, и они встали за то, чтобы вернуться и подождать, пока Всеотец не станет благосклонней к их замыслу. Волчий Коготь ответил, что Всеотец, верно, дал им испытание, выбирая достойных. Двое на это сказали, что без него знают, как в таких случаях поступать. Торгейр не стал мешать им и даже дал лодку для плавания назад, потому что в опасном походе немного проку от спутников, которых насильно заставили следовать за вождём. И мало чести хёвдингу, если он бросает своих людей, даже таких, которые сами готовы от него отказаться. Вот так и получилось, что сюда, в Хольмгард, с ним пришло всего пять человек! Я только не думаю, чтобы те двое отважились вернуться в Роскильде и предстать перед моим отцом. Он ведь не похвалил бы их за то, что покинули Торгейра. Они теперь, наверное, скитаются без приюта и крова и горько сожалеют о своём малодушии!
Искра опёрся на правую ногу, всё ещё чужую, тощую и непослушную, и подумал, что люди каждый день принимают решения и делают выбор. Всего чаще это малые решения, от которых ничего не зависит. Колол дрова и одно полено поставил на колоду сначала, а другое потом. Иногда же человек ощущает, как колеблется вся его жизнь, оказавшаяся на распутье. Уж верно, те воины Торгейра хёвдинга понимали, что пролитого не поднимешь…
…Но бывает и так, что мелкие с виду дела, словно маленькие ключи, отпирают или запирают очень большие замки. Взять хоть тот разговор о звёздах возле ночного костра и несколько ничего не значащих слов о скорой перемене погоды, после которых они с Харальдом – а вернее, он, Искра, – надумали пуститься на охоту за оборотнем. Или высказанное вслух сомнение Эгиля, подвигнувшее Тойветту вывести их к самой разбойничьей «кладовой». Искра знал: Серебряный Лис винил в его увечье себя. Так винил, что сам себя отправил в изгнание. Ушёл одному ему ведомыми тропинками в самую лесную крепь, и что там с ним будет и появится ли ещё – лишь всевидящему Даждьбогу то ведомо… Эгиль тоже считал, что в чём-то виновен. Это он усомнился в охотничьем искусстве ижора, а после отправил сына ярла под стрелы вместо того, чтобы самому уводить погоню и, может быть, подставлять под раны свою широкую спину… Эгиль, по счастью, был старше и мудрее, чем Тойветту, и ненужных наказаний на себя не налагал.
…А если разбираться беспощадно, так, как Искра при всей своей молодости уже неплохо умел, – получалось, во всём виноват был только он сам. И стрелу в зад по собственной глупости получил, и отцу седины вдвое против прежнего прибавил. И Эгиль с ижором себя поедом едят ни за что ни про что…
Торгейр Волчий Коготь был высок, русоволос и светел лицом. Настоящий красавец, и женщины Нового Города успели оценить его красоту. У них было для этого время: Торгейр держался обычая родины и даже Харальду изложил своё дело не сразу, а лишь как следует обжившись. Он и теперь, отстаивая свою правоту перед князем, словно бы никуда не спешил. Харальд слушал его и думал о том, что в Северных Странах такая речь, пожалуй, послужила бы доказательством его правоты. Ну не может же, в самом деле, быть, чтобы слова так охотно и радостно слушались обманщика и злодея!..
Торгейр говорил и говорил, и толмач доносил смысл его речей до всех, кто не знал датского языка. Толмач был из датчан, успевших пожить в Гардарики пленниками. Он тоже сочувствовал приближённому Рагнара конунга и старался как мог. Харальд внимательно слушал его и с огорчением убеждался, что плохо ещё освоил гардский язык.
Время от времени Харальд косился на Замятню. Тот молча стоял против Торгейра, окружённый десятком самых верных людей. Он по обыкновению угрюмо косился из-под неровных прядей волос, клочьями свисавших ему на глаза. Он не стал разговорчивее и добрее с тех пор, как избитая рабыня-танцовщица скинула плод, не успевший утвердиться во чреве. Новогородцы, для которых княжеский суд был вехой в череде дней, посматривали на боярина и качали головами, обсуждая возможный исход тяжбы. Молодой датчанин не скрывал, что приехал за поединком, и кое-кто из не любивших Замятню – а таких в Новом Городе было большинство – полагал, что Волчьего Когтя привела сюда не иначе как справедливость Богов. Должен, в самом деле, и на Замятню найтись укорот, не всё ему людей обижать!
Искра сидел на крылечке дружинной избы – друзья-отроки сберегли ему местечко на верхней ступеньке, да ещё подложили толстую овчинную шубу, и он наконец-то смог сесть, не тревожа раненую половинку. Тело, слабое после болезни, вкусило заслуженный отдых, и поначалу Искра просто наслаждался им, не очень-то слушая, что говорил Торгейр. Нежданная забота суровых парней, часто пенявших Твердятичу за малое усердие в воинском деле, растрогала его едва не до слёз. Он щурился на солнце, надеясь, что не все заметят подозрительный блеск его глаз.
– Гой еси, молодой боярский сын, – раздался вблизи негромкий девичий голосок.
Искра поспешно сморгнул, вскинул ресницы – и увидел хромоножку, стоявшую возле крылечка. Он поспешно поздоровался:
– И ты здравствуй, Куделька.
– Скоро совсем поправишься, – улыбнулась девушка. – Я уж и не буду нужна…
Искра покраснел и с поспешной горячностью заверил её:
– Ещё как будешь!
Она показалась ему одетой слишком легко для ветреного, хотя и ясного дня. Искра знал, что его привезли в Новый Город еле живого, и, если бы не две лекарки, по-прежнему обитавшие на батюшкином дворе, – скакать бы ему сейчас в светлый Ирий на огнехвостом, дымной шерсти коне. Боярин Пенёк, конечно, готов был чем только возможно отдарить целительниц за спасение сына, но те объяснили, что какой-то давний обет возбранял им принимать богатые подношения. Так и не приняли от Твердислава ни серебра, ни одежд. Зато обрадовались посулу боярина раздобыть для них любые лекарственные снадобья, что летом привезут в Новый Город купцы. Да и то старая ведунья как-то странно смотрела при этом на Искриного отца. Словно сомневалась, возможет ли он своё слово сдержать…
Пока Искра был совсем плох, девичьи руки, касавшиеся его тела в таких местах, которые людям не показывают, словно бы сами собой разумелись и не причиняли стыда. А теперь вот разговаривал с Куделькой и не знал, куда деть глаза. Всё мерещилось, будто она тоже про то только и думает, как созерцала его беспомощную наготу…
В это время подал голос усатый гридень, сидевший поблизости:
– А ты докажи, девка, что с тебя толк есть. Полезай к парню в шубу, погрей, пока снова душа из тела не запросилась. Нешто не жаль молодца?
Могучий воин не прятал широкой усмешки. Искра залился краской и открыл было рот говорить, но Куделька, к его окончательному смущению, приглашение приняла. Хромая, взобралась на крылечко и спокойно подсела к нему в овчинное тепло – как раз со стороны покалеченного бедра. Некоторое время Искра не мог ни о чём думать, кроме как о её колене рядом со своим. Но вдвоём под шубой было действительно уютнее, чем в одиночку, и он посмотрел на Харальда, сидевшего близ князя Вадима, на малом стольце. Всё-таки Харальд Заноза, сын Рагнара конунга, был в Новом Городе самым знатным датчанином. А значит, обязан был присмотреть за тяжбой своего соплеменника. Чтобы никто потом не сказал, будто справедливость была не полна. Или вовсе не совершилась.
Седовласый Эгиль берсерк и другие воины, приехавшие осенью из Роскильде, стояли за спиной молодого вождя. И, конечно, всем сердцем переживали за Волчьего Когтя.
– Жалко датчанина, – неожиданно шепнула Куделька на ухо Искре. – Такой молодой, красивый, и сердце у него чистое…
– Почему жалко?.. – словно очнувшись и заново почувствовав её рядом с собой, удивился Твердятич. – Слышишь, как он своих Богов в свидетели призывает? Люди говорят, у датчан сильные Боги… И обмана не терпят…
Слова юной лекарки показались ему приговором красавцу датчанину, и верить в услышанное не хотелось. А Куделька вдруг содрогнулась, словно от холода, плотнее завернулась в овчину и чуть слышно шепнула ему на ухо:
– Кто я, чтобы предполагать… Но кажется мне, что за нынешним княжьим судом в самом деле присматривают …
И робко подняла глаза к небу, словно ожидая узреть в синеве Лики, склонившиеся над городом. Искра невольно последовал её примеру, но, конечно, ничего не увидел. Или ему просто не дано было увидеть то, что внятно различал её взор?..
– Ну, держись, боярин Замятня Тужирич, – проворчал усатый гридень. – Дело-то и впрямь к полю. Потешимся!..
Искра встрепенулся – знакомое слово «боярин» что-то необъяснимо стронуло в его памяти, ему показалось, будто он близок был к какой-то разгадке, но вот к какой?.. Искра напряг память, но вотще. Едва мелькнувшее ускользнуло бесследно. Зато неведомо почему вспомнилось одно из мгновений редкого просветления, пока его душа колебалась, в каком мире остаться. Вроде бы над ним, лежащим почти без памяти, склоняется хмурый Замятня и протягивает на ладони блестящую красно-золотистую низку: «Вот они. Ты об этих бусах всё говоришь? Хочешь, я их тебе подарю?..» Искра не был уверен, привиделось ему это в бреду или на самом деле случилось. Почему он до сих пор не удосужился спросить об этом Кудельку? Обязательно надо будет спросить… Но не сейчас и не здесь…
Вслух он сказал:
– Конечно, Боги за нами присматривают, иначе как бы мы соблюдали Их Правду! Ты лучше скажи, почему тебе датчанина жалко? Сама говоришь, чист он…
Куделька отвела глаза.
– Потому, что боярин не подсылал… А неправого суда нынче не будет…
– Откуда знаешь?.. – забеспокоился Искра.
Он вроде был уже не настолько слаб, чтобы заглядывать, как положено умирающему, за пределы зримого мира. Но тут уж ему поневоле причудилась над головой Торгейра бело-алая скорбная фата Государыни Смерти!.. И тоже стало жалко красавца датчанина, несколько раз приходившего вместе с Харальдом к нему в горницу. Ибо что-то подсказывало – Куделька не ошибалась. Захотелось вмешаться, спасти обречённого смерти доброго человека. Но как встрянешь в княжеский суд?.. Тем паче когда сами Боги присматривают?.. Да и с чем бы встревать?..
– А ты что же князю в ноги не пала?.. – зашипел он на Кудельку. – Князь бы, может, их помирил…
– А я не падала?.. – обиженным шёпотом отозвалась хромоножка. – Да что я – сама наставница… Послушал нас Вадим Военежич да и приговорил мудрое слово: ступайте, лекарки, отколе пришли. Без вас Матерь Ладу призовём, чтобы правого с виновным рассудила…
– А к Торгейру самому? Чтобы зря не клепал?..
– Датский боярин нас тоже послушал, – невесело усмехнулась Куделька. – И ответил: я, мол, заклял себя, что сюда доберусь и голову Замятни брошу собакам. И теперь уж от клятвы не отступлю…
Между тем Торгейр завершил свою речь, и с добротно вымощенного пятачка перед княжеским престолом раздался резкий и хрипловатый голос Замятни:
– Красно ты говорил, датчанин, но правды в твоём навете – ни на драную беличью шкурку. Никакого одноглазого убийцу я к твоему Хрольву не подсылал!
А один из доверенных воинов, стоявших за спиной у своего вожака, с усмешкой добавил:
– Тайных убийц пускай подсылает немужественный, кто только на других поклёпы горазд возводить. А наш боярин любого обидчика сам убивает!
– Одноглазого?.. – запоздало прислушался Искра.
– Ну да, одноглазого, – покосилась Куделька. – Ты где был-то, пока они говорили?
Молодой Твердятич ощутил пробежавший по телу мороз: ему сразу вспомнился тот человек с повязкой в половину лица, которого они с Харальдом встретили у лесного зимовья. Искра даже посмотрел на сына Лодброка, сидевшего на малом стольце. Лицо у Харальда было непроницаемое. Искра невольно подумал, что вроде бы успел узнать его достаточно близко и хорошо. Уж заметил бы, явись Харальду на ум та же дикая мысль, что и ему… Искра опять перестал слушать речи тяжущихся и долго смотрел на друга, ожидая, не захочет ли тот тайно встретиться с ним взглядами. Не дождался и, тряхнув головой, почти стыдливо решил: да что, в самом деле, такое!.. Каким образом взяться здесь, в новогородском лесу, тому самому человеку, который на другом конце света убил какого-то датского вельможу? Что ему тут делать-то? Если б ещё вправду Замятня его подослал… Так говорит же Куделька – не подсылал… Да и мало ли одноглазых на свете?..
Наверное, он в самом деле ещё слишком болен и слаб. Вот ему и мерещится. Чудится в каждом слове особый смысл, которого там вовсе и нет…
– Я плохо разумею ваш язык, гардский ярл, – сказал Торгейр Волчий Коготь. – Мало хочется мне ошибиться, и поэтому я спрашиваю тебя: так ли перевели мне слова твоего хирдманна? Верно ли, что он называл меня немужественным мужчиной, а мои слова – ложью?
Замятне словно надоело щуриться на него исподлобья. Он поднял голову и впервые посмотрел на датчанина прямо – глаза в глаза:
– А что ещё про тебя сказать, когда именно таков ты и есть!
Торгейр опустил руку на меч.
– Ты, Вади гарда-конунг! – проговорил он торжественно. – И ты, Харальд Рагнарссон! Этот человек обратил против меня непроизносимые речи. Он сказал, что я не могу занимать место среди мужчин, ибо я, как он думает, не мужчина в сердце моём. Я же отвечаю, что моё мужество ничем его мужеству не уступит!..
Князь Вадим посмотрел на Харальда, и Харальд медленно ответил:
– Если один свободный человек произнёс о другом непроизносимые речи, наш закон велит им встретиться на перекрёстке трёх дорог и биться оружием. Мы называем это хольмгангом…
Вадим согласно кивнул и обратился к Замятне:
– Датчанин поля требует, Тужирич. Выйдешь против него?
– Выйду, княже, – спокойно и коротко ответил Замятня. Он никогда не был речист.
В этот день народу и князю предстояло ещё одно дело, более весёлое. В стольную Госпожу Ладогу отправили гонцов – загодя предупредить о посольстве. О том самом, которое ещё до перелома зимы задумал боярин Твердята Пенёк, а потом высказал свою нелёгкую думу побратимам и князю на святом пиру в ночь празднования Корочуна. Тогда же, как все помнили, светлый князь велел Твердиславу Радонежичу самому готовиться возглавить посольство. Пенёк и готовился. Большим богатством Новый Город покамест похвалиться не мог – всего и жиру, с чем из Ладоги во гневе ушли. Летом, глядишь, купцы припожалуют, слетятся на новый торг, как воробьи на зерно. Но до лета ещё дожить надобно, а посольству временить недосуг. И все предвесенние месяцы мудрый Твердята ходил по нарочитым дворам, собирал где что мог на подношения и дары, ибо какое же замирение без гостинцев?.. И ведь мало-помалу набрал такого узорочья, что даже по самому строгому счёту не стыд было с ним к государю Рюрику ехать. Знал Твердислав: все стонут, все жалуются на бедность, и в казне княжьей впрямь донце просвечивает… а у каждого, если как следует поскрести, кое-что да припрятано. У одного – полон горшок тонких, как листки, серебряных монет из далёких стран, лежащих, если только люди не врут, аж за Хазарией. У другого – затканный золотой нитью плащ, бережно довезённый из самого что ни есть Царьграда. У третьего – золотые и зелёные бусы, как раз на белые шеи жёнам Рюриковых вельмож…
Было замечено, что новогородцы стали много охотнее открывать сундуки, как только узнали – собственный дом Пенёк обобрал куда беспощаднее, чем чужие. У малой дружины своей отобрал серебряные ложки, сказав:
– С вами добуду новой казны, а ныне она для великого дела потребна.
И сам принялся есть старой деревянной ложкой, как все.
Ещё говорили, будто ижоры из рода Серебряной Лисы доставили ему такие меха, о которых князю Рюрику при всей его ласке к этому племени не доводилось даже мечтать.
До сего дня Твердислав никому не показывал драгоценную рухлядь. Сохранял её в кремле, в надёжных ключницах, примыкавших к дружинной избе. Зато нынче перед батюшкой князем, перед важными кончанскими старцами, перед любопытными новогородцами (а народу ото всех концов сбежалось в кремль, как на вече!) долгой чередой прошагали гордые отроки, вынося и показывая собранные дары.
И оказалось – не зря ходил Твердята к серебру кузнецам, подолгу с ними беседовал, к себе в дом зазывал. Сребреники из горшка – вот уж чему никто в Ладоге не удивился бы! – превратились в ковш и два черпака такой дивной красы, что сам былой владелец монет провожал взглядом упоённого ношей отрока, разинув от изумления рот.
А кусочки рыбьего зуба, принесённые из другого двора, в руках чудских косторезов стали кружевными гребешками в костяных же чехольчиках, фишками для игры и такими ложками, что и на серебряную не сменяешь…
Другие узнавали своё – бережёное дедовское наследие, с мукой от сердца оторванное после долгих Твердиславовых уговоров. Узнавали, и почему-то было больше не жаль, и распирала ревнивая гордость за себя и за весь Новый Город, и уже мстился он большой и богатой столицей, достойным соперником Ладоги. Не тем, чем он пока был в действительности – кукушечьим гнездом беспорточных беглецов, еле переживших на новом месте свою первую зиму…
– Экую силу повезёшь, Радонежич!.. – со смехом окликнул кто-то Твердяту. – Смотри, Пенёк, болотные разбойники не позарились бы!..
Слышавшие весело захохотали. Все, кроме Кудельки, так и сидевшей подле боярского сына. Искра бедром и боком почувствовал, как она вздрогнула. И решил: надо будет всё же уговорить её взять в подарок тёплую свиту. Из хорошего привозного сукна. Чтобы не простудилась на весеннем-то ветерке. А то сама заболеет – кто ж после этого к ней хворь свою понесёт?..
Божий Суд между Торгейром Волчьим Когтем и Замятней Тужиричем состоялся на рассвете третьего дня после княжеского приговора. Ещё накануне Харальд рассказывал Искре:
– Эгиль берсерк чуть не подрался с хирдманнами вашего ярла, уговариваясь о достойных правилах хольмганга. Здесь нигде нет перекрёстка трёх дорог, если не считать маленьких тропок, и у вас, как мы узнали, не принято сражаться на растянутом полотне. Ваши воины почему-то не втыкают ореховых прутьев и не приводят помощников с тремя запасными щитами…
Увечный Твердятич едва не обиделся:
– Это не мешает Перуну и Матери Ладе простирать над нами Свою справедливость! А нам – взывать к ней с мечами в руках, если иным судом истины не достигнуть!..
– Вади конунг хотя и молод годами, но мудр разумом, – утешил его Харальд. – Я спросил его, признают ли у вас в Гардарики наготу воина угодной Богам, и он ответил, что издревле признают, а потом спросил меня, отчего Божий Суд в Северных Странах называют «походом на остров», и я рассказал. Ещё я рассказал, что тело нидинга, отвергнутого Богами, хоронят в земле, на которую не зарятся ни суша, ни море. Тогда было решено, что выстроят плот и пустят его по реке, и те двое будут нагими биться на нём, как на маленьком острове, ни в чём не имея преимущества друг перед другом. Эта река течёт в море – вот пусть она и распорядится плотью того, кому суждено пасть…
Искра только вздохнул. Он, может, и дохромал бы как-нибудь до места священного поединка – охота пуще неволи! – но этого ему, не заслужившему полного воинского достоинства, не будет позволено. Только старшей дружине, опоясанным кметям, избранникам Бога Грозы, разрешается лицезреть Его справедливость…