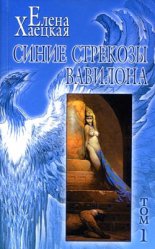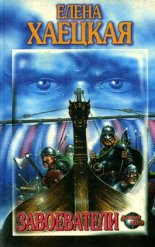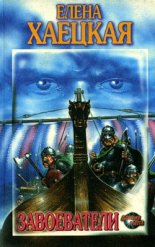Дезертир Валентинов Андрей
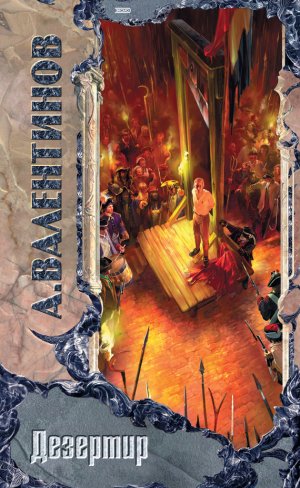
– Что с вами? Вам помочь?
Ответа долго не было. Наконец послышалось негромкое:
– Оставьте меня.
Я вздрогнул – голос был женский. Молодая женщина в странном рубище, похожем на темное покрывало… Нищенка? Но что ей тут делать в холодную осеннюю ночь?
– Вы больны? Я позову врача…
– Нет. Я не больна.
Она подняла голову, и наши глаза встретились. В ее взгляде я не уловил ничего – только странную пустоту. Мелькнула догадка, что передо мной – слепая. Но я тут же понял – нет, дело в другом…
– Оставьте меня, сударь. Я не больная. Я… Я мертвая.
Слова ударили, словно обухом. Я умер! Я умер давно… Мертвец встретил мертвеца!
– Так не бывает, сударыня! – На миг я закрыл глаза, пытаясь собрать остатки воли. Я мертв, но эта несчастная – жива. Ей надо помочь…
Ее рука оказалась неожиданно теплой. Пульс бился ровно и четко. Я облегченно вздохнул.
– Сейчас кого-нибудь позову… Кто вы, сударыня? Где вы живете? Вас надо отвезти домой.
В пустых недвижных глазах внезапно мелькнула боль.
– Я – никто. Оставьте меня, сударь! Меня… Я должна… Я обязательно должна… Я не помню!
Я окончательно пришел в себя. Бедняжка просто больна. Красивая молодая женщина, очень приметное лицо, небольшая родинка на левой щеке, пряди светлых волос, выбивающиеся из-под покрывала. Похоже, с нею случилось то же, что и с несчастным священником, попавшим в руки красных колпаков…
– Подождите!
Я огляделся и с облегчением заметил вдали, в неярком свете фонаря троих парней в синих шинелях. Патруль! Наверно, впервые в жизни я обрадовался патрулю «синих».
– Подождите минуту, – повторил я. – Сейчас мы вам поможем…
К сожалению, граждане патрульные не отличались толковостью. У меня потребовали гражданское свидетельство, долго его изучали, затем решили, что здесь не хватает света, а посему надо подойти ближе к фонарю… Когда вопрос со мной разъяснился, меня наконец соизволили выслушать. Увы, когда мы подошли, у стены уже никого не было. Несчастная женщина исчезла, и я мысленно выругал бестолочей санкюлотов, а заодно и себя самого. Как можно было оставлять ее одну? Ищи ее теперь по холодному ночному городу!
Я попытался объяснить, что следует организовать поиски, поскольку ночь ожидалась холодная, да и лихих людей в этаком безлюдье встретить совсем немудрено. На это мне было категорически заявлено, что «меры» будут приняты, а мне следует отбыть по месту жительства, ибо нечего «доброму патриоту» бродить ночью по улицам. На физиономиях граждан санкюлотов при этом читалось явное желание спровадить меня подальше, дабы не путался под ногами. Моя просьба разрешить мне остаться и поискать пропавшую самому была пресечена самым решительным образом, и один из парней взялся проводить меня до угла улицы Серпант. Она оказалась совсем рядом – я действительно сделал лишний поворот и теперь был вынужден пройти по улице Л'Эпереон до ближайшего перекрестка. Напоследок я спросил, что это за место, и равнодушный ответ парня в синей шинели заставил вздрогнуть. Кладбищенская улица… Там, за серой каменной стеной, кладбище Дез-Ар. Неудивительно, что бедная, потерявшая разум женщина бродила по этим мрачным местам. И я еще раз пожалел, что оказался столь нерасторопен.
Ночью ударил мороз. Утро выдалось холодное, а уличную брусчатку и красные черепичные крыши покрыл тонкий слой свежего хрустящего снега. Удивительно, но спал я крепко, без сновидений. На душе было странное спокойствие, словно все главное уже сделано. Наверно, такое чувство бывает перед похоронами, когда дроги поданы, факельщики выстроены в ряд, священники читают молитву, и осталось лишь спокойно идти за катафалком до близкого погоста. Фиакр, который я поймал сразу за углом, оказался под стать дрогам – старый, скрипящий, да и кучер попался мрачный и неразговорчивый, словно и в самом деле собирался везти меня на кладбище, а не на площадь Роз. Впрочем, мне было не до разговоров. Я глядел на красивый и чужой город, покрытый первым осенним снегом, и думал, что все случившееся похоже на сон. Сейчас эти улицы, дома, река, покрытая у берегов тонким неверным льдом, исчезнут, и я вновь увижу серое, такое близкое небо, а вокруг будет старая пожелтевшая трава и черные деревья, стерегущие лионскую дорогу. Зачем я здесь? Скорее бы все кончилось…
Я не сразу услыхал голос кучера. Очнувшись, я понял, что мы стоим, вокруг – невысокие двухэтажные дома, окружавшие маленький, мощенный старым булыжником пятачок. Площадь Роз была подозрительно безлюдна, лишь над трубами клубился дым, а у входа в хлебную лавку толпилась небольшая очередь совершенно безнадежного вида.
В первый миг я растерялся. Почему-то казалось, что я узнаю это место сразу. Нет, ничего не вспоминалось, а тот, кто иногда подсказывал мне, на этот раз молчал. Я не спеша обошел всю площадь, заметив несколько подозрительных взглядов, брошенных на меня из очереди, и в растерянности остановился. Нет, я представлял это место совершенно иначе…
– Кукареку, гражданин! Чего ищете?
От неожиданности я вздрогнул, оглянулся, но никого не увидел.
– Кукареку! Не туда смотришь, дылда!
Я действительно смотрел не туда. Следовало нагнуться, чтобы заметить того, кто так оригинально меня приветствовал. Мальчишка – маленький, в рваной куртке, еще более рваных штанах и огромных деревянных башмаках. Чумазая рожица ухмылялась, и эту ухмылку ничуть не портило отсутствие переднего зуба. В довершение всего голову огольца украшала огромная шляпа, налезавшая ему на самые брови. На шляпе красовалась большая трехцветная кокарда.
– Кукареку, – вздохнул я. – Чего надо, малыш?
– Я вам не малыш! – Рожица внезапно приобрела суровый вид. – Меня Огрызком кличут, а вообще-то я – гражданин Тардье, вольный санкюлот секции Обсерватории. А вы, гражданин, выкладывайте, чего ищете, а не то я патруль кликну…
– Действительно кликнешь? – поинтересовался я, в который раз оглядывая площадь. Ничего похожего ни на кафе, ни на кабачок. Ни вывески, ни открытых дверей, ждущих посетителей…
Малец задумался, наконец хмыкнул:
– Не, не кликну. Потому как у вас вид, гражданин, вполне патриотический. И кокарду вы носите! А вы говорите, чего надо, может, и найдете – с моей помощью!
– «Синий циферблат», – решился я. – Это кабачок, там сидр подают…
Внезапно глаза гражданина Огрызка стали очень внимательны, он оглядел меня с головы до ног и наконец решительно заявил:
– Три ливра, гражданин! Как раз мне на «петрушечницу» будет.
– На что? – удивился я, доставая пару ассигнатов.
– Сразу видно, деревня! – Оголец сплюнул, растер плевок деревянной подошвой и снисходительно пояснил: – «Петрушечница», гражданин, это агромадный ломоть говядины с петрушкой, да с маслом, да с уксусом. Полное объедение для тех, кто понимает! Только… вы мне не то дали. Я три ливра просил! А вы мне бумажки даете.
– А ты точно здешний? – полюбопытствовал я. – «Петрушечницу» заслужить надо!
В ответ послышался свист.
– Здешний! Да я здесь каждый булыжник по имени знаю! И меня все знают! Я летом обычно прямо тут, на площади, и ночую. Навес здесь летом ставят, очень удобно. А зимой больше по чердакам. Холодно, правда…
Я вновь взглянул на санкюлота из секции Обсерватории, хотел спросить, где же его родители или хотя бы родственники, но понял, что такой вопрос ни к чему. Парень живет на улице, носит деревянные башмаки на босу ногу и хочет заработать на кусок хлеба с говядиной.
Я достал гинею и показал ее гражданину Огрызку.
– Проведешь – твоя! Знаешь, что это?
Вновь послышался свист, на этот раз изумленный.
– Золото Питта! С портретом злодея и тирана Георга III!
– Держи!
Гинея тут же оказалась в его грязной лапке, оголец подпрыгнул, отчего шляпа съехала на ухо, и внезапно завопил что есть силы:
- Король Георг хотит напасть
- На Францию – ха-ха!
- За это мы в его дворец
- Подпустим петуха!
После чего, спрятав гинею за щеку, совершенно нелогично закончил:
– А лучше бы вы мне, гражданин, три ливра дали!
Подобная щепетильность показалась мне странной, малец же, потоптавшись немного на месте, поглядел на меня как-то нерешительно и наконец вздохнул:
– Ну чего, пошли, гражданин Деревня!
Идти оказалось совсем недолго – не больше десятка шагов. Обычный дом, мимо которого я уже прошел не меньше двух раз, – старый, двухэтажный, под красной, припорошенной снежком черепичной крышей. Только двери и окна первого этажа оказались заколоченными крест-накрест, а на одной из дверных створок красовался цветной бумажный плакат.
– Вот он, – гражданин Огрызок кивнул на закрытые двери и снова сплюнул. – Был «Циферблат», да весь вышел. Закрыто именем Революции! Папашу Молье, что заведение держал, с «бритвой» повенчали, а кабачку, понятно, – каюк!
Все еще не веря, я зачем-то потрогал дверь, взглянул на плакат, на котором красовалась знакомая надпись «Республика, Единая и Неделимая…», и вдруг почувствовал, что все вокруг исчезает, покрывается серым плотным туманом, проваливается в никуда. Вот и пришел… И эта дверь оказалась закрытой. Зря, все зря! Господи, все зря! Надо было остаться там, у лионской дороги, где небо казалось таким близким…
– Да чего с вами, гражданин? – детский голос донесся откуда-то из невероятного далека. Я с трудом открыл глаза и вновь увидел шершавые доски, закрывшие вход. – Чего с вами? – мальчишка дергал меня за руку, и в его голосе уже слышалась тревога. – Да вы ж сейчас на землю брякнетесь! Захворали, что ли?
Я покачал головой и вдруг понял, что в самом деле сейчас упаду. Оставалось сесть у холодной стены, закрыть глаза и больше ни о чем не думать. И вдруг мне вспомнилась женщина на пустой ночной улице. «Оставьте меня! Я не больная… Я мертвая…»
Все-таки я не упал и остался стоять, правда, для этого пришлось уцепиться рукой за твердое сырое дерево. Я даже нашел в себе силы улыбнуться:
– Все в порядке, гражданин Тардье! Скажи, кроме хозяина, здесь кто-нибудь еще жил? Кто-нибудь остался?
Малец задумался.
– Не-а, – наконец изрек он. – Тетка Анна-Мари, супруга ихняя, еще в прошлом году померла, и служанка померла. Двое слуг еще было, они наверху жили, так, когда старого в Консьержери потащили, они со страху небось до самой Мартиники сбежали. А вы кого ищете?
– Никого, – вздохнул я. – Уже никого…
Действие 2
Некий шевалье занят не своими делами, или Кладбище Дез-Ар
Тьма была вязкой, густой, она была всюду, перед глазами плавала чернота, и я исчез, растворился в этой тьме, став ее бессильной частью. Время пропало, исчезли мысли, сгинула боль. Только какое-то странное чувство легким эхом еще отзывалось в меркнущем сознании. Тоска? Разочарование? Думать не хотелось. Тьма скрывала мир, и это приносило облегчение. Долго, долго, почти вечность я оставался наедине с бесконечной ночью, и менее всего хотелось возвращаться обратно – в отвергнувший меня мир, чужой и жестокий…
Этот мир не исчез. Самым краешком, каким-то маленьким уцелевшим обрывком сознания я понимал, что лежу на кровати, на жестком плотном покрывале, рядом – прямо на полу – черной грудой сброшен плащ, в окно струится неяркий солнечный свет, но все это было очень далеко, за темнотой. Уже утро, я пролежал так весь день и всю ночь, не сняв камзола, даже не сбросив туфли. Впрочем, ни эта комната, ни это холодное утро уже не имели ко мне никакого отношения.
Я слышал и голоса. В коридоре шумели, кто-то громко спорил возле самой двери, затем, кажется, послышался легкий скрип. Сознание – тот жалкий обрывок, что еще оставался у меня, – фиксировало происходящее спокойно и равнодушно. Да, дверь скрипнула, кто-то стал на пороге, кто-то вошел и остановился у моей кровати…
Меня позвали, но это было не мое имя. Звали другого – того, к которому я не имел отношения. Не имел. Не хотел иметь…
– Гражданин Шалье! Гражданин!
Кто-то потряс меня за плечо – и внезапно тьма исчезла. Я ощутил боль – и страх. Снова… Снова меня не хотят оставить в покое…
– Гражданин Шалье!
Того, кто стоял надо мной, я никогда не встречал. Крепкий чернявый парень в модном сюртуке, глаза внимательные, настороженные… Он не один – кто-то сидит в кресле в дальнем углу.
– Вы что, с открытыми глазами спите?
Тон был спокойным, но в этом спокойствии проблескивали искры нетерпения. Я вздохнул. Что ж, национального агента Шалье все-таки нашли. Сейчас лучше всего признаться – и тогда все кончится по-настоящему. Дважды не умирают, но эти двое найдут способ избавить меня от необходимости оставаться в этом мире. Они мастера – мастера Смерти…
Я невольно улыбнулся – и внезапно замер. Нет, я напрасно роптал! Я не смог узнать, что ждало меня в «Синем циферблате», но оставался еще один путь. Я попытаюсь понять, кем я был! И тогда дорога обязательно приведет к тому, что еще держало меня на земле! Они ищут Шалье – а я буду искать…
– Доброе утро, граждане!
Я не спеша встал, поправил камзол, провел руками по волосам. Да, в комнате двое, дверь плотно закрыта, плащи гостей брошены на спинки стульев, а тот, второй, что обосновался в дальнем углу, сидит, почему-то отвернувшись.
Я подошел к тазу, плеснул в лицо воды и долго вытирался толстым льняным полотенцем. Наконец вновь поправил волосы и присел на кровать.
– Я, кажется, не приглашал вас, граждане!
Чернявый, похоже, слегка растерялся, но тут послышался голос того, второго, – негромкий, чуть дребезжащий:
– И были абсолютно правы, гражданин Шалье. Но, к сожалению, гражданин Шовелен, которого вы ждали, не сможет прийти. Он в Западной армии, и, боюсь, надолго. Отныне вы будете работать с нами.
– Амару, – чернявый подал широкую короткую ладонь. – А это – гражданин Вадье.
Гражданин Вадье медленно встал – и я чуть не присвистнул, не хуже юного санкюлота Тардье. Мой второй гость был копией Вольтера – по крайней мере, копией его портрета работы Гудона. Длинный нос, глубоко посаженные маленькие глаза, ехидная усмешка. Правда, этот Вольтер был слегка потолще и помоложе, вдобавок носил большой темный парик, но сходство все же поражало.
Было еще одно существенное различие. Философ не сотрудничал с Комитетом общественной безопасности, а тем более не был его председателем. Вадье, Амару, Шовелен – подписи, стоящие на удостоверении национального агента Шалье.
– Как вы меня нашли?
Гости переглянулись, а я между тем прикинул, что, вероятно, с Шалье сотрудничал отсутствующий здесь гражданин Шовелен. Эти двое с Шалье никогда не встречались. И кроме того, моя вчерашняя гостья, похоже, никак с ними не связана. О «друге» они не догадываются…
– Это было нетрудно, – гражданин Вадье снисходительно усмехнулся. – О вас доложили с Сент-Антуанской заставы. Остальное, как вы понимаете…
– Мы знали, что вы – человек очень осторожный, – быстро заговорил чернявый Амару. – Значит, вы постараетесь достать новые документы. Легче всего вам это сделать в Сен-Марсо…
– Поэтому мы отдали приказ проверить все гостиницы и пансионы, дабы установить, кто из новых постояльцев предъявил гражданское свидетельство, выданное секцией 10 Августа. – Вадье покачал головой. – К сожалению, эта работа заняла чуть больше времени, чем я думал. Наши люди, увы, не всегда расторопны…
Я кивнул, еле удержавшись от ответной усмешки. Всесильный и всевидящий Комитет Вольтера в черном парике искал меня больше двух суток. «Друг» справился с этим за пару часов.
– Итак, гражданин Шалье… – Амару выжидательно поглядел на меня, затем на гражданина Вадье, но оба мы молчали. Поэтому чернявый заговорил сам: – Мы понимаем, вы хотели бы отдохнуть. Вы это, конечно, заслужили, гражданин Шалье. Работа, которую вы вели в Лондоне и Кобленце, а особенно в Лионе, выше всяких похвал. То, что вы сумели уничтожить Руаньяка, – это настоящий подвиг…
– И если гражданин Шалье пожелает, в его честь будет устроено празднество с общественным обедом и шествием к храму Разума, – гражданин Вадье хихикнул и потер руки. – Если хотите – увенчаем вас лавровым венком. Можно – пальмовым…
– А дубовым? – охотно отозвался я. – Как в Древнем Риме?
В ответ – довольное хихиканье. Гражданин Вадье почесал кончик длинного носа и откинулся на спинку стула:
– В Древнем Риме, гражданин Шалье, дубовым венком награждали за спасение товарища в бою. Вы же отправили Руаньяка, который считал вас своим товарищем, аккурат на эшафот.
Я вздрогнул. Шкура национального агента Шалье показалась мне внезапно свинцовой.
– Эшафот был построен напротив Лионской биржи. Над нею повесили трехцветный флаг, а рядом – черный…
Слова вырвались сами собой. Я видел это! Нет, не я! Видел тот, кем я был прежде. Красивое двухэтажное здание, построенное совсем недавно, с лионским гербом над крышей. Герб, впрочем, был тоже завешен черным…
– Помню! – Вадье кивнул. – Я ведь тоже жил когда-то в Лионе, гражданин Шалье. Но этого здания уже нет. Гражданин Кутон приказал снести его в первую очередь.
Снести? Что за глупость! Зачем? Но я тут же вспомнил. Французская Республика, Единая и Неделимая, постановила: город Лион будет уничтожен до основания!
– Кстати, вы были правы, – в разговор вновь вступил гражданин Амару. – Помните, в последнем докладе вы предсказали, что армия Святого Сердца постарается скрыть смерть Руаньяка? Поэтому мы и решили казнить его привселюдно, но… Но сейчас этой шайкой снова командует какой-то Руаньяк!
Я вспомнил рассказы, слышанные от славных бойцов роты Лепелетье. Маркиз де Руаньяк умел появляться в двух местах одновременно, уходить из любых ловушек. Теперь, похоже, он решил обмануть саму Смерть!
– Но это ничуть не умаляет вашей заслуги, – подхватил Вадье. – Настоящий Руаньяк мертв – и это главное. Мы избавились от очень опасного врага. Вы сами писали гражданину Шовелену, что Руаньяк – страшнее Вандеи, страшнее даже Кобленца. Лион показал, что вы правы.
Я старался смотреть в сторону, чтобы проницательный старик не перехватил мой взгляд. Успокаивало лишь то, что настоящий Шалье, скорее всего, мертв, как и преданный им Руаньяк. Как и я сам…
– Надеюсь, мы вам достаточно воздали хвалу? – гражданин Вадье сцепил на колене длинные узловатые пальцы и вновь усмехнулся. – Или продолжить?
Я покачал головой. Этот разговор пора заканчивать. Ведь меня могут спросить о том, что знал настоящий Шалье!
– Мы хотели бы узнать… – Амару встал, прошелся по комнате. – Вы ведь были рядом с Руаньяком почти до самого конца, он вам верил… Как он оценивал то, что случилось в Лионе? Я имею в виду, неудачу восстания…
– Почему – неудачу? – Слова вновь вырвались сами собой, и я сообразил, что знаю ответ. Я помнил! Неизвестно откуда, как, но помнил!
Внезапно захотелось курить. Я подошел к столу, раскрыл коробку с папелитками и тут же заметил удивленный взгляд старика. Похоже, гражданин Шалье курил что-то другое. Или вообще не курил. Впрочем, привычки могут меняться. Я с удовольствием затянулся, присел и, помолчав, начал. Слова рождались одно за другим – не приходилось даже задумываться.
– Лион – не поражение. Это блестящий успех антиякобинских сил. Впервые удалось объединить всех, от бриссотинцев до роялистов, под единым – белым – знаменем. Это – первое…
Амару осторожно присел на стул и замер. Я едва сдержался, чтобы не усмехнуться ему в лицо.
– Хочу напомнить, лионское восстание никто не готовил. Оно вспыхнуло само собой, из-за нелепых выходок местных якобинцев – таких, как Шалье Лионский. И армию Святого Сердца позвали на помощь только через месяц. И все же удалось почти на полгода задержать у Лиона целую республиканскую армию. Под влиянием Лиона восстали Марсель и Тулон. Тулон, по-моему, до сих пор не капитулировал…
Меня слушали затаив дыхание. Странно, ни о чем подобном я не думал – и не вспоминал. Сейчас вместо меня говорил кто-то другой…
– Это – второе. Восстания в Лионе, на юге и, конечно, в Вандее на целый год лишили Республику возможности вести наступательные операции на внешнем фронте. Это – третье. Третье, но не главное…
Наверно, следовало замолчать – говорить такое гражданам инквизиторам было опасно. Но мне не хотелось останавливать того, другого. Он говорил из могилы – и пусть эти двое, считающие себя победителями, послушают!
– Лион – это опыт! Удачный опыт единого антиякобинского фронта. И этот опыт будет применен в ближайшее время, но уже не в Лионе, не в Нанте, а непосредственно в Париже. Если армия Святого Сердца сумела объединиться с добрыми лионцами, то почему бы не сделать этого же с добрыми парижанами?..
Я перевел дыхание и на миг прикрыл глаза. Тот, кто подсказывал мне из-за черной пелены, мог быть доволен. Я стал его голосом. И, кажется, этот голос здорово напугал моих незваных гостей!
– Мы догадывались… – Вадье сжал тонкие бесцветные губы и покачал головой. – Я говорил еще в сентябре… Но в Париже не осталось сторонников Бриссо – об этом Комитет позаботился.
– Но есть другие, – я вновь еле удержался от усмешки. – Кто такие бриссотинцы? Болтуны, краснобаи – и трусы. А вот если против якобинцев выступит голытьба Сент-Антуана… И совсем не обязательно, чтобы знамя было белым. В Лионе тоже вначале подняли красное. Не так давно якобинцы сумели натравить голытьбу на бриссотинцев. А ведь те были виновны лишь в том, что стояли у власти. У власти, которая не могла снабдить народ хлебом. Хлеба, кажется, по-прежнему не хватает…
– Санкюлотский бунт, – тихо проговорил Амару. – Санкюлоты под белым флагом… Какой ужас!
– Вы правы, – Вадье вздохнул. – Беднота уже сейчас готова разорвать любого, кто чисто одет и ездит в экипажах. Вчера толпа напала на одного молодого человека. Бедняга только что сшил себе новый редингот. Ему оторвали руки. Не отрезали, не отрубили – оторвали! О гражданке Мерикур[22] вы, наверно, уже знаете… А впереди – зима, хлеба уже сейчас не хватает…
– А кое-кто из наших товарищей спешит подлить масла в огонь! – резко бросил Амару. – Эбер в каждом номере предлагает резать богатых, этот сумасшедший Ру даже из тюрьмы призывает к восстанию, и даже гражданин Шометт… А ведь он – прокурор Коммуны! Мы не можем заставить его замолчать!
– Руаньяк прав, – перебил Вадье. – Его агентуре есть чем заниматься в Париже. Но мы примем меры, обязательно примем! Второго Лиона не будет!
Теперь мы, все трое, молчали. Стало слышно, как скрипят повозки за окнами, как мамаша Грилье распекает кого-то из «граждан коридорных». Я тоже молчал, не зная, что делать. Почему-то думалось, что удастся узнать нечто важное о себе самом. Не о Руаньяке, погибшем на гильотине, не об исчезнувшем шпионе Шалье, а о том, кто встретил смерть по имени Бротто. Но надежда обманула…
– Поэтому вы останетесь на нелегальном положении, – Вадье грустно усмехнулся. – Мы ведь действительно хотели рассекретить вас и ввести в состав Комитета. Так что насчет праздника в вашу честь я почти что и не шутил. Но сейчас началось что-то странное в самом Комитете. Вы нам понадобитесь в ином качестве… Гражданин Амару, расскажите.
Амару кивнул, на минуту задумался и затем заговорил – быстро, но четко, словно актер, хорошо выучивший роль. В его речи прорезался странный акцент. Я на миг задумался и понял – пикардийский. Чернявый откуда-то с запада…
– Это связано с ликвидацией Ост-Индской компании, гражданин Шалье. Вы, наверно, знаете, в октябре Конвент принял декрет…
Внезапно я потерял всякий интерес к разговору. Какое мне дело до интриг, заговоров, всей этой бесполезной суеты? Все, что можно узнать у этих двоих, я уже узнал. Кажется, я не просто защищал Лион в рядах армии Святого Сердца. Я знал маркиза де Руаньяка, слышал его голос, он доверял мне. И я видел его гибель на гильотине – на площади у Лионской биржи. Перед тем, как сам встретился со смертью по имени Бротто…
Однако приходилось слушать. Может, рассказ чернявого натолкнет на какую-то ниточку, на еле приметный следок. Но имена были незнакомы, а вся история напоминала дешевый авантюрный роман.
Еще в октябре – Амару, к счастью, называл месяцы по-старому, без всяких нивозов и брюмеров, – Конвент принял решение ликвидировать знаменитую Ост-Индскую компанию, причем на самых выгодных условиях. Дело прошло почти незамеченным, но 14 ноября, то есть совсем недавно, депутат Шабо выступил в Конвенте, заявив, что ликвидация компании – это афера, на которой нажились не только ее хозяева, но и многие депутаты, получившие немалые взятки. Шабо обвинил многих – и «левых», соратников Эбера, и «правых» – друзей Дантона – Делоне и Фабра д'Эглантина. А главное, он сообщил, что за всем этим стоят роялистские заговорщики барон де Батц и банкир Бенуа. Особо досталось Комитету общественной безопасности, который якобы все знал, но ничего не предпринял…
– А вы действительно знали? – поинтересовался я, глядя на взволнованного гражданина Амару. Тот пожал плечами:
– Шабо приходил ко мне накануне. Я велел ему молчать. А что мне было еще делать? Этот дурак… Если он, конечно, дурак…
Я понял и усмехнулся.
– Так это была ваша операция?
– Ну конечно! – чернявый махнул рукой. – Такое проделывалось не в первый раз! Нам нужны были деньги на специальные операции. Дантон нам помог – он впервые провернул нечто подобное еще год назад. Де Батц через этого банкира должен был реализовать фонды компании в Англии и Швейцарии. Де Батц, конечно, негодяй, но не признаваться же в Конвенте, что он наш сотрудник! Ну а в результате…
– А в результате, – неторопливо заговорил гражданин Вадье, недобро кривя узкие губы, – в результате операция сорвана, скомпрометирована масса народу, де Батц перепугался и ударился в бега. Наш Комитет под ударом… Кто выиграл?
– Тот, кто остался чистым, – предположил я.
Амару хмыкнул:
– Таких мало. Правда, есть один человек… Именно к нему побежал Шабо, когда я отказался арестовать де Батца. Именно этот человек велел ему выступить в Конвенте. И сейчас он… этот человек… требует провести самое тщательное расследование. Скорее всего, арестуют Делоне, возможно – д'Эглантина. Эбер ходит белый и пытается оправдываться. Эбер! Никогда его таким не видел. А этот…
– Не он один, – негромко добавил Вадье. – Никто из его Комитета не затронут. Очень красиво получилось…
Меня не тянуло разгадывать ребусы, но тот, кто подсказывал мне, решил эту несложную задачку и продиктовал ответ. Ответ был прост. «Чистым» оказался Комитет общественного спасения и его председатель. Тот, чья подпись стояла первой на документе национального агента Шалье. Гражданин Максимилиан Робеспьер, давно уже невзлюбивший как Эбера, так и Дантона, а заодно и своих «братьев» из конкурирующего Комитета безопасности. Да, действительно красиво получилось! Но я-то тут при чем?
– Выход один, – продолжал Амару. – Найти де Батца и уговорить его дать показания перед Конвентом. Ни мне, ни другим не поверят – мы ведь в списке гражданина Шабо. Но де Батц боится. Ведь если в этом случае он выполнял наш приказ, то за иные грехи ему не оправдаться. Он слишком замаран…
– Агент-двойник, – понял я, и Амару согласно кивнул:
– Даже хуже. Де Батц – авантюрист, он торговал информацией налево и направо. Говорят, барон связан даже с организацией д'Антрега. Но нам он бывал очень полезен…
– Найдите де Батца! – Черный парик гражданина Вадье дрогнул. – Вы же знаете его еще по Лондону! Найдите – и уговорите дать показания…
– Обещайте ему безопасность! – подхватил Амару. – И деньги – сколько он хочет. Впрочем, что ему обещать, вы сами знаете.
Я знал этого барона? Нет, его знал не я, его знал национальный агент Шалье! Но фамилия показалась почему-то памятной. Может, и я прежний был знаком с этим авантюристом? И он тоже знал меня – настоящего?
– Он прячется, но, скорее всего, появляется иногда в «Фарфоровой голубке» – это неподалеку, секция Пик, – продолжал Амару. – Барону некуда деваться из Парижа, его приметы известны всем заставам. Постарайтесь управиться побыстрее…
– И соблюдайте осторожность, – заключил Вольтер в черном парике. – Лучше всего днем не выходить из гостиницы.
– А в Оперу сходить можно? – самым невинным тоном поинтересовался я.
Гости переглянулись, и на губах гражданина Вадье я заметил знакомую усмешку.
– Ну конечно, вы же любитель оперы! Гражданин Шовелен рассказывал… Нет, в Оперу лучше не ходить. По крайней мере, пока. Никто, кроме нас, не должен знать, что вы в Париже.
Я покорно кивнул, окончательно убедившись в любопытном обстоятельстве. Эти двое не знали о «друге», не знали о третьей ложе в Опере, не знали о приглашении…
Гости уже откланивались, причем гражданин Амару вновь попросил поторопиться с розысками де Батца, обещая заглянуть через пару дней. С трудом дождавшись, пока дверь закроется, я извлек из коробки новую папелитку и закурил, пытаясь привести мысли в порядок. Все не так уж и плохо. Занятые своими интригами, граждане из Комитета общественной безопасности сами подсказали, по какой дороге идти. Дороге, которая оборвалась у «Синего циферблата»…
Спешить я все же не стал. Даже если я найду де Батца… Интересно, почему они уверены, что мне это по силам? Наверно, национальный агент Шалье неплохо знал не только барона, но и его укрытия в Париже. Но я ведь не Шалье! Если де Батц знает меня прежнего, то, возможно, постарается любой ценой избежать этой встречи…
Так ничего и не решив, я спустился вниз – и столкнулся нос к носу с мамашей Грилье. Деваться было некуда. Пришлось выслушивать упреки за то, что я ее изрядно напугал, ибо целый день не выходил из комнаты и даже на стук не отзывался. И если бы не добрые граждане, сумевшие таки до меня достучаться, пришлось бы ломать дверь, поскольку ее долг, как хозяйки, бдить, дабы с гражданами жильцами ничего скверного не сотворилось, а равно чтобы упомянутые граждане сами не сотворили чего во вред Революции. При этом мадам Вязальщица поглядывала на мою скромную персону с явным недоверием. Спасло лишь то, что приближалось время очередной «связки» и мамаша Грилье спешила на площадь Революции, где ее почтенные товарки уже заняли ей место у самого эшафота.
Нам было не по дороге. Немного подумав, я покинул «патриотическую» гостиницу и, поймав фиакр, попросил отвезти себя туда, где добрые парижане могут приодеться. Как выяснилось, лучше всего это сделать в Пале-Рояле, то есть, конечно, не в Пале-Рояле, а во Дворце Равенства, где модные лавки по-прежнему к услугам тех, у кого в кармане имеются не только бесполезные бумажные ассигнаты.
Я подобрал себе новенький редингот, галстук и темную шляпу. Заодно купил трость и монокль, который смотрелся все же приличнее, чем очки. Добродетельный буржуа из провинции исчез, а вместо него на меня из тусклого зеркала глядел пресыщенный жизнью щеголь, брезгливо щурившийся через круглое стеклышко монокля. Что ж, в этаком виде вполне можно и заглянуть в Оперу. Сделать это надо, ибо я не был там уже два вечера. Пустующая ложа может вызвать у моего «друга» вопросы, а объясняться еще и с ним никак не хотелось. Хотя бы потому, что «друг» наверняка знает настоящего Шалье. Правда, он мог не утерпеть и лично заглянуть в Оперу. Оставалось надеяться, что тот, кто не советовал мне пить «яд свободы», по-прежнему очень занят.
В этот вечер давали «Ипполита и Арисию» Рамо, и народу у ярко освещенного здания Оперы оказалось куда больше, чем два дня назад. Я с трудом пробился в роскошное, отделанное золотом фойе – и тут же понял, что уже бывал здесь. Когда, с кем – память молчала, но я помнил эти стены, расписной потолок, широкие марши ярко освещенной мраморной лестницы. На душе стало горько, и я еле сдержался, чтобы не уйти обратно, на темную площадь. Я был, я радовался жизни, я ходил в Оперу…
Конечно, я бывал не совсем в этой Опере. Очевидно, в прежние времена фойе не портили огромные лупоглазые бюсты Марата и Лепелетье, равно как трехцветная тряпка над лестницей. Такие же бюсты я заметил в зале, который был прекрасно виден из третьей ложи. Ложа, как мне и было обещано, оказалась записанной на имя гражданина Франсуа Люсона, причем, несмотря на переполненный зал, три места из четырех пустовали.
Я ждал увертюры, но оркестр внезапно заиграл «Марсельезу». Очевидно, без этого в столице Республики не обходились даже в Опере. Зал встал, но тут же послышались шиканье и свистки. Похоже, далеко не вся публика восхищалась творением артиллерийского капитана Руже ле Лиля. Но оркестр доиграл «Марсельезу» до конца и только после этого взялся за Рамо.
Музыку я тоже помнил. Вернее, узнавал. Я слышал эту оперу и даже мог припомнить сюжет. В Афинах правит престарелый Тезей. Его жена, развратная Федра, хочет погубить своего пасынка Ипполита, но у того есть невеста – верная Арисия…
Постепенно все исчезло. Музыка захватила, унесла с собой, и я уже не видел и не слышал ничего, кроме того, что происходило на близкой сцене. Нет, сцена тоже исчезла, я был там, в далеких Афинах, где безумный Тезей проклинает своего невиновного сына и ничто – даже любовь Арисии – не может спасти юношу…
На сцене вновь была Федра – торжествующая, уверенная в себе. Федра – воплощенное зло, ее ярко нарумяненное лицо – словно лик Смерти… Я прикрыл глаза – и вдруг понял, что в ложе я не один. Кто-то сидел рядом. Я осторожно повернулся – и увидел веер. Яркий веер, которым та, что сидела рядом, прикрывала лицо. Затем веер исчез, и на меня взглянула бархатная маска. На незнакомке было роскошное, хотя и несколько старомодное платье, но, странное дело, ни на шее, ни на пальцах я не заметил украшений.
Я хотел что-то сказать, но тонкий палец прикоснулся к губам. Я кивнул – очевидно, Бархатной Маске хотелось дослушать первый акт до конца.
А конец уже близко. На сцене гонец, принесший весть, которую с нетерпением ожидает Федра. Колесница Ипполита опрокинулась – царевич мертв. Проклятье отца сбылось…
В зале уже горел свет, а я все медлил, не решаясь повернуться. Сейчас вновь придется играть чужую роль. Зачем я это делаю? Мертвец играет мертвеца – такого не увидишь даже в Опере!
Когда я наконец повернулся, ложа оказалась пуста. Удивившись, я вышел в фойе, но женщина в маске исчезла. Похоже, она и не собиралась говорить со мной. Достаточно и того, что «друг» узнает о моем появлении. Конечно, богатое платье и маска меняют человека, но не узнать ту, что навестила меня в гостинице, было трудно. Я вспомнил, что на женщине не было украшений, и невольно усмехнулся. Похоже, «друг» верен себе. Если шампанское – «яд свободы», то браслеты – не иначе как «кандалы».
Начало второго акта я помнил. Мертвый Ипполит недвижно застыл на смертном ложе, и так же недвижна фигура Арисии, припавшей к груди мертвеца. Слезы уже выплаканы, девушка замерла, не в силах вымолвить ни слова…
И вот снова Федра. Царице мало смерти Ипполита. Ее ненависть не угасла. Еще жива Арисия – из-за любви к ней молодой юноша отверг домогательства мачехи. И теперь Федра собирается рассказать ей все. Рассказ длится долго, но Арисия молчит. Царица удивлена, она начинается злиться, но девушка не произносит ни слова…
Внезапно я подметил одну странность. В первом акте я почти не прислушивался к словам, но теперь убедился, что текст, явно мне знакомый, стал каким-то другим. Наконец я понял. «Цари» и «царицы» исчезли. Вместо этого на сцене появились «градоправитель» и «градоправительница». Выходит, Республика, Единая и Неделимая, позаботилась обо всем, даже о «чистоте» либретто. Впрочем, опера не стала от этого хуже. Великое творение Рамо осталось таким же прекрасным. Прекрасным – и страшным.
…Федра уходит – и Арисия встает. Руки воздеты к Небу, молчаливому Небу, допустившему преступление. Голос девушки звенит, моля о справедливости. Этого не должно быть! Это не должно было случиться…
Мне подумалось, что на этом лучше бы все и закончить. Все и так ясно – справедливости нет на земле, и едва ли она есть даже на Небе. Еврипид и Корнель написали о безвинной гибели одного молодого парня. Республика, Единая и Неделимая, губит таких парней «связками» – и Небо молчит…
Впрочем, Небо не молчит. Гремит гром, молнии прорезают сцену, и Великий Зевс изъясняет свою волю. Злодейка Федра будет покарана, а несчастный Ипполит – безвинная жертва преступной страсти – вновь возвращен к жизни. Появляется Deus ex machinae – Зевсов сын Асклепий – и волшебным жезлом прикасается к груди бездыханного Ипполита…
Музыка гремела, преступную Федру волокли в темницу, Тезей прозревал, а Арисия обнимала воскрешенного Ипполита. Хор пел о справедливости, о каре, которая неизбежно постигнет злодеев, а мне внезапно стало скучно. Так не бывает! Погибшие не возвращаются. Даже если они вновь появляются среди живых, они остаются мертвыми, и им ни к чему уже любовь и преданность. Да и не спешат боги восстанавливать справедливость. Греки знали это, в давнем мифе говорилось совсем о другом – Асклепий воскресил царевича против воли Зевса. И молния сожгла того, кто преступил закон Неба. Ипполит – живой ли, мертвый – исчез, погибла Федра, погиб Тезей. А несчастная Арисия – была ли она вообще?
На этот раз в кофейне «Прокоп» было людно. За столиками не оказалось свободных мест, и я с трудом протолкался к стойке. Хозяин, рассылавший «мальчиков» налево и направо, тут же заметил меня и ухмыльнулся:
– Рамо слушали, гражданин? Вам крепкий? Без сахара?
Память у него была неплохая.
– Без сахара, – согласился я. – Очень крепкий.
Наследник достойного Прокопа кивнул, что-то шепнул очередному «мальчику» и вновь повернулся ко мне:
– Ну и как вам постановка?
– Градоправительница Федра хороша, – усмехнулся я. – А «Марсельеза» еще лучше.
– Сильно свистели?
– Не очень. Больше шикали.
– Ну, это ничего, – подытожил хозяин. – Да вы садитесь, гражданин! Вон, место освободилось!
Действительно, одно место за маленьким столиком у окна было свободно. Я поблагодарил и хотел последовать его совету, но хозяин предостерегающе поднял руку:
– Только вы с тем парнем… что за столиком… поосторожнее. Не в себе он.
Странно, тот, кто сидел у окна, никак не производил такого впечатления. Статный черноволосый парень в прекрасно сшитом сюртуке, пышный галстук завязан по последней моде.
– Шарль Вильбоа, – шепнул хозяин. – Журналист. Вы с ним не разговаривайте! У него три дня назад погибла невеста. Так что вы лучше…
Я кивнул. На душе было скверно. Еще одна смерть. Бедный гражданин Вильбоа!
Кофе оказался еще крепче, чем в прошлый раз, вдобавок настолько горячий, что приходилось пить мелкими глотками. Внезапно захотелось курить. Я достал папелитку и нерешительно поглядел на соседа:
– Разрешите?
Последовал кивок, и я с удовольствием закурил, стараясь не смотреть в сторону черноволосого парня.
– Вас тоже предупредили?
Голос гражданина Вильбоа был совершенно спокойным, но это спокойствие сразу же показалось каким-то ненастоящим, словно стеклянным.
Я не стал переспрашивать.
– Предупредили.
– Да, наш хозяин – чуткий человек, – по неподвижному бледному лицу мелькнула горькая усмешка. – Лучше бы молчал! Мы бы тогда могли побеседовать с вами о том, что граждане актеры сотворили с Рамо и почему плох второй акт. Вы бы не чувствовали неловкости, а я… Я мог бы просто поговорить.
Он хотел ненадолго забыться. Нет, не забыться – просто отвлечься.
– А вы говорите, сударь! Если хотите, можно и о Рамо…
Он покачал головой, явно пропустив мимо ушей контрреволюционное «сударь».