Тьма над Петроградом Александрова Наталья
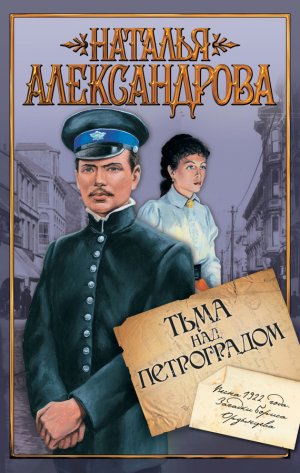
Глава 1
Не надо повторять – все врут календари.
Хотя еще тепло, темнеет только в восемь,
Над площадью Звезды, над садом Тюильри
Медлительно плывет сиреневая осень…
Громыхая по торцовой мостовой, под окном протащилась крестьянская телега, запряженная парой медлительных сытых першеронов, – мужик откуда-нибудь из Оверни вез овощи на рынок. Париж просыпался. Наверху, в мансарде, известная всему кварталу Нинет скандалила со своим очередным возлюбленным. Мишель, хозяин булочной, позевывая, поднял штору на двери своей лавки, счистил с башмака какую-то гниль и послал вслед крестьянскому возу замысловатое ругательство.
– Луиза, принеси еще литр красного! – крикнул в темный дверной проем лощеный господин в черном галстуке и щегольском замшевом жилете, слишком лощеный господин для улицы Сен-Сабин, для раннего утра, для этой комнаты, освещенной тусклой керосиновой лампой. Слишком лощеный господин для того, чтобы его можно было принять за порядочного человека.
Хозяйка, вышедшая в тираж проститутка, приторговывающая краденым и не слишком разборчивая в знакомствах, внесла кувшин и неслышно удалилась.
– Пейте, Жорж, – проговорил лощеный господин, подливая своему собеседнику, худому седеющему мужчине в поношенном сюртуке, – пейте, у этой шлюхи довольно пристойное вино.
– Гадость, – отозвался Жорж, тем не менее припав к стакану, как умирающий от жажды. Его глаза были красны и печальны, как у старой собаки. Он и без того уже был изрядно пьян. – Гадость, – повторил он, – и вино ваше гадость, и Париж ваш гадость. И что это ты, галльская твоя морда, так меня обхаживаешь? Непременно ведь обманешь! Знаю я тебя, фармазона! Попался бы ты мне в Севастополе! К стенке – и весь разговор! А здесь – нет, здесь я с тобой как с человеком за одним столом сижу! Я, князь Тверской! И слишком много говорю, слишком много говорю…
Лощеный господин щелкнул пальцами, как будто подзывая официанта.
Тут же за спиной у Жоржа отворилась незаметная маленькая дверка, и оттуда выкатился совершенно уморительный человечек. Ростом он был едва с семилетнего ребенка, однако носил пышные усы и одет был совершенным щеголем – черный сюртучок, шелковый жилет, расшитый райскими птицами, лаковые штиблеты.
– Он твой, Гийом! – проговорил лощеный господин и поспешно отошел от стола.
Жорж полуобернулся, удивленно уставился на нарядного карлика и потянулся за пенсне, чтобы получше разглядеть его. Карлик, однако, повел себя более чем странно: он набычился, распушил усы, как кот, и, стремительно подскочив к князю, воткнул ему в грудь невесть откуда взявшееся в его руке длинное тонкое лезвие.
Князь удивленно ахнул, заквохтал, как зарезанная курица, откинулся на спинку стула и застыл. Глаза его остекленели, и только бесконечное удивление еще светилось в них.
На пороге комнаты появилась Луиза.
Вытирая большие руки о передник, она покачала головой и проговорила:
– Право, Жан, вы нисколько не меняетесь! Все тот же шалопай, что в двенадцатом году! Неужели нельзя было сделать это где-нибудь в другом месте! Ведь я только недавно вымыла пол!
– Отнюдь, – лощеный господин вернулся на свое место, спокойно уселся за стол напротив мертвого князя и поднес к губам свой недопитый стакан, – у тебя, дорогая, это особенно удобно. Сейчас мы с Гийомом отнесем этого господина в подвал, и ни одна живая душа никогда не вспомнит о нем. Он рассказал мне все, что знал, и больше нам не нужен. А вино у тебя и правда отвратительное.
Сизо-розовый Париж жил своей собственной жизнью. Утром его затягивал легкий кисейный голубой туман, и в этом тумане ворковали послевоенные голуби, и переговаривались букинисты на набережной, и служанки спешили на рынок, стреляя глазами из-под кокетливых соломенных шляпок. Ночью сверкали ртутными ослепительными фонарями Большие бульвары, отражаясь в мокром асфальте, проносились, шурша шинами, длинные лаковые автомобили, выпархивали из них сногсшибательные послевоенные женщины, одетые по последней моде – в черное и короткое. Моду диктовал еще великий Колло, но кое-кто уже говорил о восходящей звезде Шанель. Хозяева этих сногсшибательных женщин, толстые банкиры в шелковых цилиндрах, разбогатевшие на военных поставках, рассуждали о бошах, которые не торопятся выплачивать репарации, отчего прекрасная Франция несет неисчислимые убытки. Перед сияющими дверями ресторанов пучили глаза высокие негры в красных ливреях, а из-за их спин гремели синкопы шимми и фокстрота.
На тротуарах, среди праздной и нарядной толпы, часто попадались угрюмые сутулые люди – ветераны Соммы и Вердена. Они с холодной ненавистью смотрели на жирных поставщиков и вынашивали планы мести.
И куда реже в этой толпе попадались люди с опустошенными, потерянными лицами, с прозрачными безнадежными глазами, люди, не имеющие даже права на месть. Несколько лет прошло уже с тех пор, как они отступали по непролазной кубанской грязи, обороняли Перекоп и Юшунь, давились на палубе переполненных пароходов, жарились на беспощадном солнце Константинопольского карантина, умирали от тоски и голода в бараках Галиполи. Сносились их тужурки и френчи со споротыми офицерскими погонами, пропали в парижских ломбардах наградные часы с благодарственной надписью от Врангеля или Май-Маевского. Растаяли последние мечты о возвращении на родину. Кто-то из них смог преодолеть нужду, отбросить офицерское высокомерие, нашел приличную службу и выжег из речи позорный и унизительный русский акцент. Кто-то устроился гувернером к детям более удачливых соотечественников. Кто-то таскает мешки с углем и сверкает из угольной пыли бандитскими белками глаз – ходившему в атаку на махновские пулеметы легко решиться на ограбление ссудной кассы. Генерал Шкуро, кровью и огнем метивший путь своей Дикой дивизии, развлекает буржуа в цирке, демонстрируя чудеса конной вольтижировки, хватает на скаку с малинового ковра косматую казачью папаху и сверкает дикими калмыцкими глазами. Полковник Суходольский, прихвативший во время посадки на пароход в Ялте полковую кассу, открыл кредитный банк, ездит в длинном лаковом автомобиле и рассуждает с военными поставщиками о немецких репарациях.
Мосье Жано выглянул в зал и скорбно поджал губы. Опять мало народу! Дела идут скверно, что и говорить. Впрочем, ему еще грех жаловаться. Его ресторан под названием «Прекрасная булочница» находится на бойком месте. Ресторан небольшой, но кухня вполне приличная, мосье Жано совсем недавно прибавил повару жалованье. На поварах экономить не следует, хотя это и влетает в копеечку. Зато официантом пришлось взять мальчишку, которому и дела нет до работы. Вот и сейчас два посетителя ждут, пока их обслужат, а этот паршивец небось переглядывается с хорошенькой горничной из дома напротив. Девчонка, конечно, недурна – задорные глазки, высокая грудь, мосье Жано и сам поглядывает на нее с удовольствием. Но надо же ведь и совесть иметь.
– Гастон! – рявкнул хозяин в глубину кухни.
Мальчишка возник на пороге, не успев стереть с лица улыбку. Выглядел он обычно, как выглядят все официанты, – белая курточка, зализанные бриолином волосы. Гастон перекинул через руку салфетку и ринулся в зал.
В ресторане было малолюдно. Прошло время обеда, когда деловые люди торопливо поедали фаршированных цыплят, запивая их недорогим вином. Сидела в углу зала пожилая пара: он – с большим животом, который с трудом обтягивал жилет, она – в старомодной шляпке, с седыми буклями. Мосье Жано видел наметанным глазом, что эти двое из провинции, приехали навестить детей или просто проветриться. Хотя у кого после этой проклятой войны есть лишние деньги, чтобы просто приехать – погулять по Парижу? Ужасное время, старики болеют, молодежь зла и невоспитанна.
Господин Жано тяжко вздохнул, наблюдая, как мальчишка-официант чуть не споткнулся, подскочив к вновь пришедшим клиентам. Двое мужчин, один – прилично за пятьдесят, но по виду еще крепкий, держится с достоинством, неторопливые движения человека, уверенного в себе и в собственном бумажнике. Одет хорошо, но неброско, добротный костюм, пенсне на носу, похож на профессора.
Таких клиентов мосье Жано очень даже уважает. Его спутник гораздо моложе, в районе тридцати, и выглядит не так благополучно. Нет, конечно, костюм его в свое время был сшит у очень хорошего портного, но зоркий глаз мосье Жано отметил, что брюки обтрепались снизу, да и весь костюм слегка поношен. Молодой человек тщательно выбрит, и белая сорочка чиста, но не накрахмалена, уж не стирает ли он сам свои сорочки? Впрочем, мосье Жано ничему уже не удивляется в наше ужасное время… Вот, кстати, и башмаки у молодого, хоть и тщательно начищены, давно просят починки…
Двое за столиком сделали заказ и по уходе официанта продолжали прерванный разговор.
– Рад вас видеть, Борис Андреич, в добром здравии, – говорил пожилой, похожий на профессора, – однако вид у вас обеспокоенный. Похудели что-то со дня нашей последней встречи, побледнели…
Борис втянул носом упоительные запахи, доносившиеся из ресторанной кухни, и сжал зубы. Есть хотелось до головокружения, потому что с утра, кроме чашки кофе, у него не было во рту ни крошки.
Напротив него сидел его давний знакомец Аркадий Петрович Горецкий и улыбался мягкой необязательной улыбкой. Глаза его из-под пенсне смотрели на Бориса благодушно, и выглядел он этаким добрячком. Однако Борис Ордынцев прекрасно знал, что Аркадий Петрович Горецкий вовсе не такой добрый и мягкий, каким хочет казаться в данный момент.
Борис хорошо знал Аркадия Петровича. Они познакомились еще до революции, когда профессор Горецкий читал в Петербургском университете уголовное право, а Борис был студентом. Потом случилась одна революция, за ней вторая, началась Гражданская война, университет закрыли, всех знакомых разметало по миру, как осенние листья.
Отец Бориса профессор Ордынцев умер еще до мировой. Мать Борис похоронил страшной зимой восемнадцатого года, распродал остатки мебели, которые не сжег в печке, и подался на юг в поисках сестры Вари. Младшую его сестренку тетка увезла к себе в имение в Орловской губернии, потому что Варя была очень слаба после воспаления легких и не выжила бы в сыром и холодном Петербурге.
Борис болтался по стране почти год, пережил голод, сыпняк, бегал от бандитов и красных, чудом сумел перейти границу на Украине и очутился в Феодосии, где к тому времени базировались силы Добровольческой армии генерала Деникина. И там-то они и встретились с Аркадием Петровичем Горецким, который был теперь не профессором, а полковником, состоял при штабе Деникинской армии и выполнял особые поручения начальника штаба генерала Лукомского.
По подозрению в убийстве, которого он не совершал, Бориса забрали в контрразведку. Там-то и произошла встреча с Горецким. Далее на долю Бориса Ордынцева выпало столько опасных приключений, что хватило бы на десять человек. Борис сумел все преодолеть и даже оказался полезным Горецкому, за что тот и пригласил его работать на себя, мотивируя это тем, что, выполняя сложные секретные поручения, Борис принесет больше пользы Белому делу, чем если бы он сражался в окопе с винтовкой в руках.
Судьба хранила Бориса, его не зарубили махновцы в степях Украины, он нашел сестру Варю, которая спасла его от расстрела, их с верным другом Петром Алымовым не утопили красные в Новороссийской бухте. Но после отставки Деникина и панического бегства Белой армии из Новороссийска что-то сломалось в душе Бориса. Предательства генералов невозможно было простить, Борис разошелся в полковником Горецким и поступил в полк.
Они снова встретились только в Константинополе. Борису не изменило его всегдашнее везение, он не погиб в Крыму при штурме Перекопа, ему удалось сесть на пароход в Ялте. И вот уже великий город Константинополь встречает его своими куполами и минаретами.
Полковник Горецкий и тут не подвел. Он тщательно опекал Варю, которую Борис отправил в Константинополь. Он устроил в госпиталь Алымова и доставал ему лекарства. Он привлек Бориса к своей деятельности. Горецкий вышел в отставку и выполнял теперь дипломатические поручения для англичан. Англичане хорошо оплачивали такие услуги. Борис получил крупную сумму денег и отправил сестру с ее женихом Алымовым в Берлин. Там Петру должны были сделать хороший ножной протез. Они же с Горецким уехали в Париж – город, куда стекались русские эмигранты.
Борис устроился вольным слушателем в Сорбонну – Аркадий Петрович настоятельно рекомендовал ему закончить образование и получить диплом юриста. Деньги, привезенные из Константинополя, быстро таяли, Борис перебивался случайными заработками, да еще нужно было помогать сестре. Лечение у Петра оказалось сложным и долгим, деньги уходили, как в прорву…
Официант принес салат и булочки. Борис последним усилием воли сдержался и заставил себя медленно взять вилку и медленно разломить свежую воздушную булочку. Впрочем, глаза Горецкого слишком проницательно блестели из-под пенсне, и Борис знал, что Аркадий Петрович заметил и его поношенный костюм, и мятую сорочку… Борис рассердился.
Официант налил вина и отошел, пробормотав что-то.
– Русские! – сообщил он хозяину, пробегая мимо.
– А то я сам не вижу! – буркнул мосье Жано.
Русские редко посещали его ресторан. Кто побогаче, ходили в русские рестораны – там подавали черный хлеб, икру и водку, а также расстегаи и бараний бок с гречневой кашей. Подавали там русские официанты в красных шелковых косоворотках и пели русские певицы под балалайку. Обнищавшие же эмигранты толклись на Монмартре в кабаках самого низкого пошиба. Нет, русские редко посещали ресторан мосье Жано.
– Давненько мы с вами не встречались! – оживленно заговорил Горецкий, поднимая бокал и придирчиво разглядывая вино на свет. – Месяцев пять или больше…
И поскольку Борис ничего не ответил, он молча отпил из бокала.
– Перед отъездом я рекомендовал вас мэтру Ленуа, – снова начал Аркадий Петрович. – Вы работаете у него в конторе?
– Работал… некоторое время, – нехотя ответил Борис, – потом настали тяжелые времена, и мэтр уволил половину служащих.
– Куда же вы устроились?
– Так… немного пописываю в одну русскую газетку… платят мало и нерегулярно… еще у генеральши Зубовой… у генерала отнялись ноги, и я вожу его в кресле на прогулку… Да и то эта работа, кажется, скоро сойдет на нет…
– Что же случилось? – участливо осведомился Горецкий.
Борис допил вино из бокала и ответил, криво усмехаясь:
– Племянница генерала… она захотела брать у меня уроки музыки.
– Музыки? – От удивления Аркадий Петрович так сильно взмахнул руками, что у него слетело пенсне. – Музыки? Но ведь вы, насколько я помню по Константинополю, играете, конечно, на фортепиано, но не настолько хорошо, чтобы давать уроки. Или племяннице генерала все равно? – прищурился Горецкий. – Хоть фортепиано, хоть латынь, хоть греческий, хоть танцы?
– Вы угадали, – вздохнул Борис, – не смотрите так осуждающе, я сам себе противен. Здоровый, крепкий мужчина, пробавляюсь мелкими заработками, инвалида в кресле вожу…
– Вы обязательно должны закончить курс, – строго заговорил Горецкий, – иначе так и будете перебиваться…
– Да кто вам сказал, что, прослушав лекции в Сорбонне, я смогу найти себе работу? – Борис повысил голос: – В стране ужасное положение, хорошо живут только те, кто сумел нажиться на войне. Ветеранам-французам платят крошечную пенсию, простой народ озлоблен, а тут еще мы, русские, свалились им на голову со своими проблемами!
– Выпейте еще и успокойтесь, – примирительно заговорил Горецкий, – не все так плохо.
– Понимаете, выяснилось, что я совершенно ничего не умею делать в мирной жизни, – начал Борис более спокойно, – только воевать, выпутываться из опасностей, выживать…
– И соблазнять молоденьких девушек, – смеясь ввернул Горецкий. – Кстати, племянница генерала очень хорошенькая?
– Если бы вы ее видели, вы бы не спрашивали, – буркнул Борис, – и вообще, дело совершенно не в этом!
– Право, не нужно сердиться, Борис Андреич, думаю, что скоро для вас наступит хорошая полоса, – заговорил Горецкий, как только официант убрал пустые тарелки. – А я сейчас вас порадую. Только что я вернулся из Брюсселя, но до этого заезжал в Берлин.
– Вы видели Варвару? – встрепенулся Борис.
– Разумеется, и передал им с Петром подарок к свадьбе, – улыбнулся Аркадий Петрович.
Венчание сестры состоялось в Берлине три месяца назад. Борис не смог приехать, совершенно не было времени, но зато он послал сестре все деньги, что у него были, с наказом обязательно купить белое платье и фату, и чтобы все было по правилам…
– Я привез вам письмо от сестры и вот. – Горецкий положил на стол фотографию.
Борис схватил ее и впился глазами. Свадебный снимок. Варя в белом платье, все как полагается, Петька держится молодцом, крепко стоит на ногах, никто и не поймет, что у него протез.
– Кроме этого, Варвара Андреевна просила меня еще передать на словах, что она умоляет вас не присылать им больше денег. Она чувствует, что вы тут бедствуете, вам нужно устраивать свою жизнь, а у них как раз все более-менее наладилось. Она работает в клинике профессора Герхарда, мужу тоже обещали работу.
«Муж? – Непривычное слово резануло слух. – Какой муж? Ах да, Петька теперь Варин муж…»
– Они – моя семья, – сказал Борис, не отрывая глаз от фотографии, – кроме них, у меня никого больше нет…
Принесли заказанную пулярку. Борис спрятал непрочитанное письмо в карман и посмотрел на Горецкого в упор:
– Что ж, выкладывайте ваше предложение. Ведь не просто так вы кормите меня обедом. Откровенно говоря, я сейчас в таком положении, что соглашусь на все, что угодно.
Однако деловой разговор Аркадий Петрович начал только за кофе.
– Не скрою, Борис Андреевич, что имею на вас некоторые виды. Не скрою также, что дело, которое вам поручат, очень опасное. Однако прежде чем спрашивать вашего согласия, я должен хотя бы немного ввести вас в курс этого дела.
Горецкий незаметно огляделся по сторонам. Хозяин стоял довольно далеко и не мог слышать ни слова из их разговора. Официант снова куда-то испарился. Пожилая пара расплатилась и ушла, в зале не было ни души, кроме них двоих. Борис подумал, что Горецкий зря волнуется. Он прекрасно знал привычки бывшего полковника – не посещать рестораны, куда ходят русские, по возможности не жить в гостиницах, а снимать частное жилье, причем тоже в стороне от тех мест, где проживают соотечественники. Полковник Горецкий не любил быть на виду, и теперь, когда вышел в отставку, его привычки не изменились.
– Бросьте, господин Горецкий, ваши секреты! – вполголоса весело сказал Борис. – Мы здесь одни, потому что тот надутый тип, хозяин этого заведения, ни слова не понимает по-русски. Что нужно делать? Куда ехать? В Европу? Готов хоть в Америку!
– В Россию, – тихо сказал Горецкий.
– Что? – Борис поперхнулся кофе. – Я не ослышался? Вы предлагаете мне ехать в Россию? Неужели вы теперь работаете на РОВС[1]? Не вы ли в Константинополе твердо заверили меня, что ничего общего не будете иметь с этими спасителями России? Мы сражались с Советами в честном бою и проиграли, говорили вы, так что следует как можно скорее признать свое поражение и оставить надежду на возвращение в Россию. И не устраивать бандитских налетов на деревни и диверсий на заводах и фабриках, тем более что в Совдепии, насколько я знаю, больше восьмидесяти процентов промышленных предприятий не работает.
От непривычно сытного обеда и вина Борис слегка опьянел, поэтому и говорил так резко.
– Успокойтесь, Борис Андреевич, – строго сказал Горецкий, – не следует кричать.
– Я не узнаю вас, полковник! – сказал Борис тоном ниже.
– Я больше не полковник, – напомнил Горецкий, – и вы больше не поручик. Я беседую с вами сейчас как частное лицо. В данном случае я вообще выступаю только как посредник. Итак, вы позволите изложить вам суть?
Борис кивнул. Горецкий не спеша раскурил трубку и начал:
– Видите ли, голубчик, вы совершенно правы в своем удивлении. Должен вам сказать, что я от своих константинопольских слов не отступаюсь. И не имею никаких дел со всеми этими обществами по спасению России. Считаю, что все это одна говорильня, а что касается господ из общевойскового союза, то их борьба с ГПУ вряд ли закончится успехом. Теперь дальше. Уж простите великодушно, друг мой, но не всем так повезло, как вам. Я имею в виду, что двое близких вам людей находятся в Берлине в самом добром здравии. Вы сами только что сказали, что они – вся ваша семья. В России у вас никого не осталось.
– Точно, – подтвердил Борис, – двоюродный брат Юрий погиб в восемнадцатом, тетка тоже умерла.
– Вот-вот. Но представьте себе, что здесь, в Париже, проживает, к примеру, некий господин N. Он русский, эмигрант, бежал из России в девятнадцатом году и потерял там семью. Долгое время он не имеет от семьи никаких вестей, поскольку писать туда, сами понимаете, боится. Да и некому писать, он понятия не имеет, живы ли его жена и дочь и где они живут. И вот в один прекрасный день окольными путями, с оказией до него вдруг доходит весточка от семьи. Либо кто-то из знакомых, чудом вырвавшихся из Советской России, рассказывает ему, что жена его умерла от тифа, а дочка живет в городе Петрограде. Либо же, наоборот, дочка умерла от голода, а жена переехала в Москву или в Тверь. Согласитесь, существует мало надежды, что живы обе – и жена, и дочка.
– Да, пожалуй, – кивнул Борис, не понимая, к чему клонит Аркадий Петрович.
– Господин N – человек весьма состоятельный, – продолжал Горецкий, – в свое время ему удалось кое-что вывезти из России. Он готов потратить свои деньги для того, чтобы вернуть себе близких. Но как это сделать?
– Вот именно – как, – подхватил Борис.
– В Париже существует некая группа людей, которые могут взять на себя такое сложное дело. Их услуги стоят очень дорого, поэтому к ним обращаются нечасто.
– То есть вы хотите сказать, что за большие деньги эти люди находят в России нужного человека и переправляют его через границу? – недоверчиво переспросил Борис.
– Именно так. Только не за большие, а за очень большие деньги, – кивнул Горецкий. – Деятельность этой группы окружена тайной, сами понимаете, им ни к чему известность. Никакой политической идеи, чисто коммерческое предприятие. Никто не знает, сколько людей составляют группу, каково их прошлое, где они живут, есть ли у них семьи. Они ни к кому не обращаются за помощью – ну, если нужны документы, или канал связи, или «окно» на границе. ГПУ, знаете ли, не дремлет. Но пока Бог миловал, никого из группы не задержали. Возможно, это объясняется их обособленностью и, конечно, строгим соблюдением конспирации. Знаю, что агентов, засылаемых в Россию генералом Кутеповым, ГПУ ловит легко, как осенних мух.
– И что, у этой таинственной группы не бывает неудач? То есть они всегда выполняют то, за что берутся? – недоверчиво спросил Борис.
– Почти, – коротко ответил Горецкий, – в противном же случае они возвращают деньги, вычитают только расходы на дорогу. Но это бывает редко, в частности если особа, которую они берутся доставить, уже умерла либо же ее арестовало ГПУ. Но и в этом случае не все потеряно…
– Так-так. – Борис допил кофе и ложечкой доел сахар, оставшийся на дне чашки, несмотря на то что перехватил пренебрежительный взгляд хозяина ресторана. Поверх чашки он послал толстому французу такой ответный взгляд, что тот мигом отвел глаза и сложил губы в приветливую улыбку. – Так-так, – повторил Борис, – все это очень интересно, но возникает вопрос: при чем же здесь ваш покорный слуга? То есть я, разумеется, понимаю, что вы, Аркадий Петрович, ничего просто так не делаете, так вот какое же отношение я имею к вашим планам?
– Самое прямое, – со вздохом ответил Горецкий, – дело в том…
Тут открылась дверь, и в ресторан вошел посетитель – мужчина в сером сюртуке. Хотя он был в штатском, Борис без труда опознал в нем бывшего военного – прямая спина, твердая походка… Мужчина скользнул по ним равнодушным взглядом и сел за столик в углу. Явился встрепанный мальчишка-официант, очевидно, хозяин добрался до него и устроил выволочку на скорую руку. Он принял у нового посетителя заказ и убежал, на ходу приглаживая волосы и путаясь в длинном переднике. Посетитель углубился в чтение газеты.
– Так я вас слушаю, – напомнил Борис и махнул, чтобы принесли еще кофе.
– Вы нужны в этом деле, поскольку вас кое-кто очень хорошо знает… – сказал Горецкий вполголоса.
– Нельзя ли подробнее? – Борис откинулся на стуле. – Я пока что ничего не понимаю…
– Подробности могу сообщить, только заручившись вашим предварительным согласием, – твердо сказал Горецкий и снял пенсне.
Тотчас исчезла мягкость черт, и из рассеянного интеллигентного профессора Горецкий превратился в человека, способного повелевать. Борис нисколько не поразился такой метаморфозе, он прекрасно о ней знал.
– Вот таким вы мне больше нравитесь, – усмехнулся он, – говорите, Аркадий Петрович, не тяните…
Горецкий вдруг нагнулся к нему через стол и прошептал:
– Не надо имен! Тот человек понимает по-русски!
– Да бросьте вы! – Борис оглянулся через плечо. – Сами же говорили, что русские сюда не ходят. Уж соотечественника-то даже я сразу узнаю!
– Он прислушивается, поглядите, как напряжена его спина! – не уступал Горецкий.
– Спина как спина… – Борис подумал, что Аркадий Петрович перегибает палку. Уж слишком он подозрителен. Кого сейчас интересует его персона? Сам же сказал, что он бывший полковник, в данное время ничем важным не занят и в этом деле выступает только лишь как посредник.
Мосье Жано вынужден был сам принести кофе двум посетителям, потому что этот паршивец Гастон снова куда-то запропастился. Однако может, это и к лучшему, не получит чаевых!
– Пейте быстрее! – приказал Горецкий, и Борис не посмел возразить.
По выходе из ресторана они разошлись в разные стороны, условившись встретиться вечером.
Автомобиль остановился перед вполне импозантным домом на улице Риволи. Не успели Горецкий с Ордынцевым подняться по ступеням крыльца, как дверь распахнулась, и представительный старик, удивительно похожий на вареного рака огромными усами, выпученными преданными глазищами и красным лицом, пророкотал волжским басом:
– Пожалуйте, ваше превосходительство, ждут-с!
Борис, как всегда, незаметный в тени «превосходительства», вслед за Горецким прошел по чудесной мраморной лестнице и оказался в длинном, скудно освещенном помещении приемной с бархатными диванчиками вдоль стены. На одном из диванчиков находились три старые дамы, немедленно зашептавшиеся, косясь на новоприбывших, на другом маялся сухощавый старый генерал с завязанным черным шелком глазом.
Борис уселся, твердо глядя перед собой и нарочито не вдаваясь в местные подробности. Не успел он, однако, вполне сосредоточиться, как распахнулась высокая дверь, и в приемную вылетел небольшой энергичный человечек в золотом пенсне и аккуратной бородке. Потирая руки, человечек подкатился к Горецкому и Борису и провозгласил озабоченно и надменно:
– Прошу! Их императорское высочество ждут!
Три старые дамы зашептались пуще прежнего, одноглазый генерал недовольно поджал бледные узкие губы и сделал вид, что происходящее нисколько его не касается.
Борис с Горецким послушно проследовали за бородатым человечком и оказались в кабинете, обставленном и увешанном избыточным количеством всевозможных вещей. Среди этого пыльного изобилия сидел в глубоком и неудобном кресле с удивительно длинной спинкой очень сухой старик. Даже сидя, он был чрезвычайно высок.
Старик разглядывал сквозь монокль небольшую, сильно сношенную временем монету и что-то вполголоса бормотал. Заметив вошедших, он вскинул длинную холеную голову и высоким приветливым голосом воскликнул:
– А, вот и вы! Садитесь, полковник, садитесь! А с вами – тот самый молодой человек?
– Поручик Ордынцев, – отчеканил Борис, неожиданно почувствовавший себя уязвленным.
– Очень мило! – проговорил старик, указывая Борису на свободное кресло. – А меня вот племянница приютила, герцогиня д’Юзез. Много ли старику надо! – Он окинул кабинет рассеянным птичьим взглядом. – И долго ли еще мне осталось ее стеснять!
Борису показалось фальшивым это стариковское самоуничижение и показалось также унизительно сидеть здесь, в этом пыльном и захламленном обломками былой роскоши кабинете, но он обещал Горецкому и вынужден был сидеть, и молчать, и слушать.
– Хорошо хоть, Павел Петрович предан, не бросает старика! – продолжал хозяин, кивая на своего бородатого наперсника. – И есть еще несколько старых друзей, которые навещают меня время от времени. Но все равно это не жизнь, не жизнь, а только тень ее, жалкая тень!
Старик запрокинул свою длинную голову и горестно, со всхлипом вздохнул. Затем он встряхнулся, как проснувшаяся собака, и проговорил с бодрой старческой энергией:
– Вот для чего я, собственно, пригласил вас, господа! – Он взял со стола фотографию в серебряной рамке и протянул гостям: – Сашенька, дочь сестры моей, Ольги.
Горецкий вежливо рассмотрел снимок и передал его Борису. С фотографии на Ордынцева смотрела тоненькая девочка в легком летнем белоснежном платье, с таким весенним, безмятежным лицом, что сердце Бориса невольно защемило. Он возвратил фотографию старику и уставился на него со вниманием.
– Я был уверен, – продолжил хозяин с горьким надломом в голосе, – что Сашеньки нет больше, как и всех остальных… всех остальных. Но недавно через верного человека пришло сообщение, что ее видели там, в России… – он сделал такой неопределенный и странный жест, как будто очертил этим жестом добрую половину мира, – и вот… я хотел бы вас попросить…
Но вместо того чтобы закончить свою просьбу, сановный старик внезапно зашелся сиплым лающим кашлем. Он прижал сухие руки к груди, откинулся на спинку кресла и тяжело, со свистом дышал между приступами кашля. Маленький Павел Петрович подкатился к нему, накапал в синюю хрустальную рюмку чего-то пахучего, резкого, поднес к бескровным губам. Лицо старика быстро порозовело, кашель прекратился, дыхание выровнялось.
– Я хотел бы вас попросить, – продолжил он как ни в чем не бывало, – хотел бы попросить об огромном одолжении. Сашенька – все, что у меня осталось. И если сведения о том, что она жива, верны, то… я ничего не пожалею для ее спасения. Сестра давно умерла, а Сашенька так на нее похожа…
Борис невольно подумал о том, что у такого глубокого старика никак не может быть такой юной племянницы.
Старик склонил голову набок, прикрыл глаза утомленно и надолго затих. Борис почувствовал жалость и сильнейшее раздражение. Для чего полковник Горецкий притащил его в этот старый, пыльный, траченный молью мир, с которым у Бориса не может быть ничего общего? Эти старухи в прихожей, обломки старого режима, как говорят большевики в далекой России, одноглазый генерал… Старые, жалкие, нищие, не ждущие от жизни ничего хорошего… И этот полутруп в кресле…
Борис ощутил, как Аркадий Петрович сильно стиснул его локоть. Неужели он забылся и проговорил последние слова вслух?
Горецкий сердито блеснул пенсне и чуть заметно качнул головой в сторону. Борис перевел глаза на Павла Петровича, который неслышно манил их руками за собой. В углу комнаты оказалась маленькая дверца, задрапированная пыльной малиновой портьерой. Павел Петрович проскользнул в нее привычно легко, Борису же с Аркадием Петровичем пришлось нагнуться. Затворяя за собой дверь, Борис бросил последний взгляд на его высочество. Старик спал, откинув голову и приоткрыв рот.
Комнатка, куда они попали, ничем не походила на кабинет с его увядающей пышностью. Возле крошечного круглого окна стоял простой письменный стол, девственно-чистый – на нем не лежали ни бумаги, ни книги, ни газеты, даже письменного прибора не было. Единственным украшением стола была бронзовая лампа на тяжелой подставке из розового мрамора. Вокруг ножки обвилась виноградная лоза, к бронзовым гроздьям тянулась бронзовая же девушка в греческой тунике с тяжелым узлом волос на затылке. Она делала это с такой грацией, что Борис невольно вспомнил юную гречанку, которую встретил давно, в девятнадцатом году, в Феодосии. Такие же миндалевидные глаза и такой же красивый изгиб тела…
Он тут же поморщился и даже замотал головой. Что за нелепые несвоевременные видения? Наверное, это от сытного обеда, которым накормил его Горецкий. Небось когда сидел впроголодь, о женщинах и думать забыл!
В комнате, кроме стола, помещались еще два венских стула, банкетка и узенькая девичья кровать, полуприкрытая далеко не новой театральной ширмой, на которой Коломбина в маске отчаянно кокетничала с Арлекином в костюме из пестрых лоскутков, а на заднем плане бледный Пьеро воздевал к небу тонкие руки в немой тоске и печально смотрел на блестящие звезды.
Павел Петрович кивнул Горецкому на стул, Борису досталась жесткая банкетка.
– Итак, господа… – Павел Петрович внимательно оглядел своих гостей, и Борис невольно отметил, что голос его и все повадки разительно изменились. Исчезла некоторая нарочитая суетливость движений, а также беспокойство во взгляде. Теперь глаза смотрели прямо на собеседника, и даже из-за пенсне было видно, что Павел Петрович – человек с определенными мыслями в голове, мысли эти он держит при себе и высказывает только в случае крайней необходимости. Вот как сейчас. – Его высочество… – снова Борис отметил, что титул своего покровителя Павел Петрович произнес хоть и с почтением, но без придыхания, – его высочество высказал вам свою просьбу. Я со своей стороны уполномочен ввести вас в курс дела.
«Давно пора! – раздраженно подумал Борис, ощутив, как урчит в животе. – Черт, ведь обедал же сегодня!»
Но желудок, да и весь его молодой организм дал понять, что обед был давно, днем, а сейчас уже вечер и вообще обедать нужно каждый день и ужинать тоже.
Борис невольно заерзал на банкетке, так что Аркадий Петрович неодобрительно на него покосился. Ему показалось даже, что Горецкий насмешливо поднял брови. Борис сдержал порыв тут же встать и уйти. Нужно взять себя в руки, ему ли, который за прошлые годы повидал всякого, стесняться какого-то Павла Петровича, жалкого приживалы при богатом патроне.
Он тут же одернул себя. Хоть он и видел Павла Петровича впервые в жизни, ясно было, что тот вовсе не приживала, что служит несчастному одинокому старику он вовсе не из-за денег и что его высочество без своего наперсника совершенно беспомощен, как малый ребенок.
Павел Петрович вытащил из верхнего ящика стола коленкоровую папку, открыл ее и показал своим собеседникам фотографию.
Молодая женщина, сидя в кресле, держала на коленях младенца. Женщина была красива – тонкие черты лица, пышные волосы, забранные в высокую прическу. Скромное платье с высоким воротником, никаких драгоценностей, только обручальное кольцо на пальце правой руки. Женщина смотрела прямо перед собой, на губах ее бродила рассеянная улыбка. Ребенок таращил глаза в объектив, ожидая, надо полагать, когда вылетит птичка.
Под фотографией была дата – 1900 год, и стояло имя известного петербургского фотографа.
– Это сестра его высочества, Ольга Кирилловна, по мужу Сергеева, с дочерью Сашей. Она была моложе его высочества на двадцать лет – разные браки, знаете ли. Но несмотря на это, они были очень близки с его высочеством. В тысяча восемьсот девяносто седьмом году она вышла замуж за полковника Сергеева. Этот брак, несомненно, был мезальянсом, так что понадобилось высочайшее разрешение государя императора. Как вы сами понимаете, все родственники были против. Однако Ольга Кирилловна, несмотря на хрупкую внешность, обладала весьма твердым характером, она сама добилась приема у государя и сумела убедить его дать разрешение на брак.
«Для чего такое длинное вступление?» – подумал Борис, и Павел Петрович тотчас прервал свой экскурс в историю, словно прочитав его мысли.
– Я потому, господа, показал вам этот дагерротип, что Сашенька была очень похожа на свою мать, и сами понимаете, ее снимков во взрослом состоянии здесь быть никак не может. Сейчас ей двадцать четыре года, так что вполне возможно, что она выглядит так же.
Борис еще раз взглянул на фотографию и подумал, что вряд ли неизвестная Сашенька выглядит такой же счастливой и безмятежной, как ее матушка. В Советской России, надо думать, нет сейчас особенных причин для счастья.
– Уместно ли будет спросить, отчего Ольга Кирилловна с дочерью не сумели выехать из России? – поинтересовался Аркадий Петрович.
Снова он выглядел этаким рассеянным профессором, не от мира сего, Борису на миг показалось, что Горецкий переигрывает. Но зачем? Опасается этих людей? Вряд ли. Положение Аркадия Петровича здесь, в Париже, весьма прочно и независимо. Это Борис болтается неприкаянно и готов взяться за любую работу, чтобы не умереть с голоду, а Горецкий всегда найдет людей, которым будут нужны его знания и опыт. Возможно, это будут англичане, возможно – французы. В Константинополе, к примеру, Горецкий по договоренности сотрудничал с турецкой полицией[2]. Правда, он сказал, что сейчас временно не у дел, так Борис этому не поверил. Вид у Аркадия Петровича совсем не праздный. Но отчего же он так осторожен в разговоре с этим помощником его высочества?
Борис мысленно пожал плечами и решил, что он просто давно не видел Горецкого, оттого и кажется ему поведение бывшего полковника немного странным.
– Дело в том, – отвечал между тем Павел Петрович, – что муж Ольги Кирилловны в семнадцатом году находился на фронте, заболел там тяжело. Она, получив срочную депешу, решилась ехать к нему, оставив Сашу на попечение верной своей подруги Агнии Львовны Мезенцевой. Однако не доехала до Ставки, поскольку узнала, что мужа отправили в тыл. Пока она добиралась до него, поезд разграбили пьяные дезертиры, она осталась без вещей и без денег, с трудом добралась до Петрограда. Полковник Сергеев умер в пути, это последние верные сведения о семье. В восемнадцатом году, спасаясь от голода и террора, Ольга Кирилловна с дочерью выехали из Петрограда на юг.
«Все ясно, – Борис переглянулся с Аркадием Петровичем, – родные так и не смогли простить великой княжне мезальянса. Они терпеть не могли ее мужа – как же, простой полковник! – и ненавидели саму Ольгу за то, что проявила характер и решилась поступить против воли семьи. Она отдалилась от них и жила как обычные люди – муж служил, она воспитывала дочку. Все было бы прекрасно, если бы не случилась революция».
Он вспомнил ужасную зиму восемнадцатого года в Петрограде. Синие губы умирающей матери, ее задыхающийся шепот, темнота на улицах, еженощное бдение в ожидании, что придут, застучат сапогами в дверь, ворвутся пьяные матросы с обыском, отберут все, что еще не отобрали до них, и уведут с собой, в страшные подвалы Чрезвычайки. Голод и холод гнал людей на улицы, нужно было менять вещи на дрова и продукты. Днем на толкучке орудовали воры и мошенники, ночью обывателей подстерегал патруль и налетчики. Борис похоронил мать в феврале и к весне с трудом вырвался из этого ада.
– Их просто бросили на произвол судьбы, ведь так? – спросил Борис, в упор глядя на Павла Петровича.
– Не нужно так горячиться, – сказал Павел Петрович, не отводя глаз, – мне характеризовали вас как спокойного, уравновешенного, здравомыслящего человека.
Горецкий тронул Бориса за руку и бросил косой взгляд из-под пенсне. Взгляд был из репертуара не того добрячка-профессора, а полковника, который умел повелевать и допрашивать.
– По непроверенным данным, – продолжал Павел Петрович после некоторого молчания, – мать с дочерью видели осенью девятнадцатого года в Киеве, после чего след их потерялся.
Борис тяжело вздохнул. Он вспомнил выматывающие поиски пропавшей сестренки Вари, вспомнил, как он мотался по югу России, переходя от надежды к отчаянию, едва успевая уворачиваться от многочисленных опасностей.
– Его высочество не надеялся на встречу с сестрой и племянницей, он думал, что их нет в живых. И вот несколько недель назад до нас дошла весть, что Сашенька жива.
– Каким образом ей удалось спастись? – с интересом спросил Горецкий.
– Неизвестно, – на этот раз Павел Петрович опустил глаза, – я вам больше скажу, неизвестно, где она живет и с кем. Но Ольги Кирилловны нет в живых, это точно. Не стану скрывать, человек, что привез известие о Саше, сам ее не видел…
– Вот как? – Горецкий с недоверием поднял брови.
– Он имел беседу с неким лицом, которое утверждало, что знает о местонахождении Александры Николаевны и может снестись с ней в любое время. Человек этот в свое время был коротко знаком с его высочеством, – Павел Петрович кивнул на стену, что выходила в кабинет, – у нас нет причин ему не доверять. Он со своей стороны вынужден быть очень осторожным, вы понимаете почему. Поэтому он не дал посыльному ни письма, ни открытки, а только просил передать на словах, что Сашенька находится в крайне бедственном положении и нуждается в помощи. Он, разумеется, ничего ей не говорил, чтобы не вселять необоснованную надежду.
Горецкий согласно кивнул, показывая, что одобряет такое поведение.
– Мне неясно одно, – медленно проговорил Борис, – какое отношение ко всей этой истории имею я?
– Вот как раз сейчас я объясню! – обрадовался Павел Петрович. – Дело в том, что лицо, от которого мы получили сведения о племяннице, – это Ртищев Павел Аристархович, вам знакомо это имя?
– Ртищев! – воскликнул Борис. – Не может быть!
Профессор, искусствовед, старый друг его отца, Павел Аристархович Ртищев был знаком ему с детства. Он часто бывал у них дома – запросто, без приглашения, так как был накоротке со всем семейством. Он был холост и утверждал, что дети Ордынцевы заменяют ему племянников. Летом они снимали дачи рядом в Озерках, Павел Аристархович водил Бориса гулять на дальнее озеро – это называлось «пойти в поход», они устраивали привал и настоящий костер и даже иногда пекли в нем картошку. Маленькую Варю не брали на такие прогулки, и она дулась потом на Бориса целый вечер.
Зато дядя Па, как называла его Варя, научил ее стрелять из самодельного лука. Они втыкали в Варины волосы несколько вороньих перьев, раскрашивали лицо сажей и маминой губной помадой, дядя Па называл Варю настоящей индейской скво. Борис и сейчас видит перед собой чумазую мордашку с растрепанными льняными кудряшками.
Отец не принимал участия в их забавах, он терпеть не мог дачную жизнь, все эти пикники и катания на лодках.
«Что такое пикник? – посмеивался он, видя, как мама запаковывает корзинку с едой. – Это когда вот это яйцо надо обязательно съесть под вон той сосной! Почему чай с вареньем надо пить обязательно на террасе? Потому что только там вас искусают комары! А без комаров летом чаю не бывает!»
– Неужели Павел Аристархович жив? – удивился Борис. – Неужели он уцелел после голода, расстрелов и чисток?
– Представьте себе, – кивнул Павел Петрович. – Жизнь иногда бывает непредсказуема. Он имел беседу с нашим человеком и не скрыл, что не доверяет ему. По этой причине он не назвал ни своего местожительства, ни местонахождения Александры Николаевны. Он заявил, что может довериться только вам – про вас он точно знает, что вы в эмиграции и никак не можете быть агентом ГПУ.
Борис пожал плечами – похоже, старик малость тронулся там, в Петрограде, от страха и голода. Он тут же почувствовал, как щеки опалила краска стыда. Какое право он имеет так думать? Сколько мужества понадобилось несчастному Павлу Аристарховичу, чтобы выжить в голодном, холодном и враждебном городе! А ведь он далеко не молод, года на три старше отца…
– Итак, вашей задачей будет отыскать господина Ртищева и убедить его указать местонахождение Александры Николаевны, – заговорил Павел Петрович.
– Минуточку… – мягко прервал его Горецкий, – я бы хотел уточнить некоторые детали. Во-первых, откуда профессор Ртищев узнал, что Борис Андреевич находится в Париже?
– Он сказал, что слышал об этом от общих знакомых. Кто-то, дескать, получил письмо из Крыма в двадцатом году от племянника или двоюродного брата, где названы имена знакомых людей, которым удалось сесть на пароходы и отплыть в Константинополь.
– Это очень неосторожный поступок! – Пенсне Горецкого слетело и заболталось на шнурке.
– Согласен, – Павел Петрович наклонил голову, – однако это поможет нам в поисках Сашеньки.
– И второй вопрос, – настойчиво продолжал Горецкий, – известно ли хотя бы приблизительно, с кем живет Александра Николаевна и чем занимается? Возможно, она замужем или имеет сожителя… В таком случае могут быть непредвиденные осложнения…
Павел Петрович сморщился, как от зубной боли, и замахал руками:
– Она одинока и, кажется, больна. Во всяком случае, очень бедствует. Ее поддерживает подруга ее матери…
– Та самая Мезенцева Агния Львовна? – слегка оживился Горецкий.
– Кажется… Пока им удается скрывать Сашенькино происхождение, но, сами понимаете, в этой Совдепии сейчас идут бесконечные расследования. Большевики называют их чистками и говорят, что выметут поганой метлой всех социально чуждых элементов из советских учреждений.
Борису все не нравилось в этой истории. Этот доживающий последние дни старик, этот хлопотливый Павел Петрович, эти скудные сведения о племяннице. Никто ее не видел, никто не знает, где она сейчас. Да был ли мальчик-то? Единственное знакомое имя – Павел Аристархович Ртищев. В восемнадцатом году он был жив, Борис помнит, как он плакал после похорон матери, когда они вдвоем сидели в холодной квартире и пили спирт, который Борис достал у сапожника Михрютина, отдав ему последнее, что было в доме, – отцовские именные часы.
Если рассуждать здраво, то следовало немедленно отказаться от такого сомнительного предложения. В самом деле, получается ведь как в сказке: «Пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что…» Да не просто пойди, а еще преодолей множество опасностей, рискни единственным, что у тебя осталось, – собственной жизнью. Не зря Горецкий задает Павлу Петровичу так много вопросов, ясно, что ему тоже не слишком нравится эта история.
Борис слегка подвинулся вместе с банкеткой, чтобы лучше видеть лицо Аркадия Петровича. Тот встретился с ним взглядом, но Борис ничего не смог прочитать в глазах бывшего полковника. Когда нужно, Горецкий хорошо умел скрывать свои мысли и чувства.
Борис рассердился на себя. Для чего он оглядывается на своего бывшего начальника? Теперь они не имеют друг к другу никакого отношения, оба вышли в отставку, Борис теперь не поручик, а Горецкий – не полковник. И в этом деле не имеет никакого своего интереса, он просто посредник. Привел Бориса на встречу – и все, больше от него ничего не требовалось. Борис сам должен решить, согласен ли он выполнить это поручение.
– Ну-с, милостивый государь, что вы можете мне сказать определенного? – напомнил о себе Павел Петрович, и глаза его блеснули чуть насмешливо, как у Арлекина на старой ширме.
Борис закусил губу и отвернулся. Если он откажется, что ждет его здесь, в Париже? Медленное умирание. Он ужасно, просто безумно устал от нищей, тоскливой, бесполезной жизни. Ему противны соотечественники – бедно одетые, с глазами, полными покорной униженности или лихорадочной заносчивости. Дамы, слезливо вспоминающие русские березки, мужчины, спорящие до хрипоты о политике, осуждающие Клемансо[3] или же расхваливающие лорда Керзона[4]. Уже никто не считает дни до падения большевистского режима, все давно потеряли надежду. Борису глубоко неприятна такая жизнь, он хотел бы забыть о прошлом и начать все заново. Но возможно ли это в его положении?
Куда он пойдет отсюда, если откажется? В темную комнатку на шестом этаже, узкую, как школьный пенал, где летом жарко, потому что накаляется крыша, а зимой холодно, потому что не работает дымоход и хозяйка, мадам Жирден, отказывается его чистить, потому что Борис задолжал ей за квартиру за много месяцев. В комнате всегда душно и пахнет персидским порошком от клопов. Она такая маленькая, что вмещает только узкую койку, стул и тумбочку. Горничная, подученная хозяйкой, никогда не приносит Борису горячей воды для бритья. Да и умывальника никакого в комнате нет, только колченогая табуретка, а на ней – треснутый фаянсовый таз и такой же кувшин вовсе без ручки. И за такой, с позволения сказать, комфорт, мадам дерет со своих постояльцев три шкуры.
Он будто наяву услышал жестяной шелест хозяйкиных юбок, ее визгливый голос, без труда преодолевающий шесть этажей и проникающий ему, Борису, прямо в мозг. И эта смесь французского с нижегородским! Мадам родом из Одессы, фамилия ее была Жирденко, и мадам офранцузила ее, убрав последний слог.
Воспоминание встало перед глазами так ярко, что Борис вздрогнул.
– Я жду ответа, – напомнил Павел Петрович.
– Я согласен, – ответил Борис и успел заметить в глазах Горецкого искорки интереса. Впрочем, Аркадий Петрович быстро опустил глаза, после чего надел пенсне и снова глядел бодрячком-профессором, милым и чудаковатым. Борис усмехнулся про себя и подумал, что Горецкий в своем репертуаре. Наверняка за эту услугу его высочеству он сумеет получить ответную услугу, либо же с ним поделятся важной информацией или сведут с нужным человеком. Аркадий Петрович Горецкий всегда умел обратить любой случай на пользу своим делам.
– Кстати, я желал бы знать, что мне причитается в случае успеха данного предприятия, – громко сказал Борис, вставая с ненавистной банкетки.






