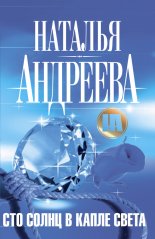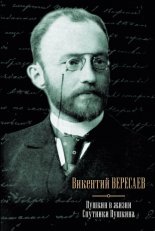Легенды Западного побережья (сборник) Ле Гуин Урсула

– Один из этих парнишек ведь твой, верно? – сказал Огге, разглядывая Аллока и меня. Оскорбление было хорошо замаскировано. Он наверняка знал, что сын Канока – еще мальчишка, а не двадцатилетний молодой человек. Ему просто хотелось намекнуть, что он не в силах отличить сына брантора от простого серфа. Во всяком случае, мы трое восприняли это именно так.
– Мой, – ответил отец, не называя меня и явно не собираясь меня ему представлять. Он на меня даже не взглянул, и Огге, сменив тему, сказал:
– Теперь, когда наши земли граничат друг с другом, я хочу пригласить вас с женой погостить у нас в Драмманте. Если я, скажем, подъеду к тебе через денек-другой, ты дома будешь?
– Непременно, – ответил Канок. – И буду очень рад принять тебя.
– Хорошо, хорошо. Я заеду. – Огге небрежно махнул рукой в великодушном прощании, ударил пятками по бокам кобылу и легким галопом двинулся во главе своей свиты вдоль каменной ограды.
– Ах, – выдохнул Аллок, – какая очаровательная кобылка! Прямо вся медовая! – Он был помешан на лошадях не меньше моего отца. Оба только и думали, как бы улучшить поголовье нашего жалкого «табуна», и строили всякие планы. – Вот бы ее спарить с Бранти! Через годок, глядишь, такой отличный жеребенок мог бы получиться!
– А какую цену пришлось бы за это заплатить? – резко возразил Канок.
После этой встречи отец часто бывал очень напряженным и сердитым. Матери он велел быть постоянно готовой к визиту Огге, и она, разумеется, послушалась. А потом они стали ждать. Канок никуда из дома не отлучался, не желая, чтобы Меле принимала брантора Огге в одиночку. Однако прошло, наверно, с полмесяца, прежде чем он соизволил наконец явиться.
Сопровождение у него было все то же – в основном люди из его рода, но никаких женщин. Мой отец в своей бескомпромиссной гордости воспринял это как оскорбление. И не спустил его обидчику.
– Жаль, что жена с тобой не приехала! – воскликнул он без улыбки.
И Огге тут же принялся извиняться и оправдываться, говоря, что его жена страшно занята: «Столько забот, ты ж понимаешь?» – и к тому же в последнее время она неважно себя чувствует.
– Но в будущем она надеется приветствовать вас в Драмманте, – сказал он, поворачиваясь к Меле. – В былые-то времена мы куда чаще ездили в гости к соседям. Одичали мы у себя в горах; совсем позабыли о древних обычаях, а ведь горцы всегда отличались гостеприимством. В городах-то оно, конечно, иначе; там, говорят, у каждого человека соседей – что ворон на падали.
– И там по-разному бывает, – спокойно заметила моя мать. Рядом с его медвежьей тушей она казалась совсем маленькой и хрупкой, но пугливой не выглядела и говорила тихо, как всегда, несмотря на громовые раскаты его голоса, в котором постоянно чувствовалась скрытая угроза.
– А это, должно быть, твой парнишка? Впрочем, я его и в тот раз видел. – И он вдруг повернулся ко мне. – Его, верно, Каддард зовут?
– Оррек, – сказала моя мать, поскольку я безмолвствовал, но вежливо поклониться все же себя заставил.
– А ну-ка, Оррек, дай на тебя поближе посмотреть, – прогремел у меня над головой его бас. – Небось опасаешься дара Драмов, а? – обидно засмеялся он.
Сердце мое билось уже почти в горле, мешая дышать, но я заставил себя высоко поднять голову и посмотреть прямо в его огромное лицо, нависшее надо мной. Глазки Огге почти скрывались в тяжелых набрякших веках и казались узкими щелками; и взгляд у него был такой же холодный и равнодушный, как у змеи.
– Я слышал, ты уже проявил свой дар? – Змеиные глаза его блеснули, когда он быстро глянул на моего отца.
Разумеется, Аллок тогда растрезвонил всем в доме о том, как я убил гадюку, но меня всегда удивляло, как быстро любая молва перелетает в горах с места на место и ее тут же узнают все, даже те, кто друг другу и слова ни разу в жизни не сказал.
– Да, проявил, – ответил ему Канок, глядя при этом на меня, а не на Огге.
– Значит, слухи, несмотря ни на что, были верными! – Огге отчего-то даже обрадовался и заговорил так тепло и горячо, что мне и в голову не пришло, к чему он на самом деле клонит, а ведь на уме у него было дерзкое оскорбление в адрес моей матери. – Истинный дар рода Каспро – вот что сейчас мне хотелось бы видеть! У нас, в Драмманте, из вашего рода есть лишь несколько женщин, они, конечно, отчасти сохраняют этот дар, да только применить его не могут. Может быть, молодой Оррек устроит для нас небольшое представление? Ты как, парень, не против? – Бас Огге звучал дружелюбно, но настойчиво. Отказаться было невозможно. Я ничего не сказал, но вежливость требовала хоть какого-то ответа, и я кивнул.
– Хорошо, тогда мы отловим несколько змей к твоему приезду. Или, может, ты лучше избавишь наши амбары от крыс и кошек, если тебе это больше по нраву? Я рад услышать, что дар Каспро сохранился, несмотря ни на что. – Это он сказал все тем же добродушным гулким басом, обращаясь уже к моему отцу. – Дело в том, что есть у меня одна мыслишка – насчет моей внучки, дочери младшего сына, – и эту мыслишку мы вполне можем обсудить, когда вы прибудете в Драммант. – Огге встал и повернулся к моей матери. – Ну вот, теперь ты видела, что я не такое уж чудовище, как тебе, наверно, рассказывали. Надеюсь, ты окажешь нам честь? Скажем, в мае, хорошо? Когда дороги подсохнут.
– С удовольствием, – сказала Меле, тоже встала и поклонилась ему, сложив пальцы под подбородком кончиками друг к другу, – это жест вежливого уважения у жителей Нижних Земель, хотя у нас он совершенно не принят.
Огге так и уставился на нее. Как если бы этот жест вдруг сделал Меле видимой для него. До того он почти и не смотрел ни на кого из нас. Она стояла с выражением почтения и отчужденности на лице, очень красивая и гордая, и красота ее была совершенно не похожа на красоту наших женщин: она была такая тонкая, легкая, быстрая, живая. Я видел, как меняется громадная физиономия Огге от наплыва самых невероятных чувств; я мог лишь догадываться об их происхождении: они были порождены удивлением, завистью, неутоленным голодом, ненавистью…
Потом Огге окликнул своих людей, которые с удовольствием угощались за столом, накрытым для гостей моей матерью, и, вскочив на коней, они тут же поехали прочь. А Меле, посмотрев на остатки пиршества, сказала: «Что ж, они неплохо поели», – и в ее голосе чувствовалась гордость хозяйки и одновременно некоторое разочарование, потому что на столе не осталось ничего из тех лакомств, которые она с такой заботой и усердием готовила, рассчитывая побаловать ими и нас.
– Точно вороны на падали, – сухо процитировал Канок.
И Меле со смехом заметила:
– Да уж, он явно не дипломат!
– Вряд ли кто-нибудь знает, кто он на самом деле. Интересно, зачем он приезжал?
– Похоже, его интересовал Оррек.
Отец глянул на меня: мне явно полагалось теперь уйти, но я точно врос в пол, во что бы то ни стало желая дослушать.
– Возможно, – сказал он, явно стараясь перевести разговор на другую тему, чтобы я все-таки ушел и не смог услышать, что он еще скажет матери.
Но мать мое присутствие совершенно не смущало.
– Неужели он всерьез говорил о помолвке? – спросила она.
– Та девочка как раз подходящего возраста.
– Но Орреку еще нет и четырнадцати!
– Она чуть младше. Я думаю, ей лет двенадцать-тринадцать. Зато мать у нее из рода Каспро.
– И что? Неужели только поэтому двое детей должны отныне считаться женихом и невестой?
– А что тут такого? – сказал Канок довольно жестким тоном. – Это ведь всего лишь первичная договоренность. Помолвка. До свадьбы нужно подождать еще несколько лет.
– Но они ведь совсем дети! Какие тут могут быть предварительные договоренности!
– Лучше все-таки решать подобные вещи раз и навсегда. От брака в наших краях зависит слишком многое.
– Даже слышать об этом не желаю! – помотала она головой. Она говорила тихо и отнюдь не высокомерно, однако возражала отцу крайне редко; возможно, именно это и вынудило его, и без того пребывавшего в страшном напряжении, перейти ту границу, которую он в ином случае никогда переходить бы не стал.
– Я не знаю, что задумал Драм, но если он предлагает помолвку, то предложение это весьма великодушное, и нам следует отнестись к нему со всем вниманием. Другой девушки, действительно принадлежащей к роду Каспро, нет во всем Западном крае. – Канок посмотрел на меня, и я невольно вспомнил, что именно таким задумчивым оценивающим взглядом он смотрит на жеребчиков и молодых кобыл, решая, какое у той или иной пары получится потомство. Потом он отвернулся и сказал: – Мне только совершенно непонятно, с какой стати он вдруг решил предлагать это нам. Возможно, он надеется на некую компенсацию…
Меле молча смотрела на него.
Нет, все это надо было срочно обдумать! Неужели Огге хочет как-то оправдаться перед отцом за то, что когда-то увел у него из-под носа всех трех невест, способных сохранить чистоту рода Каспро, и заставил его отправиться искать себе жену в Нижних Землях, где он в отчаянии и женился на такой, которая вообще, по нашим меркам, была без роду без племени?
Моя мать покраснела, такой красной я ее никогда не видел: ее смуглая кожа потемнела, как зимнее небо в час заката.
– А ты что же, ожидал… компенсации? – осторожно спросила она.
Но Канока, казалось, ничто не трогало; он оставался неколебимым как скала.
– Это было бы только справедливо, – сказал он. – И тогда у нас нашлись бы средства на починку каменных изгородей на границе наших владений. – Он прошелся по комнате. – Даредан была тогда еще совсем не старой. Не слишком старой, во всяком случае. Она же смогла родить Себбу Драму дочь. – Он снова подошел к нам и остановился, глядя в пол и что-то обдумывая. – Мы обязательно должны подумать над его предложением. Если он его повторит, конечно. Драм – очень опасный враг. Но он может быть и неплохим другом. И если уж он предлагает мне дружбу, я должен ее принять. Да и для Оррека такая возможность – самое лучшее, на что я мог надеяться.
Меле молчала. Она уже высказала свои соображения, и больше ей добавить было нечего. Если практика подобных помолвок между детьми и была ей внове и казалась отвратительной, то принцип договоренности родителей о браке для своих детей, как и использование брака в качестве финансового и социального залога, был ей хорошо знаком. А вот в вопросах отношений между хозяевами здешних владений, а также в сложностях, связанных с чистотой родословной, она совершенно не разбиралась и вынуждена была полагаться на опыт и знания моего отца.
Но у меня имелись собственные соображения на сей счет, и я, чувствуя, что мать скорее на моей стороне, решился высказаться.
– Но если вы помолвите меня с этой девушкой из Драмманта, – сказал я, – то как же Грай?
Канок и Меле разом обернулись и посмотрели на меня.
– А что Грай? – спросил Канок, притворяясь, будто ничего не понимает, хотя получалось это у него очень плохо.
– Мы с Грай тоже хотели бы заключить помолвку.
– Ты еще слишком мал, чтобы что-то решать! – взорвалась моя мать и тут же поняла, что зашла слишком далеко.
Отец некоторое время стоял молча, потом заговорил – осторожно, медленно, тяжело роняя слова и после каждого предложения делая паузу:
– Мы с Терноком говорили об этом. Грай из великого рода, и фамильный дар очень силен в ней. Мать хочет помолвить Грай с Аннреном Барре из Кордеманта, чтобы сохранить чистоту их дара. Впрочем, ничего еще не решено. Но эта девушка из Драмманта действительно принадлежит к нашему роду, Оррек. И для меня это очень важно, да и для тебя тоже. И для всех жителей Каспроманта. Такой возможностью пренебрегать нельзя. Драм – наш ближайший сосед, а родство – это наилучший способ наладить дружеские отношения.
– Но с Роддмантом-то мы всегда дружили! – возразил я уверенно.
– И я отнюдь не склонен недооценивать эту дружбу. – Отец задумчиво смотрел на разоренный стол и явно испытывал неуверенность, несмотря на все свои решительные заявления. – Впрочем, пока что тут не о чем говорить. Драм, возможно, ничего подобного более и не станет нам предлагать. Он ведь всегда одновременно пользуется и кнутом и пряником, а после ушата горячей воды может опрокинуть на тебя и ушат холодной. Вот поедем к ним в мае и постараемся разузнать, что имелось в виду. Вполне возможно, я неправильно его понял.
– Он, конечно, человек грубый и невоспитанный, но, как мне показалось, настроен вполне дружелюбно, – осторожно заметила Меле. «Грубый и невоспитанный» – в ее устах эти слова носили самый негативный смысл. Она применяла их ко всем. В данном случае это означало, что Огге Драм ей, безусловно, не понравился, но она чувствует себя неуверенно, ибо подобное безосновательное недоверие ей, вообще-то, совсем не свойственно. Видя в каждом человеке прежде всего доброжелательность, даже если ее там не было и в помине, она зачастую сама как бы создавала ее. И люди относились к ней с открытой душой; даже самые противные, вечно обиженные фермеры разговаривали с нею сердечно, а скупые на слова старухи из серфов поверяли ей свои горести и печали, точно сестре.
Я не мог дождаться, когда наконец увижусь с Грай и расскажу ей о визите Драма. Все это время меня держали дома, пока Огге наконец не осуществил свою прихоть. Обычно-то я был волен идти куда хочу, как только выполню всю порученную мне работу. В общем, на следующий же день я сказал матери, что поеду верхом в Роддмант. Она так посмотрела на меня своими ясными глазами, что я покраснел. Но вслух она ничего мне не сказала. И я пошел к отцу спросить, можно ли мне взять рыжего жеребчика. В этот раз, разговаривая с Каноком, я отчего-то испытывал непривычную уверенность. Во-первых, он видел, как я продемонстрировал наш фамильный дар, и, во-вторых, слышал мои смелые речи после визита Огге и заявления о возможной помолвке с его внучкой. И меня совсем не удивило, когда он разрешил мне взять рыжего Бранти и даже не напомнил, чтобы я держал его подальше от коров и быков, а потом не забыл выгулять как следует. А ведь он непременно напомнил бы мне об этом еще совсем недавно! Но тогда я был мальчишкой тринадцати лет, а теперь стал вполне взрослым, четырнадцатилетним мужчиной.
Глава 7
Я отправился в путь и, как всякий мужчина, был исполнен ощущения собственной важности и ответственности за близких. Рыжий Бранти бежал легким приятным галопом, и на пологих открытых склонах холмов его галоп напоминал скорее полет птицы. Он, кстати, не обращал ни малейшего внимания на глупых коров, пяливших на него глаза, и вел себя идеально, словно тоже преисполнился уважения к моему новому положению взрослого мужчины. Я был страшно доволен нами обоими. Мы резвым галопом подлетели к Каменному Дому Роддманта, и какая-то девчонка бросилась сообщать Грай о моем приезде. Я же в дом не спешил, неторопливо выгуливая Бранти по двору, чтобы конь немного остыл. Бранти и впрямь становился таким красавцем, что любому ездоку было впору им гордиться, а уж я и вовсе выступал по двору, точно павлин. Грай выбежала во двор и радостно бросилась к нам. Бранти, разумеется, тут же потянулся к ней, получил лакомство, посмотрел на нее с величайшим интересом, потом вдруг насторожил уши, шагнул к ней и прижался своим высоким лбом к ее лбу. Она приняла это торжественное приветствие как должное, ласково погладила коня по челке, легонько дунула ему в ноздри и заговорила с ним, издавая какие-то тихие невнятные звуки, которые называла речью животных. Мне она не сказала ни слова, но улыбка ее была радостной.
– Когда Бранти остынет, давай сходим к водопаду, – предложил я.
Мы отвели жеребца в стойло, дали ему сена и немного овса, а потом спустились в свою излюбленную лощину, где примерно в миле от мельницы, установленной на здешней речушке, к одному потоку присоединялся другой и оба рукава реки, слившись воедино, мчались дальше, образуя перекаты, и в одном месте падали с довольно высокого утеса шумливым водопадом в небольшое, но глубокое озерцо. От водопада постоянно тянуло холодным ветерком, заставлявшим кланяться кусты дикой азалии и черные ивы на берегу озера. В зарослях какая-то маленькая птаха без умолку пела свою простенькую песенку, а у нижнего края озерца издавна гнездился дрозд. Там мы перебрались вброд на другой берег и стали купаться; мы ныряли под водопад, карабкались на скалы, плавали, брызгались, кричали и, наконец, взобрались на большую плоскую скалу, нагретую солнцем, и улеглись там, чтобы немного просохнуть. Среди весны вода в озере была просто ледяная, но мы, точно выдры, никогда не чувствовали холода.
Названия этого скалистого выступа мы не знали, но он уже много лет подряд служил нам любимым местом для обсуждения всяких важных дел.
Некоторое время мы просто лежали, тяжело дыша и впитывая солнечное тепло. Но в душе у меня накопилось столько всего, что мне просто необходимо было немедленно все выложить Грай.
– Вчера к нам брантор Огге заезжал, – начал я.
– Я его тоже однажды видела, – равнодушно откликнулась она, – когда мать брала меня в их края на охоту. У него такой вид, словно он бочонок проглотил.
– Огге обладает могущественным даром, – тупо повторил я слова отца. Я хотел, чтобы она признала величие Огге и потом должным образом оценила мое самопожертвование, – ведь я же отказался стать его зятем. Но в эти минуты я еще не успел рассказать ей об этом, а потом, когда для этого пришло время, вдруг оказалось, что сделать это ужасно трудно.
Мы лежали голова к голове, прижавшись животами к теплой гладкой скале, точно две тощие ящерицы. Так было очень удобно разговаривать совсем тихо, как любила Грай. Она не была скрытной и вопить порой могла громче дикой кошки, но разговаривать всегда предпочитала тихим голосом.
– Он пригласил нас в мае приехать в Драммант.
Грай промолчала.
– Он сказал, что хочет познакомить меня со своей внучкой. Она по материнской линии тоже из рода Каспро. – Я прямо-таки слышал в собственном голосе отголоски отцовских аргументов.
Грай что-то невнятно пробормотала и надолго умолкла. Глаза ее были закрыты. Спутанные мокрые волосы закрывали ту половину лица, которую я мог видеть, а другой щекой она прижималась к скале. Мне даже показалось, что она уснула.
– И ты поедешь? – шепотом спросила она наконец.
– Знакомиться с его внучкой? Конечно.
– И согласишься быть с ней помолвленным? – Глаз она по-прежнему не открывала.
– Нет, что ты! – воскликнул я возмущенно, но несколько неуверенно.
– Вот как?
Помолчав немного, я сказал: «Да, так!» – хотя и не так возмущенно, но ничуть не более уверенно.
– Мать меня тоже помолвить хочет, – сказала Грай. Она приподняла голову и теперь смотрела прямо перед собой, упершись подбородком в скалу.
– С Аннреном Барре из Кордеманта, – сказал я, очень довольный тем, что узнал об этом раньше нее. Но Грай мое сообщение совсем не понравилось. Она ненавидела, когда о ней говорили за глаза. Ей нравилось жить незаметно, как та птичка в зарослях черных ив. Она молчала, а я чувствовал себя полным дураком. Чтобы как-то замять допущенную неловкость, я пробормотал: – Мой отец говорил об этом с твоим отцом. – Но Грай по-прежнему молчала, и я решил: она ведь спросила меня, так почему же мне нельзя спросить ее? Но как же трудно оказалось это сделать! Но я заставил себя произнести тот же вопрос: – И ты поедешь?
– Не знаю, – процедила она сквозь зубы, все так же упираясь подбородком в камень и глядя перед собой.
Ну вот, пожалуйста! Я с такой готовностью ответил на ее вопрос! Еще бы, разве можно было променять Грай на какую-то внучку? Но Грай-то не выказывала никакого особого желания отказываться от помолвки с этим Аннреном Барре ради меня! И я, глубоко уязвленный, выпалил:
– А я всегда думал… – и осекся.
– Я тоже так всегда думала, – прошептала Грай. И прибавила еще тише, так, что слова ее почти заглушил шум водопада: – Я сказала матери, что не хочу никакой помолвки, пока мне не исполнится пятнадцать. Ни с кем. Отец согласился. А мать рассердилась.
Грай вдруг перевернулась на спину и легла, раскинув руки и глядя в небо. Я сделал то же самое. Руки наши почти касались друг друга на теплом камне, однако лежали неподвижно.
– Значит, пока тебе не исполнится пятнадцать, – эхом повторил я.
– Пока нам не исполнится пятнадцать, – сказала она довольно громко и решительно.
И больше мы за долгое время не сказали друг другу ни слова.
Я лежал над озером и чувствовал, как счастье пронизывает меня, подобно солнечным лучам, а под собой я чувствовал такую же мощную опору, как та скала подо мной.
– Призови птичку, – шепотом попросил я Грай.
Она просвистела три какие-то ноты, и из качающихся под скалой густых зарослей мгновенно прилетел нежный ответ. Через минуту птичка пропела снова, но Грай ей не ответила.
Она могла бы призвать птичку к себе, и та села бы ей на ладонь или на палец, но она этого не сделала. Когда в прошлом году ее дар стал входить в полную силу, мы часто пользовались им для разных игр. Например, Грай заставляла меня ждать на лесной поляне, но не говорила, что мне предстоит увидеть, и я ждал с напряженным вниманием охотника, пока внезапно, всегда поражая меня до глубины души, передо мной не появлялась, например, косуля с детенышами. Или я вдруг чувствовал запах лисы, начинал озираться и наконец замечал, что лиса сидит в траве, в двух шагах от меня, спокойная, как домашняя кошка, элегантно обвив хвостом лапки. А один раз я почувствовал какой-то противный пугающий запах, от которого у меня по всему телу поползли мурашки, и увидел бурого медведя, который шел через поляну, ступая тяжело, но совершенно неслышно; в мою сторону он даже не посмотрел и вскоре исчез в лесу. Лишь через некоторое время после очередного представления Грай появлялась на поляне и, застенчиво улыбаясь, спрашивала: «Ну, тебе понравилось?» В случае с медведем я сказал, что медведей мне больше, пожалуй, показывать не стоит, а она ответила, что этот медведь не здешний; он живет в западных отрогах горы Эйрн, но из-за разлива реки спустился сюда на рыбную ловлю. Она могла призвать коршуна из поднебесья или заставить форель из озерца под водопадом высоко подпрыгивать, точно танцуя. Она могла отвести рой пчел туда, куда это было нужно пчеловоду. А однажды, исключительно из вредности, она заставила целый рой слепней гнать одного противного пастуха по всему болоту под горой Красная Пирамида. Спрятавшись там, мы смотрели, как бедняга скачет и машет руками, точно ветряная мельница, пытаясь спастись от преследовавших его проклятых насекомых, и давились смехом до слез.
Но тогда мы были еще детьми.
А теперь, когда мы лежали рядышком и смотрели в небо сквозь беспокойно трепещущую листву, чувствуя под собой теплую скалу, а над собой – горячее солнце, в мою душу, тесня ощущение мирного счастья, стала прокрадываться мысль о том, что я пришел сюда, чтобы поговорить с Грай не только о помолвках. Ведь ни я, ни она так ни словом и не обмолвились о том, что мой дар тоже наконец вошел в силу.
С того дня прошло уже недели две. Все это время мы с Грай не виделись – сперва потому, что я ездил с отцом и Аллоком чинить ограду, а потом нам пришлось сидеть дома и ждать, когда к нам соизволит заглянуть этот Огге. Если уж Огге, как оказалось, успел узнать, что я уничтожил ту гадюку, то и Грай наверняка слышала об этом. И все же она ничего мне не сказала. И я ничего не сказал ей.
Она ждет, чтобы я заговорил первым, думал я. А потом решил: она, наверное, хочет, чтобы я продемонстрировал ей свой дар. Показал его – как это делала она, легко и просто свистнув той птичке. Но я не мог вести себя столь же естественно. Стоило мне подумать о том, чтобы применить эту разрушительную силу, таившуюся во мне, и из меня, казалось, начинало уходить все живое тепло, а мирное настроение тут же улетучивалось. Нет, я не мог этого сделать! Я сердился, спрашивая себя: а почему, собственно, я должен кого-то убивать, что-то разрушать? Почему у меня именно такой дар? Да не стану я, не хочу, не буду!.. И тут какой-то внутренний голос говорил мне: ты должен всего лишь распустить узел в своей душе, освободить свои инстинкты. Пусть Грай, например, завяжет ленту в узел покрепче, а ты одним взглядом этот узел развяжешь. Любой, кто обладает таким даром, может легко это сделать. Аллок, например… Но какой-то другой голос сердито возразил: нет, я не буду, я не хочу ничего развязывать и уничтожать!
Я сел и уронил голову на руки.
Грай села рядом. Некоторое время она старательно сдирала болячку с почти поджившей царапины на своей загорелой ноге, потом вытянула ноги перед собой, любуясь ими и растопырив веером пальчики. Я был поглощен своими переживаниями – внезапным страхом и гневом, – но все же заметил, что она хочет мне что-то сказать, что она готовится к этому.
– Прошлый раз я вместе с матерью ездила в Кордемант, – начала она наконец.
– Значит, ты его видела?
– Кого?
– Этого Аннрена.
– Так я его и раньше не раз видела, – сказала она, точно отмахиваясь от этой темы, как совершенно несущественной. – Нет, мы ездили на большую охоту. Охотились на лосей. И охотники просили нас приманить стадо, которое медленно спускалось по берегу Ренни от подножия горы Эйрн. Все шестеро были вооружены луками, и мать хотела, чтобы с ними на охоту отправилась именно я. А я лосей призывать не хотела. Но мать сказала, что я должна. Она сказала, что люди ни за что не поверят, что у меня вообще есть какой-то дар, если я им пользоваться не буду. А я сказала, что лучше буду за лошадьми на конюшне ухаживать. Но она заявила, что за лошадьми кто угодно может ухаживать, а охотники просят подманить для них лосей. «Ты не должна отказываться от использования своего дара, – сказала она, – если в нем у кого-то возникает необходимость». Так что на охоту я пошла. И призвала лосей. – Мне казалось, Грай, сидя на нашей высокой скале, снова видит, как эти лоси спокойно подходят к ней… Она тяжело вздохнула и сказала: – Они подошли… И пятерых охотники убили. Трех молодых самцов, одного старого и лосиху. Перед отъездом они дали нам с собой кучу мяса и еще много всего – целую флягу меда, гору пряжи и всякие ткани. А мне они подарили красивую шаль. Я тебе ее покажу. Мать была просто счастлива. А еще они подарили нам нож. Вот это действительно просто прелесть! Рукоять у него сделана из лосиного рога и оправлена в серебро. Отец говорит, что это старинный боевой кинжал. Собственно, его отцу в подарок и прислали. И Ханно Корде еще пошутил: «Ты нам даешь, когда нужно, а мы – когда тебе даже и не нужно совсем!» Но отцу все равно кинжал очень понравился. – Обхватив руками колени, Грай снова вздохнула, но уже не с таким несчастным видом, хотя чувствовалось, что ее по-прежнему что-то гнетет.
Не знаю, зачем она рассказала мне эту историю. В общем, особого повода и не требовалось: мы с ней всегда все рассказывали друг другу – все, что приходило в голову. Она точно не хвасталась; она вообще никогда не хвасталась. Я так и не понял, что именно та охота на лосей значила для нее. Была ли она горда своим успехом или же нет? Возможно, она и сама этого не понимала и рассказала именно для того, чтобы понять. Но я чувствовал: рассказывая об охоте, она как бы просила, чтобы и я рассказал ей о том, как впервые и столь победоносно применил свой дар. Но я не мог об этом рассказывать.
– А когда ты кого-то призываешь… – начал было я и умолк.
Она терпеливо ждала.
– На что это бывает похоже?
– Не знаю. – Она явно не поняла вопроса. Да я и сам едва понимал его.
– Когда ты впервые попробовала применить свой дар, – сказал я, возобновляя атаку, – ты поняла, что он действует? Ты чувствовала что-то особенное?
– Ах, вот ты о чем… Да, чувствовала. – И больше она не прибавила ни слова.
Я ждал. Она молчала довольно долго. Потом все же пояснила:
– Он просто действует. – Грай нахмурилась, пошевелила пальцами ноги и прибавила: – Но у нас ведь совсем иной дар, чем у тебя, Оррек. Ты должен использовать свой глаз и…
Она колебалась, и я перечислил как заповедь:
– Глаз, руку, слово, волю.
– Да. А когда призываешь, то просто нужно определить, где находится тот, кого следует позвать, и подумать о нем. Конечно, каждый раз бывает по-разному, но, в общем, ты словно протягиваешь кому-то руку или вслух окликаешь его, но почти никогда ни рукой, ни голосом мы не пользуемся.
– Но ты знаешь, когда твой дар действует?
– Да. Потому что знаю, где те, кого я призываю, и они отвечают мне. Или приходят… И между нами возникает связь – словно вот отсюда, – и Грай коснулась груди, – протягивается невидимая нить, струна. И она натянута очень туго. Стоит лишь тронуть ее – и она запоет, зазвучит… – Я слушал ее разинув рот и выглядел, должно быть, совсем глупо. Грай покачала головой. – Ох, об этом так трудно рассказывать!
– Но ты же знаешь, как применять твой дар?
– Ну конечно! Я ведь еще до того, как призову кого-нибудь, уже чувствую эту связь, эту струну. Только тогда она не так сильно натянута.
Я понурился. Я был в отчаянии. Я попытался хоть как-то рассказать Грай о той змее, но слова не шли с языка. И Грай спросила:
– А что ты чувствовал, когда ту гадюку убил?
Вот так, очень просто она освободила меня от мучительного молчания и поисков нужных слов.
Но я не мог принять эту свободу. Я все-таки стал рассказывать и вдруг разрыдался. Впрочем, плакать я тут же перестал – мне стало стыдно, и я был страшно зол на себя.
– Ничего особенного я не почувствовал, – честно признался я. – Это было просто… просто никак! Никаких усилий не потребовало. А сколько вокруг этого шуму! Глупо!
Я встал, подошел к самому краю скалы и, присев на корточки и опершись руками о колени, нагнулся вперед и вытянул шею, чтобы увидеть озерцо под водопадом. Мне хотелось сделать что-нибудь безрассудное, смелое, совершить какую-нибудь бесшабашную глупость.
– Бежим на берег! – крикнул я, оборачиваясь к Грай. – Спорим, я обгоню тебя! – Грай тут же вскочила, ловкая и быстрая, как белка. Я выиграл, но сильно ободрал оба колена.
Я долго ехал на Бранти домой по залитым солнцем холмам, потом как следует выгулял коня, чтоб остыл, вытер его полотенцем, почистил щеткой, напоил, накормил и оставил в стойле презрительно фыркать на старушку Чалую. В дом я пошел с сознанием полностью выполненного долга, чувствуя себя настоящим мужчиной, хозяином. Отец ничего мне не сказал, и это тоже было нормально: так, как и должно быть; то, что я сделал, он воспринял как само собой разумеющееся. После ужина мать рассказала нам историю из «Чамбана», саги о жителях Бенгдрамана, которую знала наизусть почти целиком. В этой истории повествовалось о налете, который совершил герой Хамнеда на город злых духов; о том, как он потерпел поражение в бою с правителем этих духов, и о его бегстве в пустыню. Отец слушал не менее внимательно, чем я. Я хорошо помню тот вечер. Он показался мне последним… то ли в нашей счастливой семейной жизни, то ли в моем детстве. Я не знаю, что именно тогда закончилось, но на следующее утро, проснувшись, я оказался в совершенно ином мире.
– Пойдем-ка со мной, Оррек, – сказал мне отец уже ближе к полудню, и я решил, что он просто хочет со мною вместе прокатиться верхом, но он повел меня в сторону Рябиновой рощи. Когда наш дом скрылся из виду и мы оказались на заросшей травой полянке у Рябинового ручья, отец наконец остановился, а до того он не сказал мне ни единого слова.
– Покажи мне свой дар, Оррек, – попросил он так, что отказаться было невозможно.
Я уже говорил, что подчиняться отцу всегда доставляло мне удовольствие, хотя частенько удовольствие это было не из легких. Но это была давняя привычка, приобретенная еще в раннем детстве, и я всегда следовал ей. Мне просто никогда и в голову не приходило, что я могу не подчиниться отцу. Да я никогда этого и не хотел. Все его просьбы, даже самые трудновыполнимые и непонятные, всегда в итоге оказывались разумными и правильными. Я прекрасно понимал, чего он хочет от меня и почему он просит об этом. Но делать это я не желал.
Кремень и кресало могут годами лежать рядом совершенно спокойно, но ударь ими друг о друга – и посыплются искры. Мятеж, бунт, протест всегда возникают мгновенно, без предупреждения, точно искра, порождающая яркое пламя.
Я стоял к отцу лицом – я всегда так стоял, когда он обращался ко мне, – и молчал.
Он указал мне на заросли кипрея и еще какой-то травы и предложил – не приказал, а именно предложил бодрым тоном:
– Попробуй-ка распутать эти травы.
Я застыл как вкопанный. Лишь взглянув на этот кипрей, я больше ни разу в ту сторону даже не посмотрел.
Некоторое время отец выжидал. Потом вздохнул, и что-то неуловимо изменилось во всем его облике; я чувствовал, какое от него исходит напряжение, хотя он молчал. Потом он вдруг очень тихо спросил:
– Так ты выполнишь мою просьбу?
– Нет, – ответил я.
Снова повисло тягостное молчание. Я слышал слабое журчание ручья, пение птиц в роще, мычание коров на ближнем пастбище.
– Ты можешь это сделать?
– Я не стану этого делать.
Снова помолчав, он сказал:
– Тут нечего бояться, Оррек. – Голос его звучал ласково.
Я закусил губу, сжал кулаки и ответил:
– Я не боюсь.
– Чтобы уметь управлять своим даром, ты прежде всего должен им пользоваться. – Канок говорил по-прежнему мягко, ласково, и это ослабляло мою решимость.
– Я не буду им пользоваться.
– Но тогда он может воспользоваться тобой.
Это было неожиданно. Вот и Грай что-то такое говорила мне о своем даре и о том, как он использует ее. Но сейчас я не мог вспомнить ее слов. Я был смущен, но признавать этого не желал.
И упрямо покачал головой.
Отец нахмурился; он гордо вскинул голову, словно перед ним стоял враг, а не родной сын, и всякая ласка из его голоса тут же исчезла.
– Ты должен продемонстрировать мне свой дар, Оррек, – отчеканил он. – Если не хочешь мне, то покажи его другим. Тут выбор за тобой. Обладать определенным могуществом означает также служить этому могуществу. Пройдет время, и ты станешь брантором Каспроманта. Здешние жители будут зависеть от тебя, как сейчас – от меня. Ты должен доказать им, что они могут на тебя рассчитывать. И должен научиться использовать свой дар – но для этого тоже нужна тренировка.
Я снова покачал головой.
После очередной невыносимо мучительной паузы он спросил почти шепотом:
– Тебя тревожит то, что это своего рода убийство?
Я не был уверен, что дело именно в этом, в этой моей способности убивать, что я из-за этого и взбунтовался. Я, конечно, думал об этом, но не слишком отчетливо, хотя каждый раз меня охватывал тошнотворный ужас, стоило мне вспомнить ту крысу или ту гадюку… Но сейчас я одно знал твердо: я не желал, чтобы меня испытывали, не желал пробовать в действии ту ужасную силу, что, возможно, живет во мне, и не желал, чтобы эта сила завладела всем моим существом. Но в словах Канока была лазейка, которой я и воспользовался. И кивнул.
А Канок тяжко вздохнул – это было единственным проявлением разочарования или нетерпения с его стороны – и отвернулся. Потом пошарил в кармане куртки и выудил оттуда кусок бечевки. Он всегда носил с собой всякие такие вещи – в хозяйстве все могло пригодиться. Завязав веревку узлом, он бросил ее на землю между нами и молча посмотрел сперва на нее, потом на меня.
– Я тебе не собачка, чтобы всякие фокусы показывать! – огрызнулся я, и тут же воцарилась ужасная звенящая тишина.
– Послушай, Оррек, – сказал отец, выдержав паузу. – В Драмманте ты обязан будешь непременно показать свой дар. Мы за этим туда и едем, если уж говорить начистоту. Если ты этого не сделаешь, что подумает о тебе Огге Драм? Это ты себе представляешь? Если ты откажешься использовать свою силу, нашим людям не к кому будет обратиться за защитой. – Он тяжко вздохнул и дрожащим от сдерживаемого гнева голосом прибавил: – Неужели ты думаешь, что мне нравится убивать крыс? Я ведь не терьер какой-то. – Он отвернулся, помолчал, потом продолжил: – Подумай о своем долге, Оррек. О нашем долге. Подумай об этом как следует. И когда поймешь, в чем заключается твой долг, приходи ко мне.
Затем Канок наклонился, подобрал с земли веревку, развязал на ней узел, снова сунул ее в карман и стал быстро подниматься по склону холма к Рябиновой роще.
И теперь я каждый раз вспоминаю, как бережно он тогда подобрал ту жалкую веревку; веревки у нас были редкостью, и разбрасываться ими было нельзя. И снова слезы выступают у меня на глазах, но не слезы стыда и ярости, как в тот день, когда я, рыдая, брел вдоль ручья и ничего не видел перед собой.
Глава 8
После того случая отношения у нас с отцом сильно изменились – теперь между нами стояли его требование и мой отказ. Однако внешне это почти никак не проявлялось. Несколько дней отец этой темы вообще не касался и уж больше ничего, разумеется, мне не приказывал, лишь как бы между прочим спросил однажды, когда мы возвращались домой после объезда наших восточных пастбищ:
– Ну что, не хочешь ли сейчас испытать свой дар?
Но моя решимость за это время еще больше возросла; я был защищен этой решимостью, точно стеной; я прятался в ней, как в сторожевой башне замка, и от требований и вопросов отца, и от своих собственных тревог и сомнений. Так что ответил я моментально:
– Нет.
Моя непоколебимость, должно быть, поразила его. Он ничего больше не сказал. Он вообще все время молчал, пока мы ехали домой. И до конца дня тоже со мной не разговаривал. И вид у него был усталый и суровый. Мать, конечно, заметила это, а возможно, догадывалась и о причине.
На следующее утро она попросила меня подняться к ней в башню, сказав, что шьет мне новую куртку и ее надо померить. Я долго стоял перед нею с вытянутыми в стороны руками, точно огородное пугало, а она ползала вокруг меня на коленях, что-то наметывала, отмечала, где нужно сделать прорезные петли, и только потом сказала, не разжимая губ, поскольку во рту у нее были булавки:
– Твой отец беспокоится.
Я нахмурился и ничего не ответил.
Она вынула булавки изо рта и, не вставая с колен, села на пятки. И посмотрела на меня.
– Он говорит, что не понимает, почему брантор Огге так вел себя: сам напросился в гости, нас к себе пригласил, да еще и всякие намеки отпускал насчет помолвки. Канок говорит, что между родами Драм и Каспро никогда не было дружеских отношений. Но я считаю, что лучше поздно, чем никогда. Я так ему и сказала. А он только головой покачал. Все это очень его тревожит.
Я ожидал от нее совсем иных слов. И был очень удивлен и даже несколько отвлекся от собственных мыслей. Я, правда, не знал, что ей сказать, и, стараясь найти какие-то ободряющие и не слишком глупые слова, предположил:
– А может, это потому, что теперь у нас с ними общая граница? – Лучше я ничего придумать не сумел.
– По-моему, как раз это отца и беспокоит, – сказала Меле. Снова сунув булавки в рот, она принялась подкалывать полу куртки. Это была настоящая мужская куртка из черного фетра, моя первая «взрослая» куртка.
– В общем, – сказала она, вынимая изо рта булавки и снова откидываясь на пятки, чтобы оценить проделанную работу, – я буду очень рада, когда этот визит к Драмам окажется позади!
Я чувствовал, что моя вина так велика, что прямо-таки придавливает меня к полу, словно новая черная куртка сделана из свинца.
– Мам, – сказал я, – отец хочет, чтобы я упражнялся в применении своего дара, а я не хочу, и это его сердит.
– Я знаю, – сказала она, осматривая меня со всех сторон. Потом вдруг подняла голову и посмотрела мне прямо в лицо, продолжая сидеть передо мной на полу. – Но в этих делах я не могу помочь ни тебе, ни ему. Ты и сам это знаешь, Оррек, правда? Я не понимаю, что такое эти ваши дары. И в ваши отношения с отцом встревать не хочу. Мне очень тяжело видеть вас обоих такими несчастными, но я могу сказать только одно: это ради тебя, ради всех нас он просит тебя научиться применять твой дар. Он бы не стал просить, если бы в этом было что-то дурное, постыдное. И ты это прекрасно понимаешь.
Меле, разумеется, вынуждена была принять сторону отца. Это было правильно и справедливо, и в то же время я чувствовал, что это немного нечестно по отношению ко мне: почему вся сила должна непременно быть на его стороне? Почему ему принадлежат все права, все его доводы считаются правильными и даже Меле всегда на его стороне? Почему они всегда оставляют меня в одиночестве, глупого, упрямого мальчишку, не способного ни использовать свой дар, ни предъявить свои права, ни привести сколько-нибудь весомые аргументы. Понимая всю чудовищную несправедливость подобного положения, я не стал даже пытаться что-то объяснять матери. И гордо промолчал, погрузившись в свой яростный стыд, спрятавшись за каменными стенами своего упрямого сопротивления.
– Ты не хочешь пользоваться своим даром, потому что тебе неприятно причинять вред живым существам, да, Оррек? – спросила меня мать чуть ли не застенчиво. Даже со мной она стеснялась говорить о таких вещах, как мой «великий дар», потому что слишком мало о нем знала.
Но отвечать на ее вопрос мне не хотелось. Я стоял как истукан – не кивнул, не пожал плечами, не сказал ни слова, – и, озабоченно заглянув мне в лицо, она еще раз осмотрела свою работу, быстро что-то исправила, что-то подколола и ловко сняла с моих плеч наполовину законченную куртку. Потом легонько прижала меня к себе, поцеловала в щеку и подтолкнула к двери.
Дважды после этого Канок спрашивал меня, не хочу ли я испытать свой дар. Дважды я отмалчивался. И на третий раз он не спросил, а потребовал:
– Оррек, ты должен мне подчиниться!
Я по-прежнему молчал. Мы стояли с ним недалеко от дома, но вокруг никого не было. Отец, надо сказать, никогда не унижал и не стыдил меня в присутствии других людей.
– Скажи, чего ты боишься?
Я молчал.
Он наклонился ко мне; его лицо было совсем близко, и в глазах его я увидел такую боль и смятение, что меня будто ударили кнутом.
– Ты боишься своей силы или того, что у тебя этой силы нет?
У меня перехватило дыхание, и я выкрикнул:
– Я ничего не боюсь!
– В таком случае воспользуйся своим даром! Немедленно! Разрушь хоть что-нибудь! – Он взмахнул правой рукой. Левая его рука, сжатая в кулак, была плотно притиснута к боку.
– Нет! – сказал я, весь дрожа и прижимая руки к груди; глаз я поднять не смел – мне было не вынести взгляда его сверкающих глаз.
И так, не поднимая головы, я услышал, что он повернулся и пошел прочь. Его шаги прошуршали по тропинке, затем по двору. Но я не посмотрел ему вслед. Я смотрел на юный побег, только что начавший выпускать листочки под апрельским солнцем, и представлял его себе черным, мертвым, скрюченным, но руку не поднимал, и голосом не пользовался, и волю в кулак не собирал. Я просто смотрел на этот побег и видел, какой он зеленый, живой, веселый и как ему безразличны мои переживания.
После того дня отец больше не просил меня применить мой дар. Все шло как обычно. Он почти не говорил со мной. Впрочем, он и прежде нечасто со мной разговаривал. Он больше не улыбался мне, не смеялся, и я не смел посмотреть ему в глаза.
К Грай я ездил, когда только мог. Я брал Чалую. Я ни за что не стал бы спрашивать у отца, можно ли мне взять Бранти. У них в Роддманте гончая принесла сразу четырнадцать щенков; щенята давно уже перестали сосать мать, но были все еще очень забавные, смешные, и мы с удовольствием подолгу играли с ними. Я особенно полюбил возиться с одним из них, и однажды Тернок, остановившись поодаль и наблюдая за нами, предложил: